Люди города и предместья (сборник) Улицкая Людмила
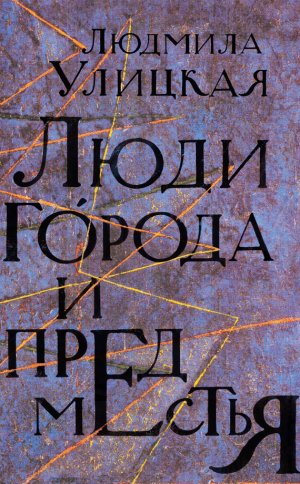
В домоуправлении тоже долго не открывали. Но в окошке горел свет, и Борис Иванович стучал, пока изнутри не зашевелились. Медленно открылась дверь, высунулась встрепанная башка.
— Кирилл! Стыд-то есть у тебя? Стучу, стучу! Во втором подъезде света нет! Во всем подъезде вырубился! Аварийку вызывай!
— Борис Иваныч! А чего ты ко мне? Сам бы и вызвал! — удивился Кирилл, как будто его попросили в балете станцевать.
— Ты ж дежурный! Мне что же, впотьмах звонить? У меня и телефона аварийки нет.
— К Рудику бы пошел, он, должно, на месте, — посоветовал Кирилл.
И тут спокойный Борис Иванович вспылил:
— Вы тут сидите бездельники, ничего не делаете, только водку жрете! Иди сам Рудика ищи либо аварийку вызывай! Весь подъезд без свету сидит, а ты яйца чешешь!
— Да ладно тебе, Борис Иваныч, чего сразу орать, вызовем, само собой, — и кудлатая голова исчезла, а Борис Иванович остался стоять у закрытой двери, размышляя, не позвонить ли самому: кудлатый этот дурак доверия не вызывал.
Иван Мстиславович запер дверь и вернулся в большую из двух комнат. Во всем подъезде он был единственный, кто занимал двухкомнатную квартиру единолично. На пятом этаже. Восемнадцать лет, как уехал сын, пятнадцать, как умерла жена, десять, как ослеп окончательно. И привык жить вот так, без света, с одной только музыкой. И теперь спешил поскорее включить магнитофон, чтобы послушать ту музыку, которую слышал в пятьдесят девятом живьем, а потом много раз на пластинке, пока пластинка так не истерлась, что уже слушать было невозможно, и хотя он помнил все фразы, все интонации, все повороты мысли, запечатленные приземистой непричесанной старухой в изношенном до прозрачности платье, с просвечивающим через ветошь синимтрико, в резиновых кедах с распущенными шнурками, — он нарочно сдерживал шаги, замедляя себя и удлиняя предвкушение встречи.
Налил воды из графина, касаясь горлышком мутного стакана, — Анна Николаевна, приходящая домработница, сама была стара, с трудом справлялась с хозяйством, плохо видела и плохо убиралась, так что стакан был грязным, но никто этого не замечал. Иван Мстиславович отпил глоток, поставил стакан точно на свое место: он был очень точен в движениях, следил за собой, чтобы не расстраиваться от поисков разбегающихся предметов. Сел в кресло. Слева стоит маленький столик с магнитофоном. Новая, Владимиром Петровичем принесенная кассета лежит рядом. Владимир Петрович отказался от совместного прослушивания, он всегда торопился домой, потому что не любил темноты. Бедный, совсем еще молодой, только-только пятьдесят, и такая разрушенная нервная система. Впрочем, о чем тут говорить: меломан — существо тончайшее…
Иван Мстиславович вставил кассету. Помедлив, нажал «пуск». Магнитофон от сети не включился, Иван Мстиславович переключил на батарейки… Это была Двадцать девятая соната Бетховена, его непревзойденный шедевр, в исполнении другого великого мастера, тоже непревзойденного, Марии Вениаминовны Юдиной… Разговор бессловесных душ с Господом.
Аллегро. Вдох. Господи… Hammerklavier… Сто лет спорили, глупцы… Просто Бетховен сказал по-немецки то, что в ту пору все говорили по-итальянски. Музыка для фортепиано. Да, конечно, полная победа немецкого гения над итальянской прелестью, легкостью, божественным чириканьем. И сам Бетховен так не исполнил бы. Да и инструменты были несовершенные, звучали глухо и тихо. Музыка к обеду. К телятине и к рыбе…
Большая лохматая голова на короткой шее. Да она и была на Бетховена похожа. Могучая, святая, юродивая… Как играет… Как никто. Двадцать девятую мало кто исполняет, кому по плечу? Вот-вот…
Иван Мстиславович всегда плакал в одних и тех же местах. Вот тут. И тут. Удержаться невозможно. Глаза ни на что не годны, только вот на слезы, подумал он и смазал рукой по щеке… Вот Владимир Петрович утешил. Надо будет попозже позвонить, поблагодарить. Ученик-то был так себе, литературу не понимал, но в консерватории встречались исключительно на хороших концертах. Видимо, родители его водили. И подружились позже, когда Володя школу закончил. В консерватории встречались… Верный оказался. И музыке, и старому учителю…
Но скерцо, скерцо! Какая внятность, какая ясность мысли, чувства. Бедный Людвиг! Или слышит на небесах, как Мария Вениаминовна переводит его с небесного на земной? И свет небесный пробивается. Не утренний, не вечерний. Ну конечно, про то и сказано — «свет невечерний»… Всё набирает силу, расширяется, крепнет в центре и звенит, отзывается на окраинах. Нет, Рихтеру так не давалось… И мощь, и ласка… Опять отер слезу.
Вот. Третья часть. Адажио… apassionato e con molto sentimento. Но это просто нельзя перенести. Какие человеческие трагедии? Всё растворяется, осветляется, очищается. Один свет. Только свет. Игра света. Игра ангелов. Господи, благодарю тебя, что ослеп. Ведь мог и оглохнуть… И я не Бетховен, и музыка беззвучная не слышалась бы мне, как ему… Великая старуха. Великая…
Иван Мстиславович знал ее издалека. С теткой Валентиной в гимназии училась она в одном классе. Невыносимая была. Девицы над ней смеялись, когда маленькие были. А подросли — почуяли великий талант. На гимназических вечерах играла да забывала остановиться. Чуть со стула не стаскивали. Юродивая всегда была, с самого детства. Святая…
Вот оно, фуга… Неземная музыка… Нет, это исполнение пятьдесят второго года. Откуда взял, что пятьдесят девятого? У Рихтера разваливалась эта фуга. Да никто ее сыграть не мог. А когда Юдину хоронили, Рихтер играл на похоронах в вестибюле консерватории. Но не Двадцать девятую. Это невозможно, никому, кроме нее, невозможно…
Иван Мстиславович слез уже не утирал, они вольно бежали по заросшим щетиной щекам. Он был неопрятный, неухоженный старик, в заляпанной едой домашней кофте, с запавшим ртом — вставная челюсть его давно сломалась, и починить ее можно было в какой-то далекой мастерской, куда и не доедешь, а новые зубы делать — хлопотно, да и с кем в поликлинику ходить? Анна Николаевна сама еле ходит… Какое счастье! Какой ослепительный свет!
Соната длилась ровно тридцать восемь минут. Когда она кончилась, зажегся свет. Но этого Иван Мстиславович не заметил.
Анжела как раз ушла от Рудика. Рудик ткнул отверткой в щиток, и свет загорелся во всем подъезде.
Возле подъезда стояла огромная счастливая Лотта, она набегалась, извалялась в снегу и теперь сторожила коляску. Хозяин понес Анечку наверх, но что-то долго не возвращался за коляской. Но ньюфаундленды верные собаки, и она смирно стояла возле коляски, и хлопья падали на ее густую шерсть, и от снега как будто посветлело, и в доме опять горел свет.
Тайна крови
Установление отцовства
Поскольку наука не стоит на месте, а движется вперед, а возможно, что и вбок, но со страшной скоростью, два десятка лет тому назад мучимые подозрениями мужья настаивали на проведении анализа крови, который бы доказывал или отвергал их отцовство. Наука тогда была неповоротливая, по сравнению с теперешней просто умственно отсталая, и доказать она ничего толком не могла, а всё, что умела, — в некоторых случаях исключить отцовство. Приходит такой подозрительный муж, сдает анализ крови и заставляет предположительно неверную жену и ни в чем не повинного ребенка сдать анализы. Мужу сообщают результаты анализов, и оказывается, что он никак не может быть отцом ребенка. И всё. Но при этом оставалось множество случаев, когда нельзя было сказать ни то ни се… То есть платить алименты при разводе или нет, наука не знает, а мужчине совершенно не светит платить двадцать пять процентов кровной зарплаты бывшей жене-обманщице и ребенку, которому он никак не отец, а вообще неизвестно кто…
Другое дело теперь. Генетика! Ей раз плюнуть ответить на этот простенький вопрос: берем ДНК от родителей, от ребеночка, даже можно не от родителей, а от бабушки-дедушки, и ответ ясен как дважды два четыре: платить! Правда, эта самая наука никак не сможет дать точного ответа на вопрос, изменяла ли жена мужу, когда и сколько раз. Но это, возможно, со временем тоже разрешится: прогресс-то идет невиданными шагами. И вот образуются шеренги неплательщиков алиментов, отказников, беглецов, и в большинстве своем они люди просто принципиальные: им не денег жаль на чужого ребенка, а исключительно чувство справедливости велит сопротивляться бабьим покушениям…
Изредка встречаются мужчины беспринципные, один такой Лёня живет по соседству: роста невысокого, полноват, лысоват, на лице полуулыбка и очки. И даже нельзя сказать, что интеллигент, — интеллигента из него не получилось: и семья не так чтобы очень, и высшее образование незаконченное. Хотя на работу ходит с портфелем. А женат — на страшной красавице: высокая, грудастая, чуть-чуть до Софи Лорен не дотягивает, но в этом роде. Зовут Инга.
Поженились они с Лёней сразу после школы. Были одноклассниками, жили в одном дворе, дружили с пятого класса. Годам к четырнадцати у Инги образовались настоящие поклонники, взрослые, и это всех учителей раздражало: родителей на собрание вызывали за плохое поведение рано развившейся девочки. Но плохого поведения, собственно, не было. Оно было просто другим, ее поведение. Училась прилично, общественной работой не увлекалась, а вечером уходила на свидания и приходила не очень поздно, к оговоренному с родителями часу.
Для всех это замужество Инги было просто шоком: что она в нем нашла? Родила она после свадьбы месяца через четыре, что до некоторой степени объясняло нелепый брак. Подозрения, намеки — но Лёня молчит и улыбается. «Совсем дурачок», — решил народ.
Лёня возил по выходным колясочку с мальчиком Игорьком, сидел с ним в песочнице, качал на качелях. В основном-то с ребенком возилась Ингина мать. Потом Инга вдруг пропала, но ненадолго. Появилась снова, развелась с Лёней и уехала к новому мужу. Игорек остался у ее матери, и Лёня переехал обратно к своим родителям, но с сыном возился по-прежнему. Ленина мать, вообще-то Ингу не любившая, тоже часто оставалась с внуком.
Инга сына не бросала, приезжала раз в месяц на два дня: жила она теперь не в Москве, а в Калининградской области, где служил ее муж, военный моряк. Потом она приехала беременная, пожила недели две у мамы, родила девочку в московском роддоме — муж тем временем всё служил, а Лёня бегал в роддом, носил передачи и привез Ингу из роддома. Инга еще недели две провела у матери и уехала в Калининград с новенькой девочкой.
Через два года Инга с девочкой вернулась окончательно — развелась с военным моряком. Всех интересовали подробности, но ни сама Инга, ни ее мать — ни слова… Лёня стал бегать к ним каждый вечер, а потом и вовсе перебрался к Инге. Такая семья хорошая задалась: мальчик, девочка — золотые детки. Прожили два года, и опять та же беда. Инга встретила настоящую любовь. На этот раз всё выглядело очень прочно, даже окончательно: Инга уехала с двумя детьми, далеко-далеко…
Лёня опять переехал к родителям, хотя часто захаживал к бывшей теще, которая любила его. Пироги пекла, водку на стол ставила, хотя был Лёня по общепринятым понятиям человек непьющий: ну, рюмку, другую.
Умерла неожиданно нестарая Лёнина мать, и это еще более сблизило бывших родственников. Бывшая теща подбивала его на женитьбу, уговаривала.
Ходил Лёня неприкаянным несколько лет, а потом женился на своей сослуживице Кате, не очень молодой, не очень красивой, маленького роста, с жидкими волосами, но, в отличие от Лёни, энергичной — словом, такая женщина как раз и была ему по плечу и по карману.
Она переехала в Лёнину квартиру и родила ребенка. Леночку. Лёня ходил по субботам-воскресеньям с колясочкой, сидел в песочнице, качал девочку на качелях. Иногда заходил к бывшей теще — по старой памяти, и про Ингу немного поговорить. То есть сам-то он не спрашивал, она и так рассказывала.
И про Ингу, и про ее мужа, директора завода в Самарканде. Жила Инга богато, мать ее навещала и восхищалась хоромами, коврами и прочим богатством Саида, нового мужа. Главное же — сын. Красавец ребенок получился.
Было нечто, о чем теща и не рассказывала: что женаты официально Инга с Саидом не были, с родителями своими Саид ее не знакомил, а жила красавица Инга на положении наложницы. Потом — после четырех лет! — вернулась Инга со старыми двумя и с одним новым ребеночком. Младший — восточный красавец. В первый же вечер Инга вызвала Лёню, долго с ним разговаривала о чем-то, и он поздно ночью вернулся домой, к жене, и с ней долго разговаривал, и опять жизнь развернулась самым странным образом.
По фактам так: Лёня развелся со своей родной женой и снова женился на Инге. Младший мальчик, восточный красавец, исчез тем временем в неведомом направлении. Заметим в скобках — в направлении Ингиной одинокой тети, в город Бологое, даже не в самый город, а на его окраину, в частный деревянный дом на полдороге между Москвой и Ленинградом.
Пока всё это тихо и невидимо миру, то есть двору, происходило, на Ингу было совершено нападение, ее избили до потери сознания, сломали нос, руку и ребра. Она полежала в больнице и вышла. Нападение организовал бывший ее муж-немуж Саид, поскольку, уезжая тайным образом, увезла она и сынка, которого ей, по понятиям Саида, ни под каким видом увозить не полагалось. Исколошматили ее и обещали приезжать каждый месяц и бить до тех пор, пока она сынка не вернет. Но они приехали второй раз не через месяц, как обещали, а через три. Однако исполнили наказание с душой — опять бедная Инга попала в больницу. И опять сказали: убивать не будем, но будем наказывать, пока сына не отдашь.
Лёня тем временем усыновил Ингиного сына, и даже имя ему переменили — с Ахмата на Алешу. И прежнюю фамилию родной матери тоже, само собой, переменили. Инга написала бывшему своему возлюбленному письмо, что вышла замуж, ребенка усыновили, и если хочет ее убить, пусть убивает, но мальчика он никогда не увидит. И уехали всей семьей в Бологое, для воссоединения семьи, к мальчику Алеше.
Самаркандские басмачи опять приезжали, но Инги не нашли и отстали. Саид тем временем женился по-хорошему, на племяннице большого узбекского человека, и молоденькая жена сразу же родила мальчика, так что про своего первенца Саид забыл.
В Бологом к Лёне пришла удача: образование — почти законченное — было у него экономическое, а в это время как раз организовывался мелкий бизнес, все хотели быстренько разбогатеть, у некоторых получалось. Лёню все нанимали на открытие фирм, фирмочек и разных обществ, собирающихся делать из воздуха деньги, — он что-то умел такое, чего местные люди еще не освоили, и стал очень прилично зарабатывать. И полагающиеся своей второй жене и родному ребенку деньги ежемесячно отсылал, хотя и не двадцать пять процентов, а поменьше. Но сумма очень приличная…
Теткин частный дом перестроили, добавили к нему с одного боку две комнаты и большую террасу. И всё было хорошо целых три года. Дети отца тормошили, когда приходил он с работы, девочка от военно-морского мужа, тоже Леночка, как и своя родная, хоть и большая, всё просила на ногах покачать, и Лёня, сцепив ступни скамеечкой, сажал на них девочку и качал, а она даже глазки закатывала от удовольствия. Младший Алешка так его любил, что спать не шел, пока отец с работы не придет и на ночь его не поцелует. Когда младшие укладывались, подсаживался Игорь — поговорить с отцом.
Потом Инге надоело сидеть дома, она выписала в помощь тетке еще и мать, навалила на нее детей и пошла на работу в городскую управу секретарем. Все местные бабы ее вмиг возненавидели, мужики на нее пялились, а начальник, немолодой и простоватый, бывший партийный чин, а теперь по административной части, первое время смотрел на нее с непониманием: дело она делала лучше всех, соображала, как хитрый змей, обладала еще и талантом точного знания, кого пускать, а кого не пускать… А внешности ее он не понимал: губастая, носатая, волосы горой, неприбранные, но чем-то она его притягивала. И ноги ставит так тесно, ходит, а коленочки одна об другую трутся…
Начальник был мужик приличный, никаких шашней за ним не числилось, ничего для него дороже дела не было. А на эту Ингу он смотрел, смотрел и влюбился как-то ненароком. Самому было неловко перед собой. А Инге нравилась эта растерянность и неловкость, и она слегка поигрывала перед «сибирским валенком», как она описывала его Лёне, и как-то вдруг образовалась страшная тяга между ними. Нешуточное дело. И прорвало плотину с двух сторон, и понесло. С начальником происходило неведомое ему событие под названием страстная любовь. И она была такая новая, единственная, как будто даже первая, потому что он совершенно не помнил, какие такие чувства были у него к жене, когда они женихались. И были ли? Тому прошло тридцать лет: он сразу после армии женился на самой красивой девчонке в деревне, а потом они вместе ездили на партучебу, поднимались, шли в гору. Вот эта совместная жизнь и была вся любовь. Сын был. Уже взрослый, в Москве устроился.
Инга тоже летала как на крыльях: и у нее такого не бывало! Крупный человек, во всех отношениях крупный, не шелупонь какая-нибудь.
Мужиков у Инги было множество, все с изъяном: от которого первый сынок родился, — подлец был натуральный, военно-морской был хорош собой, но дубина дубиной, Саид хоть и красавец был, но восточный человек, с другими понятиями, и коварный…
Лёнечка был, конечно, золото, чистое золото, но его незначительная внешность, лысинка, ручки белые короткопалые, и как он кушает, маленькими долгими жеваниями перекатывая еду во рту, — от всего этого воротило…
Самое же таинственное в их с Лёней отношениях было то, что был он в полном порядке и мужское дело делал подробно, грамотно, добротно. И с большой любовью… Но в том и была беда, что всякий раз, когда снова она оказывалась с Лёнечкой, означало это только одно: опять у нее любовная неудача, опять провал, опять беда…
Словом, служебный роман достиг небес, обоих колотило от счастья, от каждодневной близости, от безнадежности и временности происходящего, потому что обоим было ясно, что нельзя рушить налаженный мир. И каждая встреча, выкроенная, тайная, должна была бы быть последней, если по-хорошему. Но за ней случалась еще одна, послепоследняя, и еще одна…
Инга забеременела — и успокоилась: как будто произошло главное. И она ушла с работы, рассказала обо всем Лёне, а он и так уже догадался. Бессловесно ходили они по большому дому, — было лето, и второй этаж, холодный, делался в это время жилым, — стараясь друг на друга не натыкаться. В конце концов столкнулись, и Инга попросила Лёню:
— Уезжай.
Лёня уехал. Вторая жена и дочка приняли его, и он снова жил в старом дворе, в родительской квартире, а квартира Инги, во втором подъезде, была сдана жильцам.
Дочка Леночка любила отца застенчиво, издалека. Он с ней занимался и уроками, и в цирк ходил. Поставил компьютер и научил на клавиши нажимать, и купил компьютерные игры. Толстоватая девочка, в жену Катю, была мучнистая, скучненькая, совсем не похожая на тех детей, Ингиных, — от них дом ходил ходуном, было ярко и весело. Как от Инги…
Используя старые связи и Катино согласие на прописку бывшего мужа, он снова прописался в родительскую квартиру, устроился на хорошую работу: он всё еще был нарасхват, потому что и в Москве его знания об устройстве мелкого бизнеса были пригодны, а денег больших он никогда не запрашивал.
Инге он послал перевод. Перевод вернулся. То же было и со вторым. Прошел год, и он, положив в портфель пачку денег, поехал в Бологое.
Он подходил к дому, и сердце у него колотилось. Никому бы и в голову не пришло, что у такого полноватого, лысоватого, совершенно неромантического вида мужчины может колотиться сердце от ожидания встречи с женщиной, которая его никогда не любила, любить не могла и не будет ни за какие коврижки.
В палисаднике стояла коляска. Возле коляски — восьмилетняя Леночка. Алеша с криком выскочил на крыльцо, а она замахала руками: тише! И тут же сама, увидев Лёню, закричала:
— Папа! Папа приехал! Папочка!
И оба они — восточноглазый Алеша и Леночка — красавцы, неземной породы, тонкие и длинные, дети из итальянского кино, повисли на нем, тыкались в него головами и коленками, орали что-то невнятное. Только Игорька не было дома, не пришел еще из школы…
Инга, откинув занавеску, смотрела из кухни. Опять пришел Лёня — отец ее детей, лучший человек на свете, любивший и любящий, и всегда и впредь… Нет слов…
А Леночка, дочь военно-морского дурака, уже откинула полог у коляски и показывала нового младенца, которого даже не надо было усыновлять: он и так был его, Лёниным…
Но и другая Леночка, родная, кровная, с половиной отцовской ДНК и с той самой группой крови, могла полностью рассчитывать на двадцать пять процентов.
Нельзя сказать, что жена Катя приняла второй уход мужа со смирением. Она ему всё высказала, что было у нее на душе. Он выслушал ее понуро, помолчал изрядно и сказал:
— Катюша, я виноват перед тобой, что тут и говорить. Но и ты меня пойми: Инга такая хрупкая, такая ранимая… Ей без меня никак не справиться. А ты человек крепкий, сильный, ты всё выдержишь…
Старший сын
Малышка росла, не касаясь ногами земли, передаваемая с рук на руки старшими братьями и немолодыми родителями. Братьев было трое, и между младшим из братьев и последней девочкой было пятнадцать лет: нежданный, последний ребеночек, рожденный в том возрасте, когда уже ожидают внуков…
Старшему из братьев, Денису, исполнилось двадцать три. Все трое мальчиков, дети из хорошего дома, от добрых родителей, росли, не доставляя никому огорчений: были красивы, здоровы, хорошо учились и не думали курить в подъездах или топтаться в подворотнях.
Но скелет в шкафу стоял. О нем совершенно не думали весь год, но двадцать пятого ноября он начинал тревожно постукивать косточками, напоминая о себе. А дело было в том, что старший сын Денис был на год старше годовщины свадьбы, и потому, празднуя каждое двадцать пятое ноября, родители старательно уводили разговор в сторону от года, когда этот самый день двадцать пятого ноября случился. Год не сходился с датой рождения старшего сына. И это могло потребовать разъяснения. До поры до времени как-то удавалось обойти это скользкое место, но каждый раз в день торжества родители, в особенности отец, заранее нервничали. Отец семейства напивался еще с утра, чтобы к вечеру никто не мог ему предъявить недоуменные вопросы.
Друзей было много: некоторые, друзья давних лет, знали, что мальчик Денис рожден был вне брака, от короткого бурного романа с женатым человеком, который исчез из поля зрения еще до рождения мальчика. Другие люди, приходившие в дом, вовсе не знали об этой тайне — вот этих самых людей, любителей восстановить ход исторических событий с выяснением точных дат посадок и выходов на свободу родителей-диссидентов или годов окончания институтов, разводов, отъездов и смертей, — немного побаивались.
Женившись, отец немедленно усыновил годовалого мальчика, и один за другим появились на свет еще двое, и жизнь пошла трудная, веселая, в большой тесноте, в безденежье, но, в сущности, очень счастливая. Их последняя, Малышка, придавала новый оттенок счастливой жизни: она была сверхплановая, совершенно подарочная девочка, беленький ангел, избалованный до нечеловеческого состояния…
Приближалась очередная годовщина свадьбы, и отец, как всегда, заволновался. И надо было такому случиться, что за неделю до события он с младшим из сыновей забежал по какому-то бытовому поводу в дом к старой приятельнице, бывшей когда-то наперсницей жены, свидетельницей давнего романа, и выпили немного, и расслабились. Младший сын копался в домашней библиотеке, а хозяйка дома ни с того ни с сего коснулась вдруг этого старого нарыва. Отец заволновался, зашикал, но остановить собеседницу уже не мог — она покраснела, раскочегарилась и начала вопить:
— С ума сошли! Как это можно столько лет молчать? Мальчик от чужих узнает, расстроится. Какая травма будет! Не понимаю, чего вы боитесь?
— Да, боюсь, боюсь! И вообще замолчи, ради бога, — и он указал глазами на младшего, восемнадцатилетнего, который то ли слышал, то ли нет. Стоял у открытого книжного шкафа и листал какую-то книжную ветошь.
— Ну, нет! — вскинулась старая подруга и окликнула мальчика. — Гошка! Подойди сюда!
Гоша не подошел, но положил книгу, поднял голову.
— Знаешь ли ты, что Денис родился от другого отца, и его усыновили, когда ему был год?
Гоша ошеломленно посмотрел в сторону отца:
— Пап, и от другой матери, что ли?
— Нет, — понурился отец. — Мы с мамой поженились, когда Денису был год. Она его родила раньше…
— Вот это да! — изумился Гоша. — И никто не знает?
— Никто, — покачал головой отец.
— И мама? — спросил он.
Хозяйка захохотала, сползая со стула:
— Ну, вы… ну, вы… семья идиотов!
Засмеялся и Гоша, сообразив, что сморозил глупость. Отец налил в большую рюмку водки, выпил. Пути к отступлению теперь у него не было.
Всю неделю он плохо спал. Просыпался среди ночи, не мог заснуть, крутился, будил жену, затевал с ней разговор, а она сердилась, отмахивалась: вставать ей было рано, какие уж тут ночные разговоры…
Он наметил этот разговор на двадцать пятое, решил, что скажет сыну до прихода гостей, чтоб не было времени мусолить, чтоб сразу к плите, к столам…
Но не получилось. Денис задержался в институте, пришел, когда первые гости уже рассаживались.
Отец быстрейшим образом напился, и мать сердилась на него — мягко, ласково, посмеиваясь. Они, мало сказать, любили друг друга — они друг другу нравились: даже когда она впадала в истерику, а с ней такое случалось, и рыдала, и швыряла предметы, — он смотрел на нее с умилением: как женственна… А он, пьяный, казался ей трогательным, страшно искренним и нуждающимся в ее опеке…
Трое мальчиков уступили места за столом в большой комнате гостям, сами устроились на кухне, по-домашнему. К тому же они были не совсем втроем, скорее, впятером, потому что двое старших уже об завелись девушками, и они сгрудились над кухонным столом и, опережая неторопливое застолье взрослых, ели принесенный кем-то из гостей многоярусный торт в кремовых оборках, барочный и приторный.
Отец уснул прежде, чем разошлись гости. Проснулся утром, похмельный, заставил себя встать и принялся мыть вчерашнюю посуду. Все еще спали. Первым на кухне появился Денис. Отец ждал этой минуты. Вылил в рот припрятанный на утро большой глоток водки, взбодрился и сказал сыну:
— Сядь, поговорить надо.
Денис сел. Они все были высокие, но этот, старший, перемахнул за метр девяносто. Отец выглядел как-то плоховато, да и приготовление к разговору было непривычным: торжественным и скорее неприятным. Отец наклонил пустую бутылку, из нее выкатилось несколько капель, он понюхал и вздохнул.
Пока отец снимал и надевал очки, укладывал перед собой руки на столе, как школьник, кряхтел и морщился, Денис успел прикинуть, что же именно такое неприятное скажет ему сейчас отец: возможно, насчет его девушки Лены. Будет предостерегать от женитьбы. Или по поводу аспирантуры, которая была Денису предложена, но он решил идти работать, потому что было хорошее предложение…
«Нет, что-то более серьезное, уж больно отец нервничает…» И вдруг мелькнула ужасная догадка: родители разводятся! Точно! Не так давно у приятеля отец ушел из семьи, и мать страшно переживала, и даже совершала какие-то нелепые попытки самоубийства… И приятель сказал, что раньше это называли революцией сорок восьмого года, потому что на подходе к старости бывает у мужчин такой порыв — начать новую жизнь, завести новую семью…
Он посмотрел на отца отстраненным взглядом: отец был еще вполне ничего, русые волосы почти без седины, яркие глаза, худой, не расползшийся…
И он представил себе с ним рядом какую-нибудь из молоденьких девушек, которых так много приходит в их дом… Да, возможно. Очень даже возможно… Он попробовал вообразить их дом без отца, и его насквозь прожгло.
— Денис, я давно должен был тебе сказать, но всё не решался, хотя понимаю, что надо было раньше…
«Господи, мама, Малышка… Невозможно. Невозможно», — подумал Денис и понял, что сейчас расплачется, и собрал жестко рот, чтобы углы не опадали, как у обиженного ребенка.
— Эта наша годовщина, каждый год меня колотит, когда она подходит, потому что ты родился за год до нашей свадьбы…
Отец замолчал. Сын все никак не мог понять, о чем он толкует, что он так мучительно хочет ему высказать.
— Ты про что, пап? Ну, за год… О чем ты?
— Мы тогда не были женаты…
— Ну и что? Ну, не были, — недоумевал сын.
— Да мы с мамой тогда даже знакомы не были! — в отчаянии воскликнул отец, потерявший надежду на то, что когда-нибудь этот дурацкий разговор закончится.
— Да ты что? Правда? — удивился Денис.
— Ну да. Вот такие дела, понимаешь… Денис.
У Дениса отлегло от сердца: никакой революции… никакого развода…
— Пап, и это всё, что ты хотел мне сказать?
Отец пошарил рукой по столу. Поболтал бутылкой, посмотрел на свет — она была окончательно пуста.
— Ну, да…
Оставалось решить с Ленкой. Денис поскреб ногтями какую-то прилипшую крошку на столе.
— А я тоже хотел тебя спросить, это… Как тебе моя Ленка?
Отец немного подумал. Не очень она ему нравилась. Но это не имело никакого значения.
— По-моему, ничего, — покривил душой отец.
Денис кивнул:
— Ну и ладно. А то у меня было такое впечатление, что она тебе не очень…
— Да ты что, очень даже… — Это была проблема воспитательная, но не из самых важных.
Тут открылась дверь, и вошла четырехлетняя Малышка. На четвереньках. Она изображала собаку.
Отец и сын кинулись к ней одновременно, чтобы поднять, подхватить на руки. И стукнулись лбами. И оба засмеялись. И смеялись долго, так долго, что Малышка начала плакать:
— Вы всегда… вы всегда надо мной смеетесь… Как вам не стыдно… Вот маме скажу…
Певчая Маша
Невеста была молоденькая, маленькая, с немного крупной, от другого тела головой, однако если вглядеться, то настоящая красавица. Но лицо ее было так живо и подвижно, выражение лица столь переменчиво — то улыбалась, то смеялась, то пела, — что вглядеться было трудно. Как только она закончила музыкальное училище и нанялась на свою первую работу в Рождественский храм, в дальнем московском пригороде, где до этого уже год пела на левом клиросе бесплатно, в виде практики, так сразу же и вышла замуж за певчего.
Когда их венчали, здешние старухи исплакались от умиления: молодые, красивые, свои, церковные, она в белом платье и в фате, а он в черном костюме, на голову выше, волосы цыганскими кольцами, длинные и, как у попа, резиночкой схвачены. А зовут — Иван да Марья. Иоанн и Мария. Для русского уха — просто сказка и музыка: как они друг к другу подходят, эти имена. И свадьбу справили прямо в церкви, в поповнике, небольшом хозяйственном строении на церковной земле. Накрыли большой стол, всего нарезали — колбасы-ветчины, сыру-селедки, огурцов-помидоров. Зелень привозная, кавказская, как будто весна. По календарю и впрямь была весна, Фомина неделя, но в тот год тепло запаздывало и ничего своего в Подмосковье еще не было.
Свадьба получилась как будто немного строгая — всё же в церкви хорошо не погуляешь, зато пели чудесно: и стихиры пасхальные, и народные песни, и северные, и украинские, которые Иван сам знал и Машу научил. Потом Маша спела еще и какие-то чужие, на иностранном языке песни, не церковного звучания, но тоже очень красиво…
Иван переехал в Машин дом, в Перловку. Своей площади у него не было, он родом был из Днепропетровска. Теперь они и на спевки, и на службы ездили вдвоем на электричке, и смотреть на них было глазу одно удовольствие. Все их знали, все их любили. Потом Маша родила в срок, как полагается, первого мальчика, через полтора года — второго. И всё оставалась маленькой, тоненькой, девчонка девчонкой. Детей они таскали с собой на службы, один — в коляске, второй — на руках у Машиной мамы. А в хоре Иван стоит повыше, Маша ступенькой ниже, он над ней возвышается, а она к нему иногда потянется, голову крупноватую с простым пучком под платочком повернет, заулыбается, и все, кто рядом стоят, тоже улыбаются…
Приход эту семью очень любил, потому что у всех в домах были свои неурядицы и чересполосицы, и люди понимали, что все беды по делам, за грехи, а эти двое были наглядным доказательством того, что если хорошо себя вести, жить по-церковному, то и жизнь идет хорошо…
Потом Иван решил поступать в духовную академию — для семинарии он был уже стар. В академию поступить не просто, но он шел по особой статье: хорошее музыкальное образование, в хоре пел уже много лет, да и связи за эти годы завелись. Его давно звали в регенты, но он не хотел на клиросе стоять, хотел в алтаре…
Иван бросил свою основную работу учителя пения в школе, стал готовиться к поступлению. Маша радовалась, хотя и беспокоилась: матушкой быть не просто, большая ноша, а она была и молода, и слишком шустра, и весела для такого звания. Вообразила, что получит Иван приход в хорошем месте, в маленьком городке или в большом селе, где люди добрые и неиспорченные, и природа не топтаная — чтобы рядом речка, лес, дом с террасой… Она так красиво придумала, а потом испугалась: а ну как дети заболеют, а в деревне ни врачей, ни больниц. Спросила у мужа, как он думает дальше жизнь планировать: в область на приход или в городе? Иван коротко жену обругал дурой, но она не обиделась. Ну, сказал и сказал, она про себя знала, что не дура, а про него — что характер трудный. Ивана в академию взяли, и он теперь переехал в общежитие, дома появлялся редко, был строг с Машей и детьми, старшего Ваню, трехлетнего, даже побил, и Машина мама, Вера Ивановна, плакала, но ничего ему не сказала. А Маша нисколько не расстроилась, только плечами пожала:
— Он им отец, пусть учит. Ведь с любовью же, а не со зла.
Но Вера Ивановна не понимала, как это можно бить ребенка с любовью, да еще за такую вздорную мелочь: тарелку с кашей перевернул!
Жизнь в Лавре накладывала новый отпечаток на Ивана: прежде он был щеголеват, одевался в хорошие костюмы с галстуками, любил цветные рубашки, а теперь, кроме черного, ничего не носил и даже дома не снимал с себя полуказенной одежды. Шпынял Машу за розовые блузочки и пестрые бусы, которые она любила. Она послушно сняла бусы и бисерные плетеные браслеты, перестала носить пышный, в цветных заколочках пучок, вместо этого заплела волосы в косу и закрутила в скучный бабий узел. Только глазами всё сияла и улыбалась с утра до вечера: сыновьям Ванечке и Коленьке, маме Вере Ивановне, окошку, дереву за окном, снегу и дождику. Мужа ее постоянная улыбка раздражала, он хмурился, глядя на ее сияние, спрашивал, чему это она так радуется, а Маша простодушно отвечала:
— Да как же мне не радоваться, когда ты приехал!
И сияла дальше.
Маша ожидала лета, каникул, надеялась, что муж поживет дома, повозится с малышами. Дети от него отвыкли за последний год, младший пугался и отворачивался, когда видел отца. Но на каникулы Иван в Перловку не поехал и крышу чинить не стал, как обещал Вере Ивановне: вместо того уехал на богомолье в дальний монастырь. Маша расстроилась, но не хотела матери показывать, что переживает, и потому всё улыбалась по-прежнему, а Вере Ивановне сказала беспечно и глуповато:
— Да нам же и лучше, мамочка! Сдадим полдома дачникам, а осенью наймем рабочих и сами крышу починим, и просить никого не надо! А то ведь правда, что народ скажет: священник сам по крыше лазает?
— Да какой он священник, пока что никто… — ворчала Вера Ивановна, удивляясь на дочь: совсем глупая, что ли?
Сдали полдома дачнице, своему человеку, из прихожан храма: пожилая врач Марина Николаевна. На субботу-воскресенье к ней приезжала ее племянница Женя, тоже интеллигентная женщина. Иван, когда узнал, что сдали комнату с террасой, страшно рассердился, кричал, но дом, между прочим, был Веры Ивановны, о чем она ему и напомнила. Он собрал вещи в сумку и ушел, хлопнув дверью.
Вера Ивановна заплакала и попросила прощения у Маши, но Маша ничего не ответила, стояла у зеркала и косу расплетала и расчесывала, а потом сделала себе пучок по-старому, с заколочками.
А маленький Ваня к двери подошел и, потянувшись, крючок на гвоздь навесил.
Маша поехала к батюшке, тому самому, что их венчал, — он теперь в другом храме был настоятелем, — и рассказала, как неладно дела идут в семье. Он ее поругал, что сдала комнату без спросу у мужа, велел впредь от мужа не своевольничать, а что он от них уехал на богомолье, то от того только одна польза и никакого вреда.
Осенью Иван приехал навестить жену с детьми, привез подарков, но больше духовного содержания, чем практического. Подарил икону заказную, двойную — Иоанн Воин и Мария Магдалина. Маша обрадовалась: она уже не знала, что и думать про мужа, — любил он ее или совсем разлюбил, — но подарок был со значением, это были их святые покровители, и, видно, он тоже их разлад переживал. Под вечер не уехал в Загорск, остался. А давно уже не оставался. И Маша была рада-радехонька. Она любила мужа всей душой и всем телом, и чувства ее поднимались той ночью как волны на море, сильно и высоко, и сделала она движение между любящими как будто не запрещенное, но в их супружеском обиходе не принятое, хотя и волнующее чуть не до обморока. Иван стонал и вскрикивал, и Маша прижимала ему легонько рот пальцами, чтобы потише стонал, деток не разбудил.
Утром Иван просил Машу проводить его на электричку и по дороге сказал, что теперь она себя совершенно выдала, какая она испорченная и разгульная, а только всю их жизнь притворялась невинною, и что ни от кого не укрылось, что и детей она родила не от него, поскольку оба мальчика беленькие и голубоглазые, в то время как должны бы быть кареглазыми и темноволосыми.
Маша ничего ему не сказала, а только заплакала. Тут подошла электричка, и он уехал на ней в Лавру, учиться дальше на священника. Полтора месяца Иван не приезжал, и Маша взяла старшего Ванечку и поехала в Лавру субботним ранним утром, чтобы показаться перед мужем и ласково обратно к дому призвать. Маша приехала в середине службы, он в хоре стоял, но на нее не смотрел, хотя она приблизилась к самому клиросу. Он был очень красив, но лицо его было грозным, борода, прежде маленькая, хорошо постриженная, разрослась до груди, и он сильно похудел — это даже под бородой было видно.
Когда служба отошла, она к нему приблизилась, а он рукой ее отвел, как занавеску, а на Ваню даже и не поглядел… Маше стало страшно от такого его жеста, а особенно от глаз, которые смотрели вперед и как будто мимо них, — как на иконе «Спас Ярое Око». Она сразу поняла, что пришла беда, но не знала какая.
Больше Маша в академию не ездила, и он дома не бывал до весны. Весной приехал, в дом не вошел, вызвал ее на улицу и сказал, что дело его решенное: пусть сама подает заявление, что брак их недействительный, чтобы его отменили.
Маша не поняла:
— Разводиться с нами хочешь?
— Нет, какой тут развод, дети чужие, всё обман был…
Маша сначала как будто улыбнулась, но сразу и заплакала:
— Ваня, да я же девушкой за тебя выходила, ты первый у меня и единственный…
— Магдалина ты и есть, только нераскаянная… Я брака обманного не признаю, — твердо сказал Иван, а на жену даже не смотрит, всё в сторону.
— Так венчанный брак, Ваня! Мы же перед Господом… — сквозь слезы лепетала Маша, но всё было напрасно.
— Развенчают… Обманный брак развенчают! — сказал Иван как о решенном деле.
— А дети? — всё упорствовала Маша, боясь потерять свое кривое счастье.
— Что дети? Не мои дети! Иди делай экспертизу, тебе и анализы то же скажут — не мои дети!
— Да сделаю я эти анализы! Ваня, наши это детки, Коля-то как на тебя похож, только светлый, а Ванечка, ты посмотри, ведь волосики у него потемнели, вырастет — как у тебя будут… — пыталась Маша развернуть разговор в хорошую сторону, но сила ей противостояла самая страшная, какая бывает: безумие. Оно было уже вполне созревшим, но пока было сдерживаемо внутри, и дикие подозрения облекались в логическую форму. Иван стал перечислять все Машины прегрешения: как ходила к подруге на третий день после свадьбы, а была ли там, проверить теперь нельзя, но он-то знает, что не было ее там, и на концерт ходила два раза с мамой, только программа-то была не та, что она ему тогда объявила… Обман, всегда обман! А главное: она себя разоблачила, всю свою испорченность, когда после каникул он домой приехал, а она уж такое искусство перед ним выделывала, как последняя девка с площади…
И дальше, дальше множество всего, чего Маша не помнила, и что главное — ведь никогда прежде он никаких таких упреков не делал: неужто столько лет в себе держал?
Развелись и развенчались: в Патриархии Иван получил про то справку. Вера Ивановна удивлялась: таинство церковное, как это отменить можно? А крещение? А отпевание? А причастие само? Тоже можно отменить?
Маша детей на свою фамилию переписала. Как будто они ее, исключительно только ее собственные, без мужского участия рожденные! А Иван академию закончил и сподобился монашеского чина. Большая духовная карьера перед ним открывалась. Это уже через людей узналось.
Маша не столько даже горевала, сколько недоумевала, удивление пересиливало все прочие чувства. Она надела черный платочек, вроде траур, да и платочек шел ей как нельзя больше. В церкви к ней относились хорошо, хотя и сплетничали. Она теперь была не просто так, а с интересным несчастьем.
Лето было на редкость жарким, от черного платка пекло голову, и Маша недолго его проносила: надоел.
У нее было теперь две работы: в церкви и в народном хоре при Доме культуры. Ванечку готовили к школе, ему было шесть с половиной, но он был умненький, сам читать научился, хотел в школу, но с письмом справлялся очень плохо, и Маша сидела с ним в свободное время, писала палочки и крючочки. Занималась с ним также и дачница Марина Николаевна, и ее племянница Женя. А потом Женя привезла на дачу сына своих друзей из Риги, семнадцатилетнего Сережу, он поступал в университет, но срезался и остался пожить немного на даче после плачевного провала. И к этому Сереже Машины сыновья потянулись как к родному: все висели на нем, от себя не отпускали, а он с ними был так хорош, так весел, и они играли, как ровесники — то в прятки, то еще во что…
Сережа был немного на Машу похож: тоже небольшой, светленький, тоже немного головастый, но был он похож еще больше не на теперешнюю Машу, а на ту, какой она была до замужества. Еще невинностью своей они были схожи…
В последний предотъездный вечер, когда дети были уложены и весь дом заснул, они сидели на крыльце, и возникла между ними сильная тяга, так что взялись они за руки, потом немного поцеловались, а потом в беседке на скамеечке они поцеловались погорячее и как-то само собой, без вынашиваемых намерений, невзначай, легко и радостно обнялись крепко-крепко, и ничего плохого или стыдного — одно только счастливое прикосновение… Сережа уехал наутро, и Маша помахала ему рукой, дружески и весело. А потом оказалась беременной. Сережу она разыскивать не стала: он ни в чем не был перед ней виноват. И вообще никто ни в чем не был виноват. Маша не расстраивалась, ходила приветливая и ласковая ко всем, пела в хоре. Расстраивалась Вера Ивановна, что так трудно у Маши жизнь складывается, но ее не упрекала и ни о чем не спрашивала.
Когда живот ее стал заметен, церковная староста, строгая, но справедливая, сказала ей, что лучше бы она из хора сама ушла.
— Я уйду, — легко согласилась Маша. И пошла к батюшке: привычка у нее такая была, когда надо что-то решить — благословение брать.
Священник был старый и невнимательный, но Маша сказала ему о своем беременном положении. Он подумал немного, оглядел ее выпуклую по-рыбьи фигуру, покивал головой и сказал:
— Пока что ходи.
Потом Маше было неприятно: ей всё казалось, что за спиной шепчутся. Она даже молилась Божьей Матери, чтобы Она ей Покров свой дала от чужих глаз. Один раз Маша особенно раздосадовалась — реставрировали иконостас, и два пришлых мастера стояли ну совсем уж против нее и что-то о ней говорили. И нашла на нее такая дерзость, что она подошла к ним поближе и сказала:
— Всё, что вам обо мне сказали, — всё правда. Муж меня с детьми бросил и ушел, может, и в монахи, а теперь я еще и беременна. Да.
Повернулась и пошла прочь.
Один из двух мастеров, что постарше, с тех пор всё на нее пялился, а она отворачивалась. Такая игра как будто между ними завязалась: он ищет ее взгляда, а она смотрит рядом с ним, но мимо. Так смотрели они друг на друга месяца два, реставрационные работы уже шли к концу, как и Машина беременность. Однажды, под самое Рождество, после долгой службы он подошел к ней и сказал:
— Вы мне сразу не отвечайте, завтра скажете. Я бы хотел на вас жениться. Я серьезно говорю, я это давно уже обдумал.
Маше стало вдруг смешно, и она сразу же ему ответила:
— А чего мне думать-то? Я за вас пойду.
И пошла прочь, а он так и остался стоять: то ли шутка не удалась, то ли не ожидал такого скорого решения.
Маша приехала домой поздно, Вера Ивановна ждала ее, не ложилась, она за Машу очень тревожилась. Маша ей от двери сразу и сказала:
— Мам, мне сегодня художник предложение сделал.
— Ты чаю-то попьешь, нет? — спросила мать, пропустив мимо ушей глупую шутку.
— Мам, мне предложение сделал художник, который алтарь реставрирует.
Вера Ивановна рукой махнула:
— Не хочешь чаю, так ложись. Я уже постелила.
— Ну, мам, я серьезно.
— А зовут-то его как?
— А я не спросила. Завтра спрошу.
Поженились они вскоре, еще до рождения сына. Назвали Тихоном. Муж Саша оказался лучше всех на свете. Новорожденного ребенка, когда дома был, с рук не спускал, любовался, уходя на работу по два раза возвращался, чтобы еще взглянуть напоследок. Мальчики старшие сразу стали звать его отцом, а на школьных тетрадях, где отчества вообще-то не полагается, выписывали: Тишков Иван Александрович и Тишков Николай Александрович. Когда Тихон Тишков пошел в школу, у них родился еще один сын. Маша немного огорчилась: ей хотелось девочку. Но она молодая, может, родит и девочку.
А про того, первого, прошел слух, что достиг большого положения, а потом и повесился. Может, врали… Когда Маше сказали, она перекрестилась, сказала: «Царствие Небесное, коли так». И подумала:
«А ведь если б он не бросил нас таким жестоким образом, и Сашу бы не узнала… Ах, слава Богу за всё!»
Сын благородных родителей
Гриша Райзман потерял глаз еще в отрочестве — дворовый несчастный случай в сочетании с неудачным медицинским вмешательством. Ему сделали глазной протез и вставили вместо живого глаза стеклянный, и было совсем незаметно, тем более что он все равно носил очки: здоровый глаз был близорук.
Больше всего на свете Гриша любил поэзию и сам был поэт. Нельзя сказать, что это была любовь совсем без взаимности, потому что иногда стихи получались настолько хорошими, что их печатали в газете. Всю войну, от первого до последнего дня, и даже еще немного после ее окончания, Гриша прослужил военным корреспондентом в полковой газете — а не в «Красной Звезде».
Для понимающих людей разница ясна: полковые газетчики — на передовой.
Лучше всего Грише удавались стихи военные, и даже когда война отгремела, он всё не мог сойти с этой темы, всё поминал тех, «которые в Берлине сражены за две минуты до конца войны»… Демобилизовавшись, он еще долго донашивал военную форму и ходил в сапогах даже в те времена, когда все бывшие военные перешли на штиблеты или валенки. Так он и ходил по редакциям — маленький худой еврей бравого вида, в круглых очках и с папиросой между указательным и средним пальцами левой руки.
Для всех нормальных людей война кончилась, и все рвались поскорее в будущее, подальше от военных страданий, а он сердцем прикипел к дымящемуся кровавому прошлому и писал о солдатах, о лейтенантах, о переправах, о простом герое войны. И о великом вожде тоже писал, конечно.
В одной из редакций познакомился с милой девушкой Белой по прозвищу «Бела с ножками», которое получила она скорее за хороший характер, чем за стройные ножки — будь она стервой, было бы у нее прозвище «Бела с носом». Гриша влюбился в нее и женился. Бела была немного старше Гриши. Семья ее была расстреляна в Бабьем Яру. И еще говорили, что был у нее когда-то жених, но погиб на фронте, и она вышла за Гришу не от большой любви, а от симпатии и желания завести семью и родить ребенка.
У Белы была комната в Каретном переулке, и они зажили прекрасно — дружно и весело. Только с ребенком всё не получалось. Прожили год, другой, и Бела пошла к врачам провериться. Нашли, что у нее всё в порядке. Предложили проверить мужа и обнаружили какой-то редкий дефект: дееспособен, но потомства иметь не может. Бела почувствовала себя обманутой, Гриша ходил понурый — хоть и ни в чем перед женой не виноват, а все равно, как будто обманщик.
Прошел еще год-другой, послевоенные ожидания как-то не совсем оправдывались, жизнь не становилась ни лучше, ни веселей — если не считать, конечно, веселенькой истории с космополитами, которая глубоко смутила Гришу. Он был простой советский парень, патриот и интернационалист, а с этим космополитизмом была какая-то нестыковка между генеральной линией партии и генеральной линией его честного сердца. Он старался привести всё к общему знаменателю, чтоб всё сошлось к простому и верному решению. Но никак не сходилось, и он страдал. И вот в самый разгар этих трудных дней Бела села перед Гришей на стуле, положила перед собой красивые руки с маникюром и объявила, что беременна. Космополиты выскочили мигом из Гришиной головы. Бела рассказала, что у нее завелась любовная связь с одним ученым, секретным человеком, и что она хочет рожать ребенка. Лет ей было уже за тридцать — давно пора…






