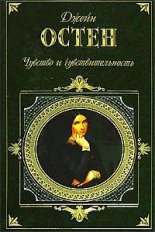Пророк Темного мира Волков Сергей

Пролог
Права народная мудрость — никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. И к добру, к худу ли такие потери и обретения — этого человеку понять тоже не дано. После памятной зимней рыбалки на Спасском озере, после того, как братья Возжаевы стали свидетелями боя между неведомыми жуткими обитателями «буржуйского поселка» и не менее жутким спецназом, Павел сильно изменился. Исчез придурковатый увалень, слюнявый, вечно улыбчивый деревенский дурачок, едва умевший самостоятельно штаны застегнуть да ложку с кашей в рот отправить. Теперь это был поджарый, быстрый в движениях и суровый в словах человек. Чужой человек. Он мало ел, почти не спал, а все ходил, ходил вокруг Разлогово, по полям, лесам, берегами Камаринки, и запавшие глаза его горели вызывающим оторопь даже у брата Петра огнем.
Дачники, понаехавшие с приходом лета в деревню, боялись этого нового, переродившегося Павла. Петр как-то краем уха услышал разговор двух дачниц, почтенных матрон, точивших лясы у колонки:
— Психа-то нашего видала? Раньше был теленок, а теперь — волк! Глянет, аж мурашки по спине.
— Да уж, дал Бог соседа. Теперь за детьми смотреть надо. На речку уже так, как раньше, не отпустишь. Прибил бы его кто-нибудь…
Прибить пытались. Развеселые компании, прикатывающие в Разлогово на выходные — покуражиться среди березок, водки нажраться, навести шороху на тихую деревеньку, — стали задирать парня. В прошлые годы такого не было. Обычно если Павел и подходил к городским гулеванам, одаривали его от щедрот хлебосольной пьяной русской души куском арбуза, пирожным, конфетами, пытались стопку налить. Теперь все изменилось.
— Чё смотришь? — наливаясь непонятной, тягучей злобой, поднимались от мангала мужики и шли на Павла, как в атаку. — Вали отсюда, козел!
Павел в ответ мрачнел, сводил поседевшие после того памятного дня брови к переносице и грозил готовым броситься в драку людям коричневым пальцем.
— Плохо живете! Нельзя так!
Пару раз доставалось. Побои он сносил молча, не рыдал, как прежде, не бился в припадках, не звал Петра на помощь. Получив пару затрещин, отсмаркивал кровь из носа, утирал разбитые губы и снова за свое:
— Плохо живете! Нельзя так!
К концу июня, когда неожиданно дуром поперло в огороде — только успевай поворачиваться, — заметил Петр в брате новую перемену. К Павлу начали льнуть животные. Кошки, собаки, коза старухи Иванихи, птицы, что испокон веку живут возле человеческого жилья, окружали худого, нелепого человека, бегали и летали за ним как привязанные. «Пан спортсмен», дачник, круглый год обитавший в Разлогово, возвращаясь однажды с одной из своих вечных пробежек, увидел, как по пыльному проселку вышагивает Павел, а за ним цепочкой семенит десяток ежей.
— Меня как по башке ударило, — рассказывал «Пан спортсмен» Петру. — Он ж как гаммельнский крысолов! Только дудочки не хватает.
Дудочки у Павла и впрямь не было. Чем-то другим привлекал он к себе разных тварей и зверюшек. Привлекал — и привечал. Кормил мышей хлебными крошками, пересвистывался с синицами, что-то ворчал горлом собакам, и даже самые злобные городские кобели, что вечное лето сидели на привязи за заборами хозяйских дач, переставали гавкать и начинали ластиться к человеку, точно щенки.
И еще одна странность замечена была всеми: Павел начал влиять на детей. При его появлении впадали они, избалованные московские мальчики и девочки, в настоящий транс. Капризы, истерики, грубость, все эти «хочу — не хочу», «буду — не буду» исчезали, как по мановению волшебной палочки. Завидев над забором лохматую голову Павла, дети смотрели на него, как на чудо, и когда он бросал на ходу:
— Природу любите! Города — зло! Бегите оттуда! — детские головенки согласно кивали.
В Разлогово сделалось неспокойно. Испуганные мамаши и папаши несколько раз приходили к Петру, требовали посадить брата под замок.
— Так он же ничего плохого не делает, — разводил руками старший Возжаев. — Никого не трогает…
— Еще б тронул! — ярились дачники. — Убьем! Милицию вызовем! Псих он! Нельзя такому среди нормальных людей жить.
— Раньше-то, когда и впрямь дурачком был, не боялись вы его, — с горечью говорил Петр.
— Пусть лучше дурачок, чем такой… Запри его, иначе пожалеешь!
Петр и запер. Сидел теперь Павел день-деньской в дальней комнатке их небольшого дома, глядел в окно, ждал осени, когда съедет обратно в городские квартиры дачная кодла. От нечего делать пристрастился он слушать радио. С утра до ночи, меряя шагами облупившиеся половицы, внимал Павел международным и российским новостям, интервью политиков и звезд шоу-бизнеса, песням и рекламе.
Лишь с наступлением темноты выпускал Петр брата в огород — подышать свежим воздухом. Павел сомнамбулой бродил меж дружно зеленеющих фядок, бормотал что-то, поднимал голову к звездам, иногда ложился на траву у забора.
Как-то Петр, собравшись уже спать — с утра надо было рано встать, картошку окучить, чеснок прополоть, — выглянул с заднего крыльца, чтобы позвать брата, и замер в дверном проеме, точно гвоздями прибитый.
Павел, освещаемый легким, призрачным светом полной Луны, стоял у калитки, а на заборных столбах сидели и смотрели на него огромными, жуткими глазами совы. И впервые с зимы увидел Петр, что брат улыбается. Нечеловеческой, умиротворенной улыбкой познавшего истину…
Старуха Иваниха, когда Петр рассказал о странном и страшном происшествии, безапелляционным тоном заявила:
— К батюшке веди. К отцу Валериану. В Завалишино. Знаешь, где церква?
Петр кивнул. Церковь, в советские времена бывшую детским садом, восстановили лет пять назад. Детсад закрыли за ненадобностью — все одно детишек в Завалишине, некогда многолюдном селе, теперь было всего несколько, да и на тех приходилось по полному комплекту бабок-дедок — есть кому приглядеть.
В церкви побелили стены, поставили над колокольней золотой куполок с крестом, навесили на окна кованые решетки, красивые, все в завитках и виньетках. «Душа, — многозначительно заявил глава сельского округа на торжественной церемонии открытия возрожденного храма, — это то, чем человек отличается от животного. И задуши моих односельчан я теперь спокоен».
Отец Валериан, назначенный приходским священником в Завалишинский храм, быстро приобрел в округе популярность, и со всех окрестных сел и деревень, а то и из райцентра потянулись к нему верующие со своими горестями и бедами. Петр с братом несколько раз бывал в церкви — на Пасху, на Троицу, ставил свечи за упокой матери и всей родни, с батюшкой разговаривал. Тот показался ему человеком рассудительным, добрым и отзывчивым.
От Разлогово до Завалишино путь неблизкий. Петр и Павел вышли засветло, чтобы успеть вернуться к вечернему поливу огорода. После трехнедельного затворничества Павел бодро шагал по пыльному асфальту, высоко держа обстриженную под ноль голову. Петр едва поспевал за братом, исподволь наблюдая за ним. «Совсем седой стал Павлушка, — крутились в голове невеселые мысли. — Седой, а телом ровно подросток. Ох, что ж батюшка скажет? Вдруг разглядит в брате сатанинскую силу какую — что тогда делать?»
Размышления Петра прервали две трясогузки. Примчались из духмяного травяного разлива полей и, поцвиркивая, закружились над головой Павла, закрутили хоровод, а потом уселись на плечи и замерли, точно приклеенные.
— Пашка, ты б птичек-то согнал, — испуганно попросил Петр.
— Нельзя, — убежденно ответил брат.
Так и вошли в Завалишино — Павел впереди, с трясогузками на плечах, Петр за ним, снедаемый тяжкими мыслями.
Отец Валериан был дома — для него с матушкой выстроили ладный коттеджик, по современной строительной моде облицованный сайдингом. Поповские ребятишки возились со щенком. Петр попросил вызвать батюшку, а когда тот вышел на крыльцо, в простой, мирской одежде, с недочитанной газетой в руке, поклонился.
— Вот, батюшка, брата привел. Неладное что-то с ним. Посмотрите.
Отец Валериан сощурил умные глаза, положил газету на перила, спустился с крыльца, улыбаясь.
— Здравствуй, Павел. Как поживаешь?
— Не спасете вы людей, — глядя в сторону, глухо произнес вдруг тот, и трясогузки с пронзительным писком вспорхнули, вновь закружив каруселью над стриженой головой. Дети бросили щенка, выстроились в линейку, преданными глазами глядя на чудного гостя.
— Спасем, — спокойно ответил батюшка. — Не мы — Бог. Души спасем.
— Это неправда. Правда — в природе. Она — сила. Все остальное — зло, — четко выговаривая слова, произнес Павел, и, повернув голову, посмотрел священнику в глаза.
— Гос-споди… — прошептал отец Валериан и начал часто креститься, пятясь к дому.
— Города — зло! — Голос Павла неожиданно обрел какую-то запредельную для человека силу, загремел, загрохотал над сонной летней улицей. — Техника — зло! Наука — зло! Отриньте все, идите в леса, живите, как предки жили, — только тогда спасетесь! Мрак идет на род людской. Смерть уже косу подняла! Древние силы будить нужно, только они помогут, только с ними выживут дети…
— Дети, — охнул батюшка, нетвердой рукой уцепившись за перила крыльца, испуганно оглядел двор. — Андрей, Владимир, Елена, Ольга — в дом! Быстро в дом!
— Дети умнее вас. — Павел властным жестом выкинул вперед руку. — Дети чувствуют истину! Я спасу их. Тех, кто слышит меня.
Ребятишки, дернувшиеся было исполнить приказ отца, снова застыли на месте, широко улыбаясь.
— Бес в тебе! — закричал отец Валериан, торопливо выпрастывая из ворота рубашки нательный крест. — Это бес вещает! Изыди! Во имя Господа нашего, во имя Святой Троицы! Изыди!
Петр, обмерший, едва только Павел начал говорить, почувствовал себя совсем плохо. Он разрывался между любовью к брату и желанием встать на сторону священника, принять его правоту. «Пашка и впрямь с нечистой силой снюхался. Ой, беда… Чего делать-то? Святой водой? Или в больницу?»
Собравшись с духом, он бросился к брату, попытался сгрести его в охапку, утащить с поповского двора, но Павел только качнулся влево-вправо, стряхивая с себя Петра, и вновь заголосил:
— Железный телец погубит род людской! Смерть носите вы с собой, на смерти едите, со смертью спите. Отриньте зло! Я знаю путь к спасению и поведу вас! Увидьте силу мою!
И тотчас же со всех сторон, изо всех домов и дворовых построек Завалишино пошел мощный звук — замычали коровы, завизжали свиньи, заблеяли овцы и козы, отчаянно закудахтали куры, и все это покрывал яростный собачий лай. Тучи птиц затмили солнце, под ударами копыт и рогов с треском вылетали двери сараев, как подкошенные, падали заборы, и к дому отца Валериана по проулкам, через огороды мчалось небывалое звериное войско.
Перепуганная, рыдающая матушка силой утащила детей в дом и заперла дверь. Мужа она тоже пыталась увести, но священник будто прирос к крыльцу, высоко воздев сияющий на солнце крест и выкрикивая слова молитвы:
— Господи помилуй! Запрещает тебе Господь, диаволе, пришедший в мир. Пречистою Приснодевою Мариею, истинною Богородицею, на спасение всего мира. Проклят бо еси и вся неприязненная твоя дела и помышления, яже во дни, и в нощи заклинаю тебя душе нечистый, великим именем Святой Троицы, да не влагаеши рабу Божию Павлу болезней вредных, помыслов неприязненных, но отыди в места пуста и безводная, идеже человек не обитает. Бог един призирает тебя! Бог един призирает тебя!!
Павел стоял напротив и улыбался. Над его головой крутился пестрый нимб из птиц, по обе руки расселись на траве кошки, собаки, кролики, нутрии; за спиной встали нестройными рядами коровы и лошади.
— Вот — сила! — звонко сказал Павел. — Она доказывает правоту мою.
— Бра-атка… — прохрипел Петр, вдоль палисада подползая к Павлу. — Брось! Уйдем…
По улицам Завалишино уже бежали следом за ушедшим скотом перепуганные хозяйки. Женский плач и крики слышались со всех сторон. Мужики, смекнув, что дело — дрянь, похватали кто ружье, кто топор, кто вилы и тоже устремились к дому священника.
— Заклинаю тя душе нечистый и лукавый, именем единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, да не соблазниши немощию и лукавыми мечтании раба Божия Павла, да всегда ко Господу Богу молитвы чисты приносит. Твоя же лукавствия дневная и ночная, да будет с тобою. За няже ответ воздаси в день судный. Аз же ко Господу Богу моему служу денноношно, тебе упраздняшу и прогоняшу, мене же укрепляшу и вразумляшу мя, за многую его благодать и человеколюбие славлю! Славлю! — в исступлении кричал древние слова изгоняющей беса молитвы отец Валериан.
— Я все равно спасу тех, кто поверит мне, — просто сказал Павел и коротким жестом отпустил зверье. Птицы взвились в воздух и порскнули в стороны, коровы, удивленно мотая рогатыми головами, принялись щипать жухлую придорожную траву. Кошки разбежались первыми, следом понеслись собаки. Петр вцепился в рукав брата, потащил его через мычащее, блеющее стадо прочь, но тут завалишинцы догнали братьев, и на них со всех сторон посыпались удары. Попытавшись что-то объяснить разъяренным, обезумевшим людям, Петр не успел даже понять, что его никто не слушает. Получив удар обухом топора в лоб, он упал в пыль. Спустя мгновение с окровавленным лицом рядом рухнул Павел. Толпа обступила братьев, а над людскими головами рвал воздух голос отца Валериана:
— Изыди, сатана, проклят буди и вся лукавая твоя сила! Я ко благословися и прославися пречистое имя Отца, Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь!
…Петр вернулся в Разлогово через неделю. Сломанная рука в гипсе, лицо заплыло от синяков, на голове выбрита залитая зеленкой проплешина, поблескивающая скобками. Дом встретил выбитыми окнами, сорванной с петель дверью. Забор вместе с калиткой лежал, на проломленных досках отпечатались протекторы колес большого грузовика. В комнатах царил разгром, все было вверх дном, даже железные кровати разобраны и покорежены.
Окаменев лицом, Петр вышел на заднее крыльцо — и застыл, пораженный. Огород, семь дней не знавший полива, пожаре должен был лечь, пожухнуть. Но этого не произошло, наоборот! Зелень, капуста, огурцы, помидоры, репа, свекла, картошка набрали мощь, пошли в рост, задушив сорняки.
— Петя, — прошелестел из густых зарослей смородины голос старухи Иванихи. — Ты живой, че ли? Ой, че было тута, Петя… Милиция приезжала и эти… в штатском. Обыск делали. А где ж Павлуша-то?
— В спецклинике он, — с трудом шевеля деревянными губами, ответил Петр.
— А когда ж отпустят?
— Никогда…
Ночь выдалась темная, слепая. Низкие облака, еще с полудня затянувшие небо, не пропускали света волчьего солнышка — Луны. Все же Бойша различал край небосвода, очерченный изломанной линией Стражного леса. Мягкое, пепельное сияние лилось сверху, чуть разбавляя непроглядный мрак, затопивший землю. В темноте все кошки серы. Темнота — татям мать родна. И еще: темночь для итера — что день для чистуна-посадщика. Потому что есть у итеров филин-глаз. И всегда под рукой верное шибало.
Сухая тропа, где держал секрет Бойша, вилась меж оплывших бугров и редких рощиц Валдайского пустоземья. С полуночи на полдень, в обход путеводных плешей и людных посадов, в обход застав и пограничных постов Сухая тропа много лет была главным тайным трактом для контрабандистов, воров, убийц, беглых монахов, отступников, изгнанных, проклятых, отринутых, выброшенных из жизни, но цепляющихся за нее людей. Бойша и сам не раз хаживал по тропе, отсиживался в схронах, ночевал по норам и берлогам, встречался с прохожим людом. А вот сегодня должен был нарушить одну из неписаных заповедей — на Сухой тропе убивать нельзя. Если есть такая надобность — дождись, когда кровник или кто ненавистный тебе сойдет с тропы, и тогда уж боги вам судьи. Но тропу кровью полить не моги, ибо заповедна она и чиста от скверны. А уж коли нарушил ты запрет — не обессудь. Всяк свободный вправе на тебя оружие поднять и покарать жестоко. Чистые старцы давно таким отступникам-убивцам приговор вынесли — смерть. Вот то же и Бойшу ожидает, если что-то не по его задумке пойдет.
— Итер силен разумом и мастерством своим, — еле слышно прошептал засадчик девиз своего сообщества. — Для итера нет преград. Выпутаемся…
Чтобы приободриться, он даже начал про себя напевать недавно сложенную песню о Первом Учителе:
- Вы в ночи его след не найдете,
- Когда ветер развеет золу.
- Когда дождь замерзает в полете,
- Он уйдет в предрассветную мглу.
- Босиком, без дороги, вперед,
- Прикрыв плечи промозглым туманом,
- За судьбою он следом бредет,
- Без надежды. Но и без обмана.
- Где-то шорох опавшей листвы,
- Ветра свист в оголившихся ветках,
- Да щетину увядшей травы
- Переплел дождь хрустальною сеткой…
На лугу за рекой перекликались дергачи. В омуте плеснула большая рыба. Пронзительно завопила в чаще сова-сипуха. Полевки шуршали травой, а где-то в ветвях старой рябины, у корней которой устроил себе ухоронку Бойша, трекал сверчок. Ночь перевалила за средину и покатилась к утру, к волчьему часу. Совсем немного осталось до того, как на тропе появятся сыны Всеблагого Отца, будь они трижды прокляты. Они понесут тексты из разгромленной на Псковских болотищах лабы итеров. Вообще-то, по уложению все того же Всеблагого Отца, все обнаруженные книги и записи старого мира нужно уничтожать на месте, но так бывает не всегда. Вот и теперь верные псы наместника Всеблагого, Человека-Без-Имени, схоронили написанное профом Разглядом и несут своему властелину по тайной тропе. Сам проф, Бойша это знал наверняка, висит на воротах лабы вверх ногами вместе со своими верными менесами, и лица их уже изгрызли дикие звери. Но нарук Стило Трошсын, верховный итер Россейщины, отправляя его на задание, сказал четко: «Про месть не думай. Мракобесам другие воздадут должное. Твое дело — тексты. Принесешь — и я дам согласие. Будет Талинка твоей женой. Нет — не обессудь, решу в пользу Покраса».
Бойша понимал, почему нарук так суров с ним. Род Бойши, Логами именуемый, слыл среди итеров самым своенравным. Логсыны бродили по всей Россейщине, часто нанимались в проводники и сторожа к обозным чистунам, шли в посадные и городищенские дружины, меняли высокое звание итера и путь служения разуму на вольную долю. Не был исключением и Бойша. В свои два с половиной десятка зим обошел он всю землю — от Опоясных гор до закатных топей на Полесье, от яблоневых садов Колы до жарких пустынь у подножья Светлых гор. Ходил торными путеводными плешами, пробирался потаенными тропами, плыл водой, брел пущей, шлепал болотинами; бывало, и мертвоземье пересекал в своих скитаниях, потом неделями отлеживаясь в потаенных итерских болечебнях. Служил Бойша наймитом у торгового люда, бывал и приказчиком, подряжался охранять караваны, погонял коней, носил вести, бился, бил, бывал ранен. Прав нарук — такая судьба более не итеру, а чистуну под стать. Потому и воспротивился он, когда на ежегодном сборе всех родов итеров, на конфере, посватался Бойша к красавице Талинке, дочери главы рода Мехов старого Звана Точилы.
«Ничего, — успокаивал себя Бойша. — Тексты добуду, Стиле снесу, а под Годоворот и свадьбу сыграем. Сяду в лабе на Поворотном камне, дом поставлю, хозяйство оборудую, с ветряком, как положено, чтобы небесные искры в доме жили. Хватит, помотался по свету, пора и о детях подумать…»
Но мечты о будущей счастливой и спокойной жизни омрачало лишь одно — слово, опрометчиво данное Бойшей незнатю Атяму. Не то чтобы трудной казалась служба незнатева, да вот темной она была — это да. «А и если все обтяпать так, чтобы никто ни слухом, ни духом — все и ладно сложится», — решал-гадал Бойша, не забывая при этом по многолетней привычке сторожко прислушиваться к ночным звукам. Время от времени он задирал голову к небу и «ловил час», угадывая время. Если вдруг возникали сомнения, Бойша сверялся с древним времясчетом, что дал ему нарук Стило. Времясчет, легкий, удобный, крепился на запястье стальным браслетом и светился в темноте. Всем он был хорош, кабы не две вещи: тикал времясчет для опытного уха весьма различимо — это раз, и отдать его нужно было по возвращении — это два.
«Если все ладом сполню, попрошу у старика этот механизмус. Тексты Разгляда дорогого стоят, авось Стило не откажет», — лениво подумал Бойша и тут же напрягся, рукой нашаривая надолбом филин-глаз.
Со стороны Стражного леса, там, где Сухая тропа огибала путеводную плешь и перебегала через нее в небольшой низинке, послышались шорохи. Еле слышные, они не могли принадлежать зверью, дикая тварь ходит легко, если и заденет где ветку или сухой листок, то никогда второй раз такого не сделает. А тут звуки были частыми, повторяющимися — ширк-ширк-ширк. «Плащи о ноги трутся, — определил Бойша. — Идут четверо. Торопятся. А нарук говорил — трое должно быть. Может, не мои?»
Опустив филин-глаз, итер зажмурился, пережидая колючую игру небесных искр в удивительном приборе, и через овальное смотрило глянул на тропу, залитую теперь густым зеленым сиянием. Вот кусты бузины слева, вот заросли иван-чая справа. Тропа тут переваливала через невеликую горочку и лежала перед Бойшей как на ладони. Он уже давно прикинул, как сладит с чистунами, — дождется, когда они начнут спускаться с горочки, и положит всех. Шибало осекается редко, прицел выверен, пчелы остры, порох сухой и гильзы чищеные, без изъяна. Патроны Бойша снарядил как надо, смазал сурочьим жиром. Восемь штук их в самосдельном медном улье да три запасных за пазухой.
На вершине горушки качнулись ветки ивняка, темными полосами зарябив картинку филин-глаза. «Идут», — понял Бойша. По телу прокатилась волна жара, руки нашарили шибало, бережно обернутое в сшитый из беличьих шкурок чехол. Осторожно вытащив оружие, итер выставил длинный ствол из зарослей, поглядел в кружок прицела, приноравливаясь целиться с филин-глазом. Чистуны уже появились на тропе и теперь спешно бежали вниз, стараясь не поскользнуться на косогоре.
«Чего ж их четверо-то? — снова озаботился Бойша, ловя на прицел первого. — Может, дорогой кто прибился. Загублю невинного человека. И-эх, ну да раз так выйдет — стало быть, судьба у бедолаги такая!»
И, помянув Пятерых Отважных, Бойша скинул с затвора предохранительную скобку. Палец привычно лег на отполированный спусковой крючок. Подведя пенек мушки в прицельном кольце под голову первого чистуна, Бойша крепко вжал приклад шибала в плечо и мягко потянул спуск. Бухнул выстрел, приглушенный стволовым насадником. Пахнуло кислым, стреляная гильза, выброшенная из затвора, улькнула в кожаный мешочек, подвешенный к оружию. Человек на тропе осел, а итер уже поймал в прицел второго. Ещё выстрел — и второй чистун завалился на бок, нелепо взмахнув рукой. Двое оставшихся испуганно присели, поползли назад, в гору, не подозревая, что на этом и строил свой расчет Бойша. Если бы они сиганули с тропы в сторону, пришлось бы засадчику скрадывать чистунов по зарослям. На голом же склоне две человеческие фигуры виделись ясно, словно горошины на блюде. Выстрел — и третье тело покатилось вниз. В мешочке уловителя звякнули гильзы. Последнего чистуна Бойша подстрелил на самом верху, вогнав ему пчелу в спину.
— Все! — вслух произнес итер. Теперь надо торопиться — забрать тексты, спрятать трупы и уходить. Бойша вскочил, закинул за плечо котомку и, сжимая шибало, пригнувшись, побежал к неподвижным телам.
Тексты — тетрадь, завернутая в выделанную кожу, — обнаружились в мешке у второго чистуна. Быстро обшарив убитых, Бойша разжился парой ножей, манеркой пороха, пригоршней гильзе капсюлями, свинцовой пластиной и вырубкой для изготовления пчел, монетной мошной, широким кинжалом, тремя светунцами, кусом копченого мяса, сухарями, бутылью кваса. Все остальное — кольца, амулеты, одежду, наборные пояса — решил не брать, дабы случайно потом кто-то не узнал на нем вещей чистунов.
Оттащив два трупа в ложок за рябиной, у которой была его засидка, Бойша вернулся к тропе и тут обнаружил, что на ней лежит только одно тело. Четвертый чистун исчез, не оставив следа. Бойша пошарил рукой по траве в том месте, где еще минуту назад лежал мертвее мертвого застреленный им человек, и не нашел крови. «Незнать! — обожгла итера страшная догадка. — Незнать с чистунами шел! Храни меня Великий Постулат! Хана дело. Драть когти надобно. Если быстро уйду — может, и пронесет…»
Взвалив труп последнего чистуна на плечо, Бойша бегом доташил его до остальных, выпростал из котомки стеклянную пузатую флягу с едун-водой, облил тела и отшатнулся, когда с жутким шипением едун-вода принялась пожирать мертвую плоть.
«Все, теперь в Шибякину слободку», — сам себе сказал Бойша, глубоко вздохнул и рванулся прочь, уходя от Сухой тропы на закат. Он бежал, а в голове мотыльком у свечи билась одна-единственная мысль: «Может, и пронесет… Может, и пронесет…»
Бойша не видел, как со ствола бузины сползло на опустевшую тропу пятно мрака, как обернулось оно высоким тощим мужчиной с собачьей головой. Тихо взвыв, псеглавец выставил во тьму костлявые руки, плетя заклятие, и вот уже перед его глазами возникла во мраке и легла на ночную траву тонкая серебряная цепочка следов, оставленных итером. Опустившись на четвереньки, человек-пес шумно засопел и бросился за Бойшей…
На замшелом пне, кривым пальцем торчащем из земли у самой опушки леса, нахохлившись, сидел ворон. Подслеповато глядя на разгорающийся рассвет, он оглашал путеводную плешь хриплым карканьем, приветствуя рождение нового дня. В этот предутренний час все иные звуки и движения умерли. Молчаливой стеной темнел лес, остановился ветер и серые валы облаков в зеленеющем небе, чуть обметанные по краю розовой каймой, висели неподвижно, точно были высечены из камня.
Когда над лесом вспыхнул огненный шар, ворон поперхнулся криком, косо сорвался с пня и рванулся было прочь, отчаянно маша крыльями. Он ждал солнца, чтобы погреть старые кости, чтобы впитать остывшим за долгую ночь телом ласковый жар светила, но вместо этого подслеповатые глаза птицы обожгло яростное сияние, вдруг разлившееся окрест. Длилось оно недолго. На краткий миг высветив путеводную плешь, клуб пламени погас, и в сырую, росную траву кто-то вытряхнул из невидимого мешка две человеческие фигурки. Они с глухим звуком ударились о землю — и замерли, недвижимые.
Ворон, сделав на широких пальчатых крыльях круг над лесом, вернулся на свой пень. Вцепившись когтистыми лапами в черное крошево старого дерева, он наклонил голову и принялся разглядывать чужаков. Шло время. Ночные тени под пологом леса съеживались, умалялись, забираясь в расщелины коры, в заросли листореза, в ежевичные тенета, чтобы отсидеться там до следующей ночи. А на восходной стороне земли, багровое от потуг, щедро орошенное алой кровью небес, рождалось солнце. Вот его краешек прорезался над мглистым горизонтом — и лучи заиграли в мириадах капель, украсив каждую былинку, каждый лист россыпью самоцветов.
Но долгожданный восход светила уже не волновал птицу. Ворон коротко взмахнул крыльями, перелетая ближе к лежащим без движения людям. Ступив на землю плеши, ворон, делая длинные остановки на тот случай, если вдруг кто-то из них вскочит и кинется на него, боком, точно покалеченный, обскакал тела и удовлетворенно захрипел, чуть приоткрыв клюв. Это была пища. Еда. Сыть. Славный пир. Много дней покоя. Ворон блаженно зажмурился. Он жил долго. Он много видел. Крылья носили его по разным сторонам света, и опыт этих скитаний подсказывал птице — на этот раз трапезу не придется делить с другими падальщиками, как это бывает на полях сражений. Он здесь один. Стражный лес не пустит на плешь никакую тварь, что могла бы помешать ворону справить кровавую тризну по погибшим. Он будет пить кровь, рвать мясо, долбить клювом кости, а насытившись — громко каркать, извещая весь мир о своей удаче.
Распахнув книгу крыльев, ворон опустился на спину тому человеку, что лежал ближе. Он уже нацелился клюнуть белеющую между жестких волос на шее плоть, но неожиданно крохотный мозг старой птицы одолели сомнения. Ворон почуял неприятно знакомый, терпкий запах опасности, источаемый человеком. Человеком?! Нет! Истошно каркая, птица рванулась ввысь, но — поздно. Быстро перевернувшись, лежащий ловко ухватил ворона за лапы, дернул к земле, смял плещущиеся крылья и сильным движением оторвал голову. Сжимая бьющееся в ладонях тело птицы, он припал потрескавшимися губами к разорванной шее — как к кубку…
Тамара очнулась от холода. На лицо девушки текла вода, газовый шарфик промок, между лопатками было сыро. Пахло прелью, травой и болотом. Разлепив веки, Тамара увидела над собой сложенные ковшом большие красные руки. Они, эти руки, казались центром мироздания, единственной реальностью в зыбкой расплывчатости остальной вселенной. Но вот из туманной мглы возникло и приблизилось бородатое лицо с кошачьими глазами, и хриплый голос бывшего домового Мыри дрогнул, произнося:
— Живая.
— Очки, — прошептала Тамара.
— Щась, девка, щась. Отыщем. Где ж им быть-то… Они ж вместе с тобой. Вместе с нами…
Пока Мыря, забивая ногти землей, шерстил влажную траву окрест, Тамара села, натянула полу плащика на озябшие коленки, размотала шарфик, похожий на вытащенную из воды медузу, и с отвращением выжала его, стараясь, чтобы мутные капли на попали на одежду.
— Вот они, окуляры твои! — приглушая радостный рык, возвестил Мыря. Широко шагая и бережно держа в вытянутых руках Тамарины очки, он приблизился.
— Спасибо. — Девушка протерла стекла носовым платком, мысленно отругав себя за то, что не послушалась Чеканина и не надела контактные линзы.
Первым делом она взялась за телефон, но умный аппаратик бодро сообщил, что она находится «вне зоны действия сети». Разочарованно вздохнув, Тамара убрала трубку, попутно отметив, как оглушающе громко в затопившей все тишине прозвучал треск «липучки» телефонного кармашка. Оглядев окрестности «вооруженным взглядом» и выяснив, что они находятся на широкой, метров сто шириной, прогалине, поразительно ровно рассекавшей дремучий лес, Тамара с удивлением посмотрела на домового:
— А где это мы?
Мыря, уверенными движениями подтянув офицерский ремень, что перепоясывал его видавшую виды гимнастерку, хмыкнул в ответ:
— Вот чего не знаю, девка, того не знаю. Но место чудное. И дурное. Ты на лес погляди.
Тамара послушно поглядела. Лес стоял стеной. Опушенный по краю пьяным мехом чахлого, худоростого бурьяна, облитый по верхам утренним солнцем, он был пугающе ненастоящим — и в то же время настолько естественным, природным, что становилось страшно.
Могучие ели тянули во все стороны нагие обломки сучьев, изъязвленных пятнами белесыхлишайников, космы мхасвисали с ветвей редких осин и черных, сочащихся гнилью из трещин в коре, берез. То тут, то там вертикальные линии стволов наискось перечеркивали накренившиеся сухостоины, которым не суждено было упасть, чтобы сгнить и стать питательной средой для еще живых собратьев. Повиснув на их ветвях, умершие деревья обречены были остаться без лесного погребения и, густо облепленные чагами, казались лестницами, по которым можно подняться на небеса и вырваться из этого древесного ада.
Осклизлый мох, густо проткнутый сотнями крапчатых мухоморов, обволакивал корни. Обломанные пни залепила плесень. То там, то сям торчали из моховой мари скрюченные ветви, упавшие сверху. Они напоминали когтистые лапы неведомых существ, из-под земли тянувшихся к свету, да так и погибших без него. Ни звука не доносилось из густой чащи, лишь изредка вздрагивали темные еловые лапы, роняя в мох крупные, тяжелые капли.
Но более всего Тамару поразило то, что лес резко, без обязательного в таких случаях новороста, кустарника и одиноких деревьев-бегунков обрывался, словно существовала какая-то невидимая граница, переступить которую могла только трава — жухлые медвежьи дудки, квелая пижма и осот, таящий в своей тусклой зелени пурпурные колючие звездочки позднецвета. Но и бурьянина, едва отойдя от края леса на пять-шесть шагов, угасала, опадая в мелкие лопухи, и далее по прогалу расстилался уже и вовсе мелкорост — подорожник, пастушья сумка, хилый мятлик, мокрица. Мышиный горошек тянул соки из своих травяных собратьев; его фиолетовые цветы виднелись всюду. Они, да еще розовый туман кипрея вдали, там, где прогал поднимался по склону лесистого холма, да ядовитые пятна мухоморов во мхах были единственными яркими мазками на унылой картине здешнего бытия.
— И чарами тут пахнет, — продолжил Мыря. — Прямо воняет. Все тут чаровное — и лес этот, барма проклятая, и трава, и воздух. Не чуешь?
Тамара отрицательно покачала головой. Впрочем, воздух и впрямь был не подмосковный. Там, в окрестностях Можайска, на потаенном торжище незнатей, ветерок нес обычные пригородные ароматы — запахи бензина, недальней свалки, унавоженных полей и овощной гнильцы. Здесь же с каждым вдохом в Тамару будто вливалась мера ледяной, промозглой свежести. Слегка кружилась голова, грудь распирало от желания вдохнуть еще, еще этой дикой чистоты.
— Куды пойдем? — поинтересовался домовой, разгладив пятерней бороду.
— Не знаю, — пожала плечами Тамара, вновь принявшись оглядываться. Сбоку от холма над зубчатым окоемом леса поднималось тяжелое дрожащее солнце. «Значит, там восток, — поняла девушка. — А просека эта уходит на запад».
Она посмотрела туда, вдаль, где еще держалась у горизонта ночная мгла. Лес, лес, лес и лес — сколько хватает взора. Просека ударом исполинской плети рассекла чащобу, маня и словно предлагая себя: «Вот она я, торный путь. Идите, ну же!»
«Но на востоке, за холмом, эта вырубка наверняка тоже продолжается», — подумала Тамара и сказала, не глядя на домового:
— Надо бы на холм сходить, оглядеться.
— А и верно, — согласился Мыря. Пятнистый камуфляжный бушлат он где-то потерял и теперь остался в овчинной безрукавке-кожухе, надетом на гимнастерку, зеленых армейских галифе и валенках. В вырезе кожуха на груди домового тускло поблескивала медаль «За отвагу». Тамара посмотрела в желтые глаза Мыри и подумала, что если бы не ниточки вертикальных зрачков, домовой вполне сошел бы за человека. Этакого малорослого, но кряжистого мужика с сильными ручищами и кудлатой головой на короткой, толстой шее. Мужика, с которым «не пропадешь».
«Он опытный, бывалый. Куда бы нас ни забросило, сколько бы километров ни пришлось идти, Мыря выручит, выведет к людям, к телефону», — размышляла Тамара, бредя следом за домовым по постепенно поднимающейся просеке. По-прежнему не было ни дуновения. Отогревшаяся после ночи земля начала парить. Зыбкая дымка заткала дали, небо выцвело, тени укоротились. Вдали, над верхушками елей, медленно взмахивая крыльями, пролетела какая-то большая птица; еле слышно, на самом пределе слуха, донесся откуда-то протяжный, заунывный вой.
По дороге Тамара наткнулась в траве на обезглавленного, истерзанного ворона. Она уже хотела было окликнуть Мырю, но вспомнила, как домовой пучками травы вытирал руки, бороду, и решила не тревожить своего спутника. В конце концов, у всех свои обычаи и привычки…
До вершины холма оставалось не больше пяти десятков шагов, как вдруг Мыря присел, одновременно махнув Тамаре — стой! Она послушно остановилась, озадаченно вертя головой. Вроде ничего не произошло, всё осталось без изменений — и лес, и трава, и небо…
— Слышишь? — прошипел Мыря, едва не на четвереньках отползая назад. — Шумит. Ветер идет. Верховой.
Прислушавшись, Тамара тоже уловила ровный, далекий, но очень сильный — это чувствовалось — шум, похожий на звук морского прибоя.
— А я гляжу — сучьев в лесу накидано множество. Стало быть, должен тут быть ветер. Утром всегда поддувает, — вполголоса рассуждал Мыря. — Ан нет, тишина стоит. Не к добру…
Собравшись уже сказать домовому, что пугаться самому и пугать ее не надо, Тамара так и замерла с открытом ртом — высоко в небе над холмом появился вдруг нелепый пузырь, огромный, желтовато-бурый, раздутый и крест-накрест несколько раз перехлестнутый веревками. В нем то и дело вспыхивали и гасли красные и синие огоньки. Под пузырем на растяжках висела длинная рея, к которой был привязан большой грязно-серый парус, выгибавшийся под порывами еще недошедшего сюда ветра. От паруса вниз, к земле, тянулись два толстенных каната.
— Нут-ко, девка, ховайся со мной! — выдохнул Мыря, зайцем сиганув с холма. Тамара побежала следом, упала, поднялась, у самой подошвы холма снова упала, ссадив кожу на ноге, и наконец вломилась в сырой бурьян, привалившись к домовому и поглаживая закровянившее колено. Мыря молча сорвал лист подорожника, прилепил к ране. Тамара дернулась, с шумом втянула воздух через крепко сжатые зубы.
Дрогнула земля. Первый, еще слабый, еще бессильный, порыв ветра перепутал бодыли, приласкал траву на просеке, качнул ветви, а следом за ним уже катился тугой воздушный вал. Лес вздохнул — и зашумел, затрещал, заголосил, роняя сучья. Шишки грянули с верхушек елей, вонзаясь в напитанный влагой мох, как в воду, с плеском. Многоголосый этот плеск на мгновение заглушил все другие звуки, но шквал прошел, лес успокоился, и тогда Тамара и Мыря услыхали тяжелый, надсадный скрип, даже не скрип — стон, наплывавший с вершины холма.
Домовой тихо ругался в бороду, протирая запорошенные травяным сором глаза:
— Козлами бешеными его б размыкнуть, чаровника ентого.
— Какого чаровника? — поеживаясь от жутковатых, стонущих звуков, вполголоса спросила Тамара.
— Того, что обустроил тут все… Неужто не понимаешь: и леса такого быть не может, и ветер так не дует, зараза. Слышь, стонет? Это еще один подарочек шкандыбает. Счас увидим.
И они — увидели.
Над поросшей редкой травой макушкой холма, как над облысевшей человеческой головой, возникло что-то темное, большое, непонятное. Молодое рассветное солнце, бившее в глаза, мешало рассмотреть его толком, в деталях. Вот оно, влекомое за канаты надутым парусом, вползло на самый взлобок, замерло там на секунду — и медленно обрушилось вниз, поплыло по просеке. Тамара различила сплошную спутанную массу древесных стволов, уложенных вязанкой, как хворост, а под ними — исполинские катки, широченные колеса в рост человека.
— Экая тележина! — удивленно пробормотал Мыря.
Непонятное сооружение приближалось. Стонущий звук от медленно поворачивающихся катков затопил всю просеку. Пахнуло гнилью, прелью, чем-то тухлым и еще, остро — не то нефтью, не то нафталином. Вблизи стало понятно, насколько огромна вся эта движущаяся конструкция. Не меньше семидесяти метров в длину и тридцати — в ширину, она возвышалась над просекой, как пятиэтажный дом. Тамара теперь отчетливо различала, что никакая это не вязанка. Вырванные с корнем деревья были не просто навалены — они сплелись чудовищным клубком, подчиненные непонятной, нечеловеческой гармонии.
Стволы располагались горизонтально, комлями вперед. Перепутанные обнаженные корни, заплетенные нарвальими рогами, грозно торчали вверх. Космы мха, паутина и пряди сухой травы висели на них, трепеща под порывами ветра. Залишаенная кора деревьев повсюду была проткнута изогнутыми сучьями, бугрилась натеками капа, морщинилась угловатыми складками. Кое-где в трещины нанесло земли, и там зеленела чахлая сурепка. Несмотря на голые корни, деревья не казались мертвыми, наоборот, они будто бы продолжали жить, прорастая друг сквозь друга, выталкивая из стволов не молодые побеги, а толстые, корявые ветви, вплетающиеся в общий колдовской узор.
Листва шелестела лишь в задней части невозможного сооружения, где кроны деревьев образовали висящее в воздухе зеленое кубло. Меж листьев там шныряли какие-то зверьки, молчаливые и быстрые, точно мыши.
Разглядывая весь этот движущийся дендрарий, Тамара вдруг остро поняла, что с нею случилось нечто страшное. До того она как-то не задумывалась об этом, полагая, что в Можайске они с Мырей попросту попали под ментоудар Коща, сильного чаровника, за которым, собственно, и шла охота, а странноватая действительность вокруг — всего лишь последствия этого ментоудара, искаженное восприятие реальности.
Теперь же, с появлением движущегося живого бурелома, стало ясно — произошла беда. Москва, управление, Чеканин, Джимморрисон, Карпухин, дом, мама, отец, брат — все это отодвинулось, стало очень далеким, ненастоящим, словно с момента начала операции на торжище прошла не пара часов, а много-много лет. Настоящим же было это вот ползущее мимо уродливое чудовище. Еще настоящими были лес за спиной, просека и пузырь с парусом в небе. Настоящими — и пугающими, потому что Тамара осознала: это не привычная действительность. Они с домовым находятся в каком-то другом мире, чужом и непонятном.
Похоже, Мыря думал о том же. Закатив глаза, он встал на колени и принялся щупать сросшийся древесный ком, проверяя его на наличие чар. Тамара, закусив губу, внимательно следила за своим спутником, и когда домовой выдохнул, раскрыв помутневшие глаза, нетерпеливо спросила:
— Ну, что там? Что?
— Худо, девка… — прохрипел Мыря. — Так худо, что и сказать тяжко. Небывальшина эта — вся на чарах. Могуч был тот, кто сотворил такое. И ветер в небе, и пузырь, и парус, а попервее них — сами деревья, что растут лежа да дружка сквозь дружку. И еще кровь…
— Кровь? — вздрогнула Тамара.
— Кровь, — подтвердил домовой. — Много крови пролилось в древесных недрах этой тележины. Убивали там личеней и незнатей, оружием убивали и чарами, а то и голыми руками.
— И они, те, кто убивал… там сидят? — со страхом глядя на удаляющееся зловещее сооружение, тихо проговорила девушка.
— Нет, только мертвяков чую. А мы с тобой — давай-ка догоним эту кибитку. Мыслю я — пехом не выбраться из здешней пущи.
— Ты хочешь сказать… — начала Тамара, но Мыря перебил ее:
— Идти можешь?
Потрогав ноющее колено, девушка кивнула.
— Тогда давай, ходу!
Выбравшись из зарослей, они побежали по просеке за гигантской «кибиткой». Догнать ее оказалось не сложно — сооружение двигалось со скоростью спокойно идущего человека.
— Лестницу видишь? — крикнул Мыря, семеня сбоку от Тамары — у домового слетали с ног большеразмерные валенки.
— К-какую? Где? — запыхавшись, спросила она, всматриваясь в приближающийся колтун из стволов и ветвей. Спросила — и тут же увидела свисающую до земли веревочную лесенку, волочащуюся по траве.
— Хватайся и залазь! — распорядился Мыря.
— Как?! — завопила в ответ Тамара, до смерти напуганная даже не фактом того, что ей предстоит лезть на такую верхотуру по кажущимся такими непрочными веревочным ступеням, а тем — куда нужно лезть.
— Давай, девка, давай! — не слушая ее, надсаживался домовой. — Не влезем — к ночи на ентой прогалине взвоем, помяни мое слово!
«Черт бородатый!» — разозлилась Тамара и, добежав, вцепилась во влажную, осклизлую веревку. Наступив сапожком на самую нижнюю ступеньку, она повисла в воздухе, раскачиваясь, как маятник.
— Да лезь же ты! — рявкнул за спиной Мыря.
И Тамара полезла. Ветер, крепчавший с каждым метром подъема, бил ее о выпирающие стволы, сор и труха летели в глаза, забиваясь под очки, веревка резала руки, подошвы соскальзывали. Тем не менее она поднималась все выше и выше, стараясь удерживать себя от желания посмотреть вниз — много ли уже пройдено?
Потоки воздуха трепали волосы, полоскали плащ, колоколом раздували юбку. «Надо было брюки надеть! — подумала Тамара и тут же обругала себя: — Дурында! Знала б, где упасть, соломки б подстелила!» Слово «упасть» опалило мозг, руки сделались ватными, под ложечкой захолодело.
— Не останавливайся! — рычал снизу Мыря. Он тоже повис на лестнице, и лезть стало легче — под весом двух тел она перестала болтаться, веревки натянулись, как струны, басовито запели.
«Я смогу, смогу, смогу… — как заклинание, повторяла про себя Тамара. — Еще чуть-чуть. Когда-нибудь эта лестница кончится. Я смогу…».
Но самое трудное ждало ее впереди. Переброшенная через верхний ствол лестница глубоко врезалась в морщинистую кору, и девушке пришлось хвататься руками за ломкие ветки, покрытые коричневой пленкой влаги. Едва не сорвавшись, Тамара вцепилась в скользкий ствол. Ломая ногти, подтянулась, перевалила показавшееся девушке неимоверно тяжелым собственное тело через толстый сук и, ободрав фудь и живот о бугристую кору, рухнула на свитый из ветвей упругий пол — или палубу? — сухопутного корабля…
До Шибякиной слободки Бойша добрался, когда уже рассвело. Слободку эту, крохотную, скорее и не слободку, а укрепленный починок, когда-то давно, еще до рождения Бойшиного деда, срубил в низинке между двух клиньев Стражного леса неведомый человек, пришедший с полудня по Кривой плеши. Как звали его — так и осталось тайной. Возведя двухэтажный основательный дом, ригу, стайку и хлев для скотины, огородив свои владения могучим частоколом и расчистив с помощью огня изрядный кусок лесовины под пашню, хозяин слободки пару раз наведался в соседние поселения, оставив по себе дурную память — был он угрюм, скуп на доброе слово, норовил выторговать скотину или семена для посева за бесценок и худо говорил о Всеблагом Отце. Поэтому когда нашли его вскорости придавленным еловым стволом, никто особо не горевал. «Шибануло мужика — и вся недолга», — сказал староста Корчагского посада, и пришельца под именем Шибяка схоронили у ощетинившейся почерневшими идолами-охранителями ограды погоста. Починок облюбовали охотники, праздная пашня заросла лебедой.
И быть бы этому месту пусту, но нашелся в Займищах человек, кузнец-скобарь Самарка. Ему и приглянулся одинокий дом середь лесов. Скобари, они, известное дело, обособиться любят, чтобы мастерство свое, чистым людям противное, без чужих глаз творить. Не зря говорят в народе: «От скобаря до технаря — шаг шагнуть». Семейство у Самарки большое было, восемь душ детей, жена да свояченица. Зазеленела пашня, в перестроенной под кузню риге зазвенели молоты. Вскоре расстраиваться, расти начал починок. Городьба поползла вширь, встали новые избы, клети, сараи, дровяники. Уже только на Бойшиной памяти не меньше пятка свежесрубленных домов в Шибякиной слободе прибавилось. Но весь народ тамошний, и сродственники почившего уже Самарки, и пришлый люд, все за ремесло держались, за железо да огонь. Оттого и с итерами дела имели, не то что чистуны из других слободок. Пару раз хотели люди сжечь гнездилище скверны, да нашлись разумники, отговорили: «Избы спалить да скобарей по миру пустить — дело нехитрое. А кто будет скобяной товар ладить? Гвозди, насады, ножи, косы, вилы, топоры ковать? Петли да запоры дверные ладить? Именем Всеблагого Отца дверь от татей не запрешь». Так и осталась Шибякина слободка бельмом на глазу у всей округи.
Бойша вынырнул из зарослей краснотала, весь облепленный узкими блеклыми листьями. Справа темной дружиной встал Стражный лес, налево вдаль уходила путеводная плешь. На ней, по счастью, не было видно ни одного коня. До осенних ярмарок еще три седмицы, сейчас самая страда, по всей Россейщине урожай убирают, тут не до поездок. «Оно и славно, — подумал Бойша, перебегая через травянистую гряду, отделявшую низинку от речной долины. — Лишних разговоров не будет».
Слободка открылась сразу вся — как на ладони. Несмотря на близость к реке и приглубое место, сырости здесь сроду не знали, напротив, дома стояли как на подбор — звонкие, сухие, даже в погребах плесени не водилось. «Видать, знал Шибяка, где строиться», — уже спокойно, лесным размашистым шагом спускаясь к слободке, размышлял Бойша.
С караульной вышки, торчавшей на взгорке, у дороги, его запоздало окликнул сторож, сухорукий дед Лышка.
— Свои, — отмахнулся Бойша. — С охоты я. Малость плутанул вот. Спи себе.
— Да я ни в жизнь! — тоненько и обиженно заблазил дед. — Хто меня видел, что я спал? Ты видел? Нет? Тогда язык свой дурной…
Усмехаясь, Бойша приблизился к городьбе, стукнул в калитку. Приврат, крепкий мужик по имени Хват, по прозвищу Пол Лица, отпирая, заворчал на Бойшу:
— Почто деда обижаешь? Старый он, а службу свою блюдет.
Итер глянул на приврата, которому еще в юности красный медведь из мертвоземья смахнул лапой всю левую сторону головы от носа до уха, задержался взглядом на узкой щелке ноздри, в которой трепетала от дыхания мутная слизь, вздохнул и ничего не сказал.
Шагая по единственной улочке просыпающейся слободки, Бойша в уме решал непростую задачу. Можно было — и сердце горячо толкалось в груди при этой мысли — сейчас же, нынешним же днем побежать на восход, в лабу к наруку. При хорошей погоде да целых ногах дойдет туда Бойша за две седмицы. Дойдет, отдаст тексты, скажет Стило Трошсын свое веское слово — и шабаш, не посмеет ничего возразить верховному итеру отец Талинки.
Разум же подсказывал Бойше, что торопиться все же не надо. Утекший из засады незнать наверняка всполошил чистуновских набольших по всему краю, а то и до князя весть донес об итере-убойце. Коли начнется охота да облава, Бойшу на путеводной плеши легче легкого возьмут. Отсидеться надо, спрятаться, выждать, покуда не успокоится округа, не забудется за другими делами история со смертью трех чистунов. Верил Бойша, что сыны Всеблагого Отца большого шума поднимать не будут, ибо те, кого он убил на Сухой тропе, тоже закон нарушили, итерские бумаги храня.
«Зайду к связчику, передам весть наруку — и в схрон за Белую воду уйду, — решил наконец Бойша. — Там до Солнцеворота отсижусь, а потом уж и на восход побегу. Со Званом Мехсыном уговор у нас был на две зимы, а они только к Новогодью истекут. И Атяма-незнатя проклятый срок тогда же закончится. Время есть. Лучше переждать. Талинке я живой нужен».
…Первый раз Бойша сватался к Талинке три года назад, когда юная красавица едва вошла в возраст, отметив четырнадцатую прожитую зиму, — и получил отказ. С горя подался он на Оку, в богатые торговые посады Залесья. Хотел наняться в караванное охранение и уйти подальше от родных мест. Но судьба извернулась ужом — в Каширском городище на постоялом дворе встретился Бойше знакомый куплец по имени Громадин, прозванный Заячье ухо. Было у Громадина два коня и пятнадцать лавок по всему Залесскому княжеству. Бойшу куплец знал — итер как-то спас целый обоз его товара от ватаги лиходеев.
— Приказчик мне нужен для важного дела, — выставив четверть духмяной смородиновой браги, сообщил Бойше Громадин. — Возы с золотянкой в Нижний сопроводить. Путь не близкий. Плешей в тех краях нету, лошадями идти надо. Возьмешься? Плачу товаром, харчом, монетами. Не обижу.
И Бойша взялся — себе на беду…
Весь день они осматривали удивительный и страшный корабль, ползущий по прямой, как стрела, просеке средь зачарованного леса. Страшный — потому что прав оказался незнать — были в трюме корабля люди, но люди мертвые. Ни Тамара, ни Мыря не знали, кто они и откуда, вот только смерть эти неведомые хозяева или пассажиры сухопутного судна приняли жуткую.
Первый труп обнаружился в носовой части корабля, в обширном помещении под верхней палубой. Но еще до того, как спуститься туда, домовой обратил внимание своей спутницы на пятна крови, темневшие на плотно сплетенных ветвях настила.
— Девка, ты оружья огнебойного, часом, с собой не брала?
Тамара развела руками. Да и какое оружие, если она ехала на операцию в качестве консультанта, эксперта, наблюдателя, а никак не участника задержания?
— Вот и я тоже, чурбак стоеросовый… — пробурчал Мыря и полез в круглую дыру лаза, к которой снизу была приставлена лестница, сработанная из целого елового ствола. Ступенями служили короткие толстые сучья, попарно оставленные через шаг. Лестница качалась и норовила крутануться, сбросить с себя Тамару. Ей пришлось потратить немало усилий, чтобы спуститься вниз.
Просторное помещение освещалось дневным светом через овальные дыры в стенах. Тамара заметила, что дыры эти расположены не абы как, а попарно, образованные одинаковыми извивами древесных стволов. Это окончательно убедило девушку, что чаровная повозка, пассажирами которой они стали, была сработана неизвестными умельцами, а не природной аномалией.
Мебель — вполне человеческий деревянный стол, пяток стульев, пара лавок, шкаф — валялась на полу, переломанная. Под ногами хрустели черепки, на глаза Тамаре попалась деревянная ложка, кружка, медный кувшин с крышкой. В той части помещения, что примыкала к носу судна, имелось еще одно окно, большое, широкое. Там с потолка свисали какие-то веревки с привязанными к ним палками.
Вдруг Мыря зашипел и потянул из-за пазухи свой короткий и широкий костяной нож. В дальнем углу, у дверного проема, лежал лицом вниз мертвец. Сначала Тамара и не поняла, что это человек, продолжая бродить по разгромленной каюте, но домовой жестом остановил ее, на согнутых ногах подобрался к телу и потыкал его острием ножа. Убедившись, что человек мертв, Мыря умело перевернул труп на спину, и Тамара вскрикнула — у человека была разворочена грудь и из страшной раны торчали потемневшие от запекшейся крови ребра.
Принюхавшись, домовой скривился:
— Дня четыре как убоен. Подтухать начал.
Но самый страх начался потом, когда они спустились в чрево корабля. Трупы теперь попадались с пугающим постоянством. Они были везде — в коридорах, в тесных закутах и длинных темных помещениях, заваленных туго набитыми сырой шерстью мешками. В кормой части обнаружилось целое побоище — одиннадцать человек приняли здесь смерть, до последнего отбиваясь от неведомого врага. Ни один из мертвецов не умер легко — все тела были истерзаны, с разорванными шеями, с выпущенными кишками, проломленными головами…
От приторно-сладкого запаха разлагающейся плоти, от вида изувеченных людей Тамару вырвало. Домовой, с озабоченным видом обшаривавший трупы, оглянулся на девушку, покачал головой:
— Вот это ты, девка, зря. Жратвы у нас нет, и здеся, как я гляжу, ею нам не разжиться. Економить надоть.
После слов Мыри Тамару снова скрутило судорогой. Выбравшись на верхнюю палубу и отдышавшись, она вытерла лицо и спросила у присоединившегося к ней домового:
— Что это за люди? Откуда? Кто их убил?
— Чего не знаю — того не знаю. — Мыря, хмуря кустистые брови, вынимал из мешка и раскладывал на плетеном полу вещи убитых. Тут были грубокованые ножи с деревянными и костяными ручками, ложки, кружки, цепочки с какими-то странными амулетами, самодельные зажигалки, иголки, пригоршня монет, клочки бумаги, шило, несколько катушек ниток, сильно исцарапанное увеличительное стекло и большой кусок смолы.
Подойдя к домовому, Тамара присела рядом, разглядывая находки. Они напоминали экспонаты раздела «История нашего города» из какого-нибудь провинциального краеведческого музея. Более всего девушку заинтересовали монеты. Но, осмотрев их, Тамара вынуждена была с разочарованием признать — это ничего не прибавило к их с Мырей знаниям об окружающей действительности. Медные, бронзовые, серебряные, очень сильно истертые и грязные, монеты представляли чуть ли не все страны мира. Были тут и евро, и рубли, и норвежские кроны, и британские фунты и пенсы, и турецкие лиры, и китайские юани, и иранские риалы, и украинские гривны и копинки, и даже австралийские доллары разных годов выпуска — от конца девятнадцатого века до начала века двадцать первого.
Отдельно лежало оружие — несколько широких кинжалов, топорик с выщербленным лезвием, тяжеленная медная булава на короткой рукояти и сабля со сломанным клинком.
Более при мертвецах обнаружить ничего не удалось — ни документов, ни каких-либо бумаг или других вещей, позволяющих опознать, какой национальности убитые и где сейчас находятся Мыря и Тамара.
Нехорошее предчувствие, поселившееся в душе девушки, словно бы нашептывало: «Не удалось — и хорошо. И ладно, и пускай. Иногда неведение лучше, чем знание. Не спеши, может, все как-то само собой образуется…»
Но Тамара уже понимала — нет, не образуется. Слишком много вопросов и практически нет ни одного ответа. Причем вопросы-то не глобальные, уровня «кто виноват?» и «что делать?», а самые примитивные, бытовые: отчего такого дикого покроя одежда у убитых на древесном корабле людей? Почему ткань грубая и прокрашена плохо, пятнами? Почему вместо нижнего белья какие-то грязные тряпки? Почему оружие только холодное?
Очень хотелось бы ответить — да и напрашивался такой ответ на все вопросы разом — мол, прошлое вокруг. Засосало Тамару и Мырю во временную дыру и выбросило где-то в семнадцатом или даже пятнадцатом веке. В эту версию очень хорошо укладывалось все, кроме монет и обломка DVD-диска, обнаруженного Тамарой в куче мусора. На кусочке пластмассы, с одной стороны сияющей металлическим напылением, а с другой выкрашенной в синий цвет, ясно читалась надпись: «© 202.. г. Все права защищены. Предназначен для просмотра в домашни…» Какая цифра стояла после единицы, мешала рассмотреть глубокая царапина, но, в сущности, это и не важно. Важно было другое: там, в нормальной жизни, из которой Тамару кто-то или что-то выдернуло, как морковку из грядки, никакого 202.. года еще не было.
Причем разменять третий десяток новый век готовился не так чтобы и скоро.
«Вполне может быть, что эти предметы — монеты, диск — тоже попали в прошлое, как и мы», — размышляла Тамара и тут же одернула себя — она занималась типичной «подгонкой под результат». С другой стороны, версии о параллельном мире или заповедной зоне в нормальной, земной реальности тоже не выдерживали критики. Точнее, все эти варианты были одинаково бездоказательны.