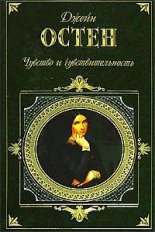Пророк Темного мира Волков Сергей

Обиходив раненого, Тамара попыталась напоить его, но парень упрямо стискивал крепкие белые зубы и вода бесполезно текла по заросшим соломенной щетиной щекам. В себя он так и не пришел, однако дышать стал чаще, ровнее, и мертвенная бледность, затопившая было лицо, схлынула, смягчив линию губ и высокие скулы.
«Покой ему нужен, — догадалась Тамара. — У него черепно-мозговая, наверняка сотрясение. Первая помощь в этом случае… О Господи, все из головы повылетало! Ликвор… Это жидкость, в которой находится мозг. Кровянистые выделения из носа и ушей… нет, это при повреждении основания черепа. Ни черта не помню!»
Рассердившись на себя, девушка прикрыла лицо раненого последним оставшимся обрывком блузки, чтобы солнце не светило тому в глаза, и принялась надевать штаны — до этого просто времени не нашлось, — вполголоса ругая свою забывчивость.
Ночь выдалась тревожная, бессонная.
Осталась далеко за кормой несчастная деревня, поглощенная колдовским мраком. Окрест лежали пустынные земли, перевитые петлями речушек. По желтым спинам пригорков носились какие-то крупные рогатые животные, но ни Тамара, ни Мыря не смогли определить, какие именно. Однажды путь древесному кораблю пересекла вполне обычная проселочная дорога — вытертые до глины колеи, трава по обочинам. Еще видели путники в стороне развалины — серые, объеденные ветрами да дождями стены, утонувшие в зарослях крапивы.
Было тепло, душно. Похлопывал под порывами верхового чаровного ветра парус, пищали в зарослях на корме проворные зубачи. За день они полностью очистили трюмы, подъев всех мертвецов.
— Оно и ладно. Видать, в заводе тут такое, — легко согласился с таким положением вещей Мыря, но Тамару передернуло от одной только мысли, что и ее тело, случись что, вот так же просто сожрут безо всякого погребения.
Едва отполыхал закат, как в темнеющем небе закружили стаи птиц. Взошла бледная, криволикая луна. Высыпали звезды.
— Спать в очередь будем, — предложил Мыря. Тамара молча кивнула — сил на разговоры не осталось. Домовой сел у борта, подтянул к себе охапку набранной накануне травы, взялся сортировать ее и раскладывать на кучки.
Но едва Тамара уронила голову на свернугый кожух домового, как очнулся раненый. Он выгнулся дугой, скребя ногами по палубе, закричал страшно и яростно. В неровном, сполошном свете пузыря, висящего над кораблем, лицо парня казалось черным, глаза закатились. Сильными руками он драл повязки на ранах, выкрикивал несвязные слова, выл, рычал.
— Держи его! — заорал Мыря, всем телом наваливаясь на бьющегося в припадке человека. Тамара вскочила, обхватила ноги парня. — Вязать его надо, иначе сам себя искалечит. — Домовой крабом повис на дергающемся теле раненого. — В мешке его пошарь, может, там веревка сыщется.
Веревка действительно нашлась. Целый моток волосатого шнура хранился в боковом кармане рюкзака. Спеленав парня, путники растерянно уставились друг на друга. У раненого пошла изо рта пена, затылок колотился о ветви палубы.
— Во как лихоманка его скрутила, — вздохнул Мыря. — Огонь нужен. Отпаивать будем, теплым, личеньим питьем — чтобы тело вспомнило, что живо оно. Вытряхай мешок, карманы обшарь, а я сучьев нарублю.
Подхватив топорик, домовой убежал на корму, и вскоре оттуда послышался стук и треск. Древесный корабль снова недовольно затрещал, палуба заходила ходуном. Парень перестал биться, лежал неподвижно, лишь широкая грудь, покрытая кровавыми пятнами, проступившими сквозь повязки, мерно поднималась и опускалась. Тамара опростала рюкзак, разгребла горой высыпавшиеся вещи, отыскивая спички, зажигалку или какое-нибудь приспособление для добычи огня. Ничего не обнаружив, девушка взялась за одежду раненого. Плоская зажигалка, вполне современная, бензиновая, нашлась в нагрудном кармане стеганой вытертой куртки. Крутанув колесико, Тамара обрадованно улыбнулась — горит! Правда, пахло от зажигалки не бензином, а какой-то сивухой, ну да когда надо огня добыть, тут уж не до парфюмерных изысков.
Притопал Мыря, свалил у борта охапку дров, выругался:
— Ный его возьми, ветки здеся как каменные!
Костер развели в одном из опустевших ведер, пробив в стенках дырки для тяги. Сверху домовой приспособил котелок, сокрушенно покачал головой над остатками воды, но скупиться не стал — налил щедро. Сунув в котелок пучки листьев подорожника и пустырника, он сел рядом с импровизированным очагом, взлохматил бороду.
— Не знаю, поможет ли… Дохтор ему нужен, хороший. И больница, где машины всякие с проводами. Вишь, как било человека…
Тамара молча кивнула — а что говорить, если и так все ясно? Чтобы как-то занять себя, девушка взялась разбирать веши раненого. Ей сразу бросилось в глаза, что хозяин кожаного рюкзака — человек бывалый и опытный. В его скарбе не было ничего лишнего. Тут обнаружилась еда — узелок с сухарями, завернутый в промасленную бумагу кусок сала, пяток вареных яиц, три вяленые рыбы — самые обыкновенные подлещики, — берестяной туесок с толченой картошкой, сдобренной подсолнечным маслом, долбленая коробочка с солью и старая, потертая серебряная фляжка, наполненная самогоном.
Одежда была сложена аккуратно: две пары шерстяных чулок, толстый вязаный свитер, меховые рукавицы, странная войлочная шапка, более всего похожая на капюшон, отстегнутый от куртки. Тамара более всего обрадовалась отрезу льняного полотна метра полтора на полтора — будет из чего нарезать новых бинтов. Среди вещей девушка наткнулась на завернутое в мешковину медное складное банджо с причудливыми прорезями на барабане.
Отдельно лежало оружие — нож в деревянных ножнах, кожаная трубка с порохом, коробочка с разнокалиберными гильзами, завернутые в обрывок кожи капсюли, слиток свинца, какие-то металлические инструменты, видимо, предназначенные для отливки пуль, пара медных пустых магазинов, квадратных, перевязанных бечевкой, и брезентовый подсумок с десятком необычных патронов. На вид это были автоматные патроны калибра 7,62 для АК.М, но свинцовые пули, короткие, с тупыми оголовками, явно сработали в кустарных условиях.
Боеприпасы напомнили Тамаре об оружии парня. Мыря приволок это странное ружье вместе с мешком, и оно так и валялось в самом носу судна. Девушка подняла ружье и удивленно вскрикнула.
— Чего там? — Задремавший Мыря вскинул голову.
— Посмотри, какая интересная вещь! — Тамара показал незнатю оружие.
— Да чего там больно интересного… — проворчал тот. — Самосдельный огнестрел, обычное дело.
— Да уж, обычное, — прошептала Тамара, разглядывая ружье. Точнее, никакое это было не ружье, а самый настоящий автомат, штурмовая винтовка, если брать по натовской классификации. В предках у него явно числился все тот же «Калашников», и основные элементы конструкции остались неизменными. Но как они выглядели! Ствольная коробка, угловатая, высокая, была кованой, и по бокам ее вился травленный по стали орнамент. Ствол, многогранный, имел в длину не менее метра, газовую трубку неизвестный мастер сделал цельнометаллической и тоже более длинной, чем у оригинала. Ручка затворной рамы торчала в бок не менее чем на пятнадцать сантиметров и имела вид чешуйчатой змеи, изогнувшей головку в сторону выстрела. Флажок предохранителя-переключателя отсутствовал вовсе, зато имелась прикрепленная винтом к коробке поворотная Г-образная скобка, которая в нижнем положении и запирала затвор. На пистолетной рукоятке обнаружился тот же орнамент, что и на коробке, а в центре Тамара разглядела крохотный значок или герб: скрещенные молотки на фоне шестерни. Магазин у автомата отличался от калашниковского — прямой, короткий, на десять патронов. Но самым примечательным, пожалуй, был приклад. Длинный, узкий, резной, с выложенными серебряными гвоздиками узорами, в тыльной части он имел закрытую крышкой глубокую выемку, где хранились не только отвертка и масленка, но и короткий цельнометаллический нож, пяток патронов и десяток монет, отлично сохранившихся российских рублевиков двухтысячных годов — видимо, запас на самый крайний случай.
— А узор-то по сторонам приклада разнится, — хмыкнул Мыря, через Тамарино плечо разглядывая оружие.
— И что это значит?
— Я так мерекаю: кажный гвоздик — душа загубленная. Стрелил хозяин автомата кого — и тюк гвоздик в приклад. Так и натюкал…
— Да уж… — прошептала Тамара, откладывая оружие.
Еще в мешке обнаружился тяжелый квадратный сверток. Развернув тонко выделанную черную кожу, девушка увидела стопку бумаги, заключенную между тонких деревянных пластин. Это была не книга, а скорее тетрадь или альбом, исписанный более чем наполовину. Тамара листала желтоватые рыхлые страницы, пытаясь прочесть рукописный текст, но не понимала ни слова. Буквы были русскими, точнее, кириллическими, но написанные слитно, без пробелов, строки не поддавались переводу. «Это шифр», — поняла девушка. Она попыталась припомнить институтский курс криптографии, но, кроме «шифра Цезаря» и литореи, ничего на ум не пришло. «Ладно, отложим эти загадки на потом», — решила Тамара и убрала тетрадь обратно в рюкзак.
Но более всего поразил девушку прибор ночного видения. Обычный армейский ноктовизор, старый, обшарпанный, но при этом с заряженной батареей…
Подоспел отвар. Мыря остудил его, переливая из котелка в найденный кувшин и обратно.
— Давай, девка, голову ему подержи.
Присев рядом с неподвижно лежащим раненым, Тамара осторожно прикоснулась ладонями к мокрым, свалявшимся завиткам русых волос. Домовой тупой стороной ножа разжал парню рот и влил туда немного коричневого отвара. Влил — и зажал нос. Раненый всхлипнул, закашлялся, но питье проглотил.
— От и хорошо, — обрадовался Мыря, вливая новую порцию. Так он споил парню полкотелка.
— Давай и ты глотни. Не помешает. — Мыря протянул закопченный котелок Тамаре. Она приняла посудину, глотнула и скривилась:
— Горькое какое, фу!
— Конечно, горькое. В горечи самая целебность, — рассудительно сказал домовой. — Оно ведь как: горечь лечит, сладость калечит. Горечь в помощь, а сласть — грязь. Пей, девка, пей.
Тамара выпила. От травяного отвара по всему телу разлилась истома, голова сделалась тяжелой, сонной.
— Развязать надо парня, — пробубнил Мыря. — Руки передавит вервьем. Ну, я погляжу пока, а ты спи. Под утро разбужу…
…Проснулась Тамара, сама не зная от чего. Костерок давно прогорел, луна закатилась, канула в дальние леса. Палубу освещали лишь мягкие вспышки воздушного пузыря. И в этом неверном свете девушка увидела, что Мыря вместо караула сладко спит, привалившись нечесаной головой к мешку раненого, а вот хозяин мешка очнулся и теперь ползет к своему оружию, не сводя горящих ненавистью глаз с домового.
Вскочив, Тамара бросилась к автомату, схватила его за холодный ствол, спрятала за спину. Парень заскрипел зубами, приподнялся на руках и выкашлял:
— Ты-ы! Ты же… человек! А с незнатью… Тьфу-у!!
Силы покинули его, и забинтованная голова с глухим стуком упала на палубу. Разбудив домового, Тамара обозвала того засоней и велела спрятать автомат и прочее оружие от греха подальше.
— Я лучше калеченника энтого заново свяжу, — рассудительно сказал заспанный Мыря и споро примотал обеспамятевшего парня к борту древесного корабля.
— Мне кажется, или пузырь наш действительно сморщился? — озабоченно спросила у домового Тамара, указывая вверх.
— Так и есть, — кивнул Мыря. — Второй день уже как. И пыхает в нем слабже.
— Чаровство кончается?
— Да в нем-то как раз никаких чар нету. Тварюшки там какие-то копошатся — это я вижу. И боле ничего.
Тамара собиралась еще что-то сказать, но тут застонал, забился в путах раненый, и девушка бросилась к нему. И начался уже привычный ад: человек выламывался из рук, хрипел, пуча налитые кровью глаза, выл, скрипел зубами, рвал ремни, чтобы вдруг затихнуть, застыть обмякшим кулем — до следующего припадка.
Утихомиривая парня, Мыря и Тамара пропустили момент, когда древесный корабль вполз на очередной увал, и впереди открылся широкий, долгий луг, зеленым платком расстелившийся по обе стороны от спокойной, медлительной реки.
На лугу раскинулось поселение — не малодомная деревенька вроде той, что съела жуткая тьма у кривого холма, а настоящий город, обнесенный полноценной стеной с валом и рвом. Тамара, случайно оторвав взгляд от раненого и заметив вдали укрытые тесовыми шатрами пузатые башни, испуганно вскрикнула. Мыря проворно вскочил на изгиб кривого корня, хватаясь за гнущиеся отростки, поднялся повыше, жадно вглядываясь в разворачивающуюся панораму.
Выстроенный из дерева город рябым блином прилег у речной излучины, ощетинившись коньками теремных крыш. На длинных шестах трещали флажки и мотались змеиные хвосты бунчуков. Угрюмые стены, почерневшие от времени, нависали над пьяно сползшими в овраги избами посада. Торная дорога, по которой двигался древесный корабль, упиралась в необъятной ширины ворота, единственная створка которых, представляющая собой целый кусок срубной стены, была откачена в сторону. За воротами дорога шла дальше, деля город надвое, пересекала по мосту реку и уходила к замглившемуся горизонту.
— Вот и добрались до людей, — устало сказала Тамара. — Скоро все и узнаем…
— Соскочить бы, — озабоченно жуя бороду, промычал Мыря, — да оглядеться… Не, не успеем. Пока калеченного нашего спускать станем, уже внутрях окажемся. Да-а, попали мы, аки кур в ощип. Припрячу-ка я винтовочку-то.
— Думаешь, поможет? — усмехнулась девушка. — Тут на глаз тысяч пять народу живет. Без рук затопчут.
— Поможет — не поможет, а быком на бойне я не буду, — зло сверкнул глазами домовой. — Я тебе не говорил допреж… Тут Красная печать молчит. Совсем. Так что никакой подмоги нам не обломится. Вся надёжа — на самих себя. А потому бери вон косари и чуть чего — пластай всех подряд. Судьба — она отчаянных любит.
— Да с чего ты взял, что нас тут врагами посчитают? — взвилась Тамара, хотя в душе понимала — это спор ради спора, шансов быть встреченными гостеприимно у них нет. Чужаков нигде и никогда не любили, об этом вся мировая история не говорит, а прямо-таки кричит.
— Я не взял. Я — знаю, — просто ответил Мыря и, взвалив на плечо автомат раненого, убрался в трюм.
Солнце стояло высоко. С юга наползали пласты облачных полей, сизые, будто отлитые из свинца. По сторонам от корабля поплыли жердяные заплоты, за которыми чернели вскопанной землей недавно убранные огороды. В придорожных зарослях одурело стрекотали кузнечики, спешащие всласть наораться перед зимним небытием. В воздухе цвирькали стрижи, промышлявшие мошек. Они тоже торопились набить зобики — птах ждал долгий осенний путь к теплым берегам чужих морей.
Первые домики, низенькие, точно по самые окна вбитые в землю, поразили Тамару какой-то общей неухоженностью, бесприютностью. Гнилая солома на крышах, зеленые пятна лишайников на темных бревнах, кривые крылечки — и всюду грязь, грязь, грязь…
По левому борту открылась длинная лужа, из которой торчала облепленная голубями коряга. В луже, подставив солнечным лучам блестящие от грязи животы, возлежали свиньи. Тут же плескались ребятишки, десятка полтора мальчишек и девчонок. Завидев корабль, они дружно выбрались из своей купальни и, разбрасывая по лопухам темные брызги, заплясали поодаль, выкрикивая на разные голоса:
— Конь пришел! «Гиблец» пришел! Ха-ха! «Гиблец» притащился! Гиблый гиблых к гибели везет! Ха-ха!
Тамара усилием воли заставила себя сузить вытаращенные от страха глаза и сжала кулачки так, что ногти впились в ладони. Ей и без того было до обморока жутко — стоять на самом пороге неизвестности. Но вот выяснилось, что местные жители разговаривают на русском языке, и это почему-то напугало девушку еще сильнее.
Дома вокруг пошли гуще, теснее. Солому на кровлях сменила дранка, у заборов подняли кудрявые головы яблони, в палисадах вспыхнули золотые шары, распустили свои розовые и красные губы высокие гладиолусы. Заквохтали куры, где-то заржала лошадь, протяжно взмыкнула в хлеву корова. Люди в огородах и на дворах бросали работу, распрямляя натруженные спины, и из-под рук смотрели на тащащийся мимо древесный корабль — и на одинокую фигурку Тамары, возвышающуюся над бортом.
Мыря высунулся из трюма:
— Девка, ты дальнозорочью страдаешь али близорукием?
— Дально… а зачем?
— Очки сымай! Сымай от греха.
И домовой скрылся.
Городские ворота приблизились. Из низкого барака, притулившегося к изножью привратной башни, не спеша выходили стражники. Были они в шлемах, с копьями, у поясов качались в такт шагам кривые сабли. Но Тамара смотрела не на них.
Поверх откаченного в сторону воротного заплота горбатилась виселица, а на ней в петле висел голый человеке мешком на голове. Руки у казненного были огрублены по локоть, ноги — по колена, в синем вспученном брюхе чернела дыра, и оттуда с веселым чириканьем нет-нет да и выпархивали воробьи…
Стражники, которых набралось под два десятка, разошлись по обе стороны дороги. Вперед вышел осанистый мужчина с черной окладистой бородой. На груди его золотом горела разлапистая бляха, подвешенная на толстенной цепи.
— Эй, на коне! — зычным голосом крикнул он. — Отвечай как на духу — чужие, недужные абы итеры есть?
Тамара беспомощно развела руками — она поняла вопрос, но не знала, что ответить.
— Ты, дурында, граблями не маши, а мужика какого позови! — повелительно рявкнул начальник стражи. — Али нету мужиков?
— Нету, — ответила Тамара.
— Чего ты там пищишь? Громчее! Гляди, плетей на коновязи дадим, чахолка ободранная, — глумливо улыбаясь, откровенно издевался стражник. Вокруг собирался народ, уже слышался хохот, выкрики.
— Тебе что, зенки жиром залепило?! — гаркнул над ухом Тамары выбравшийся наверх Мыря. — Я здесь мужик! Чего надо?
— Эва как базлает, — нахмурившись, обратился к старшему один из стражников. — Чужинец, точно. Снимать будем?
— Да это ж незнать! — ахнул кто-то в толпе. И тотчас потек поверх людских голов приглушенный говор:
— Незнать! Незнать! Конь «Гиблец» незнатя привез!
А дальше случилось такое, что Тамара забыла и про страх, и про обиду: стражники поснимали шлемы, люди в толпе содрали с голов шапки и платки — и весь народ по сторонам от древесного корабля повалился на колени, глухими голосами бубня:
— Пощади, господин! Пощади-и-и…
— То-то! — остывая, сказал Мыря, но Тамара видела — во взгляде, которым домовой оглядывал склоненные спины, сквозила растерянность и непонимание происходящего.
В кованом поставце горела лучина. Угольки черными кривыми червячками падали в выдолбленную из елового корня чашу, наполненную водой. Тамара, положив локти на стол и подперев кулачками щеки, задумчиво глядела на еле заметно трепещущий огонек. Несмотря на внешнее спокойствие, в голове девушки листопадом кружились мысли. Этот сумбур настойчиво требовал какого-то упорядочивания, но Тамара никак не могла сосредоточиться на чем-то одном, все время перескакивая с пятого на десятое.
Слишком много второстепенной информации — и слишком мало прямых ответов на вопросы, интересовавшие девушку. Взять самые простейшие — какой сейчас год? Макша, служанка в тереме городского старшины Гнатило Зварсына, ответила так:
— Две сотни, однако, есть, как Всеблагой Отец явился.
Сам Гнатило, мерзковатый старикашка с блудливо бегающими глазками, сказал по-другому, еще непонятнее:
— Двести сорок восьмой год.
А дружинный голова городища Зубан, которого все в глаза и за глаза звали Брекатилом, растолковал иначе:
— Нового времени двести сорок восьмой, а старого — шесть тыщ какой-то там год сейчас. Ты, девка, у незнатя своего спроси, кто, как не он, знать должон. Али боишься?
— Опасаюсь, — в тон ражему Брекатилу ответила Тамара, и дружинный голова понимающе кивнул. Незнатей тут боялись все, боялись до судорог, до одури и чуть что — падали Мыре в ноги, умоляя не гневаться. Домового это, судя по всему, особо не удивляло. Выбрав момент, Тамара спросила — почему?
— А в древние времена, девка, пращуры твои нам, Людям Ночи, завсегда кланялись, — важно ответил домовой.
«Древние времена… — размышляла Тамара, следя, как очередная черная чешуйка оторвалась от прогорающей лучины и канула в чашу, тонко щипнув на прощание. — Но это не может быть прошлым! Пусть я и не профессиональный историк, но даже того, что мне известно, с лихвой хватает, чтобы понять — не было в нашей истории ТАКОГО прошлого! Да и опора ЛЭП, обломок компакт-диска, монеты и автомат с патронами никак не могли появиться ни в пятнадцатом веке, ни раньше».
Она вспомнила об увиденном в городище, пока конь — так здесь называли древесные корабли — вез их по путеводной плеши к терему старшины. Конь, на котором путешествовали Мыря и Тамара, носил жутковатое имя «Гиблец».
Сразу от городской стены начинались избы, поставленные очень близко одна к другой. Рубленные из потемневших бревен, они наползали одна на другую, смыкаясь крышами, а на задах щепились кровли сараев. Закопченные трубы курились дымками, сиротливо торчали в небо жердины колодезных журавлей. Крохотные окна изб казались подслеповатыми глазами недужных людей, угрюмо глядевших на Тамару из-под низко надвинутых шапок крыш. При этом ни одно строение не приближалось к путеводной плеши ближе чем на десять шагов.
Никаких тротуаров не было и в помине. Накануне прошел дождь, и земля между домами жирно блестела, растоптанная в грязь множеством ног. Всюду стояли лужи, валялся сор, объедки. Жители городища ходили преимущественно босиком, лишь у некоторых Тамара заметила грязные опорки, перевязанные полосками ткани. Сапоги носили только дружинники и привратная стража.
Одевались горожане в домотканое тряпье — иначе и не скажешь. Длиннополые кафтаны, куртки, рубахи вызывали из глубин памяти слова, связанные с произведениями русских классиков — зипун, армяк, панева, душегрея. Все мужчины носили бороды, все женщины повязывали головы платками. Ярких цветов не было, господствовали бурые, серые, темно-зеленые тона.
Ближе к центру городища избы немного раздались, стало просторнее. Появились двухэтажные терема, сидевшие за высокими заборами, как грибы во мхах. Народу прибавилось, Тамара заметила несколько телег, запряженных лошадьми. Рыночная площадь поразила девушку страшной вонью. В воздухе носилось сонмище мух. Собственно, ужасный запах нечистот и гнили преследовал ее с самого начала, едва «Гиблец» пересек ворота, но на торжище вонь стояла особенно густая, вязкая, как кисель. Пахло навозом, мясной тухлятиной, мочой и какой-то непередаваемой кислятиной. Меж торговых рядов толкались люди. Стоял неумолчный ор, из которого выделялись то поросячий визг, то детский плач, то женские вопли, а то и отчаянный крик:
— Держи его! Украли! Вора держи-и!!
Блеяли овцы, мычали коровы. Звонко кричали петухи, и им хрипло вторили, будто передразнивая, многочисленные вороны, рассевшиеся по крышам теремов и башен.
«Боже мой, — подумала тогда Тамара, — неужели мне предстоит тут жить?! Какой кошмар! Я не выдержу…»
Но самое ужасное ей еще предстояло увидеть. Когда конь выполз на средину городища, открылся вид на странное здание с высоким крыльцом, нечто среднее между теремом и башней, окруженное по второму этажу крытой галереей и все покрытое затейливой резьбой. Свободное пространство перед строением полнилось людьми, но что это были за люди!
Безногие, безрукие, изувеченные так прихотливо, что разум отказывался понимать причины, вызвавшие такие чудовищные травмы; исхлестанные шрамами, с провалившимися носами, без нижних челюстей, без ушей, слепые, покрытые язвами, расчесами, нарывами, сыпью, сочащимися сукровицей и гноем ранами, все эти несчастные единым оглушающе низким голосом выли:
— Оте-е-ец! Бла-а-ага-а! Да-а-ай бла-а-ага-а!!
Они тянули руки, культи, головы, обратив навечно искаженные лица к широким запертым дверям дома-башни. Ударил невидимый Тамаре колокол, двери распахнулись, и над толпой возник седой человек в белых одеждах. Площадь взорвалась криками. Человек мелкими шажками вышел на крыльцо, неся перед собой большую сверкающую чашу.
— Бла-а-ага-а! Да-а-ай бла-а-ага-а!! Оте-е-е-ец!!! — с новой силой зарыдали люди, густо облепив перила крыльца. Чаша взметнулась ввысь и обрушила на сгрудившихся калек кровавый водопад. В том, что алая жидкость была именно кровью, Тамара не сомневалась ни секунды. Те из калеченных и недужных, кого окропило хотя бы каплей, торжествующе завопили, остальные с негодующим ревом рванулись со всех сторон к крыльцу. Возникла давка, над площадью повис уже не крик, а стон. Человек с пустой чашей скрылся, двери вновь закрылись. Теперь перед домом-башней ворочалось лишь безобразное и жуткое в своей безжалостной обреченности окровавленное чудовище толпы. Пока конь объезжал площадь, калеки немного успокоились, отхлынули от крыльца, и Тамара увидела на земле сплошной ковер из затоптанных и раздавленных заживо.
— Дурни, — кратко прокомментировал увиденное Мыря. — Личени, одно слово.
— Я тоже личениха! — со слезами на глазах повернулась к незнатю Тамара.
— И ты дура, — спокойно сказал домовой. — Была б умной, не глядела бы. Нас другое заботить должно — вишь, впереди?
Впереди была пристань, или, как говорили местные, коновязь. Путеводная плешь тут расширялась «из горлышка в бутылку», и по сторонам стояли в несколько рядов низкие длинные склады, вокруг которых суетился работный люд. На плеши Тамара заметила груду вырванных с корнем деревьев; в небе одиноко висел тусклый пузырь, подобный тому, что вез их коня все эти дни.
Поравнявшись с древесной кучей, «Гиблец» остановился — и вдруг палуба ухнула вниз, борта расселись, из трюма горой вывалились мешки, стая зубачей с писком прыснула в разные стороны, исчезая под складами. Тамара увидела, как оголенные корни деревьев, слагавших борта «Гиблеца», зашевелились, впиваясь в землю, точно черви.
— Вот, оказывается, как. Кормиться будет наша повозка. Ты очки спрячь получше — на всякий случай, — еле удержав равновесие, пробормотал Мыря. Он подал Тамаре руку, помогая подняться. Девушка бросилась к раненому, но тот перенес превращение коня в буреломный завал без последствий, все еще пребывая в беспамятстве.
А от высокого трехшатрового терема к ним уже двигался отряд дружинников в начищенных панцирях, сопровождавших тщедушного человечка, обряженного как напоказ — в шитый золотом халат, красные мягкие сапожки и высокую шапку с перьями. Это и был городской старшина Гнатило Зварсын. Мыря с самого начала повел себя с местными весьма удачно, хотя Тамаре показалось, что домовой особенно и не задумывался над своим поведением — просто с ходу начал орать и гневаться, словно все вокруг были виноваты.
Началось все с невинного в общем-то вопроса, последовавшего от Гнатилы следом за пышным приветствием:
— Не будет ли угодно господину незнатю поведать нам, откуда он и по какой надобности держит путь через земли княжества?
Тут Мыря и показал себя. Налившись кровью, он сдвинул брови и закричал, потрясая кулаками:
— Допрос мне учинять?! Дерьмоед! В землю вобью, в Ныеву падь!
Старшина, дружинники и собравшиеся вокруг жители — «Гиблеца» от ворот сопровождала изрядная толпа — немедленно рухнули на колени, склонив головы. Мыря довольно крякнул и начал спускаться, даже не оглянувшись на Тамару.
Так и пошло — незнать всюду шел первым, обращались все только к нему одному, кланялись ему же, а Тамаре досталась невзрачная роль «воспитанницы». И это было еще хорошо! Поначалу ее приняли за служанку, а жалкие попытки назваться «секретарем» едва не погубили все дело.
— Ученые слова знаешь?! — подозрительно нахмурился дружинный голова Зубан Брекатило. Спасло девушку вмешательство Мыри. Незнать небрежно бросил:
— Скаженная. Воспитанница моя. Не забижать! — И все стало на свои места. Так же легко разрешился и вопрос с раненым. Мыря сообщил Гнатиле, что если он умрет, всему городищу не поздоровится, — и бредящего парня тут же поместили в лечебню, приставив к нему лучших знахарей и сиделок.
И вот сидит теперь «скаженная воспитанница» в светелке одна-одинешенька и думу думает — что с нею случилось и как быть дальше. Собственно, «дальше» — это на самом деле был вопрос вопросов, потому что Мыря сразу сообщил старшине, что в городище они задерживаться не собираются. Вот раненого подлечат — и в путь. Какой путь, куда — это домового не заботило. Важно встопорщив бороду, он прочно утвердился в «золотой» горнице терема Гнатило, попивал брагу, взгромоздив ноги на свободную лавку, и время от времени ронял, обращаясь к пьяненькому старшине:
— Дело у нас. Тайное. Не вашего ума. Смотри, личень, чтобы барахлишко мое в целости было и ни одна душа живая к нему не приближалась!
Барахлишко — кожаный мешок раненого и завернутый в грязный Тамарин плащ его же автомат — сложили в светелке, где поселили девушку, поместив все в огромный ларь, запиравшийся винтовым замком. Ключ, больше похожий на пест от ступы, домовой носил с собой, Упрятав в карман галифе.
Тамара поежилась — осень вступала в свои права, по ночам землю били первые заморозки. В тереме тем не менее печи не топились, а люди на ночь укрывались тулупами. Овчины кишели блохами и омерзительно пахли. Тамара брезговала даже прикасаться к висящему в светелке тулупу и по ночам сворачивалась калачиком на жесткой лавке, натягивая на себя шерстяной платок, выданный ей вместе с остальной приличествующей девушке ее возраста и положения «воспитанницы» незнатя одеждой.
Наряд этот был страшно неудобным и сложным. Когда Тамара, кое-как вымывшись с помощью Макши в темной, закопченной бане, вышла в предбанник, стыдливо прикрываясь руками, и увидела разложенные на лавках и предназначенные для нее по приказу незнатя обновы, она растерялась.
— Ты что ж, матушка, всю жизнь в мужицкой справе ходила? — удивилась отжимавшая темные волосы Макша. Поглядев на трусики танга и сиреневый лифчик, она покачала мокрой головой: — Да-а, с незнатями вона как приходится… Недольщица ты, бедная… Бери, бери рубаху, натягивай. Срам упрятать надобно.
Рубаха, желтоватое рубище из жесткого льняного полотна, Тамаре показалась вполне сносной одеждой. Но это оказалось только основой многоступенчатого наряда. Рубаху полагалось подпоясать нижним, тканевым «срамным» поясом. Затем следовала юбка-панева из синей бязи. Сверху надевался просторный сарафан-колокол, затем полушерстяная душегрея, а поверх всего — летник, застегивающийся на множество оловянных круглых пуговичек. Все это подпоясывалось еще одним поясом — «нарядным», украшенным вышивкой, бисером и начищенными бронзовыми бляшками в виде маленьких солнышек. По бокам к поясу были подвешены расшитые цветными стеклышками кармашки-лакомники, куда Тамара сразу спрятала замотанные в тряпицу очки. В тереме летник полагалось снимать, а «нарядный» пояс перевязывать. На голову Тамаре Макша умело повязала платок-убрус, отошла на шаг, прищелкнула языком:
— Княжица! Просто княжица. А незнать твой не осерчает?
— Нет, он добрый, — беспечно отмахнулась Тамара.
— У-у, знать, крепко ты его за сучок держишь, раз такая смелая, — с завистью в голосе протянула Макша. Тамара сперва не поняла, о чем она, а когда дошло, приобрели совсем иной, стыдный смысл и другие слова служанки. «Так они ж все считают, что я… — ахнула Тамара. — Вот что означает „воспитанница“! Ну Мыря!»
Впрочем, следовало признать — для конспирации нынешнее положение дел было как нельзя лучшим. Незнать, гораздо свободнее Тамары ориентировавшийся в реалиях этого мира, пьянствовал в терему с городскими набольшими, собирая (как надеялась Тамара) информацию, а «воспитанница» сидела в светелке и прилежно ждала, когда господин призовет ее к себе для сеанса «воспитания».
Выходя из бани, Тамара на пороге споткнулась, наступив на подол длинного летника.
— Плюй, плюй на руку да по волосам проведи! — всполошилась Макша. — Плохая примета это — на банном пороге споткнуться. Плюй же!
— Да не верю я, — спокойно ответила Тамара, мысли которой в тот момент были заняты исключительно новым нарядом. Ходить в таком виде было ужасно неудобно. Кроме того, вся одежда, сшитая «на руках», не очень умело и аккуратно, пахла прокисшей кухонной тряпкой и, на взгляд Тамары, была просто уродливой. Но более всего девушку поразило не это. У местных женщин не было нижнего белья! Вообще. Только во время месячных они перевязывали чресла полосками материи, используя в качестве впитывающего материала сушеный болотный мох-серец.
«Пусть я буду дурой и „скаженной“, пусть самой распоследней „воспитанницей“, но без трусов я ходить не стану». И Тамара решила самостоятельно сшить себе несколько комплектов нижнего белья. Нитки и полотно у Макши наверняка найдутся.
Когда схлынуло нервное напряжение первых дней жизни в городище, именовавшемся Покровским, Тамара вспомнила о раненом. С тех пор как его унесли в лечебный покой при дружинном доме, пошли вторые сутки, а вестей оттуда не было. «Надо сказать Мыре, чтоб спросил», — подумала Тамара и пригорюнилась — незнатя она увидит не раньше обеда.
Трапезничали в большой горнице терема. За столом, помимо городского старшины и дружинного головы, собралось два десятка человек — дьяки, богатые куплецы и тот самый седой старец, что окроплял искалеченных людей с крыльца Дома Всеблагого Отца. Старца звали Волосием, и был он местным жрецом, «даряшим благо». Тамара узнала, что, согласно местным поверьям, освященная именем Всеблагого Отца в зачарованной чаше кровь нерожденного младенца способствует исцелению.
— В Володимирском посаде старец живет, Осанфий именем. Он с молодых лет без ног обретался — мозжун на охоте отдавил, — рассказывал жрец. — Когда чашу туда привезли, родня Осанфиева притащила калеку к Отцову Дому. Принял старец кровь святую на голову свою — и выросли ноги! Третий год пошел, как сам ходит!
— Вот что благодать Отцова делает! — важно кивали смазанными постным маслом головами куплецы, сдвигали кубки: — Да не обойдет и нас стороной милость Его!
Тамара сидела в самом конце стола, наблюдала. Мыря, утвердившись между городским старшиной и Зубаном, лучился довольством, поглощая жареного тетерева. Гости то и дело обращались к нему с предложениями выпить «на раз». Пили много. Водопадами лилась в кубки и ковши брага, шипел, исходя духмяной сладостью, хмельной мед в кувшинах, самогон шибал в нос ядреным запахом сивухи. Штофы, корчаги, братины гуляли над столом. Под стать выпивке была и закуска. Никаких правил, никакого этикета не было. И хозяева, и гости жрали, как в последний день. Запеченных поросят рвали руками, ножами кромсали пудовые колбасы и окорока, квашеную капусту брали горстями, запихивая в волосатые пасти. Куплецы мочили долгие бороды в мисках с фибами, вытирали о расшитые золотыми нитями опашни жирные пальцы.
— Как ты, господин, пошутковал-то по приезду — я, мол, тут мужик. — Гнатило Зварсын затрясся в мелком смехе, скаля гнилые зубы и дергая себя за куцую бороденку. — Теперя много времени народ про ту шутку и про тебя вспоминать будет.
— А без шутки забыл бы, что ли? — спросил Мыря, расслабленно откинувшись на спинку широкой скамьи и поглаживая округлившийся живот.
— Прости, господин, глупое слово сказал! — тут же согнулся в поклоне городской старшина. — Язык мой — враг мой…
— Тебе не язык, а голова — враг, — веско заметил домовой, лукаво подмигивая Тамаре. — Ладно, подымайся — прощаю… Вели подать еще меду — соскучился я по нему. И вот чего растолкуй — пошто конь, что доставил нас, «Гиблецом» зовется?
— Меда, господин незнать, вот тебе полная ендова. А про коня — это дело давнее. — Гнатило приложился к кубку, утер жиденькие усы и принялся рассказывать: — Изладился он во вторую очередь на Смоленской коновязи, стало быть, новиком считается и числится как тяжковозлый конь. Брюхо у него, сам видел, обширное, товару много влезает. Выплатил виру за «Гиблеца», в ту пору звавшегося «Мошной», куплец Стыка Шугайсын из Сасова городища. Набрал Стыка товара — клубеней, кож мятых, отрезов льняных, словом, всего, чем край Смоленский славится, приказных посадил, люд работный и погнал коня по Серебряной плеши на торговый посад, что Камским зовется. В назначенный день пришел конь на посад — товар цел…
Тут историю «Гиблеца» прервала громкая здравица в честь «гостя нашего дорогого, господина незнатя». Пирующие поднялись с мест, выпили, потрясли пустыми кубками и чашами над столом в знак того, что уважили домового по полной.
— Дык о чем я? — усевшись на лавку, проговорил городской старшина. — А, про коня! Так вот: товар цел. А ни куплеца, ни приказных, ни работников нетути. Ну, посадский подождал положенный срок да и выставил коня на торг. И взял его сам Потап Большая Рука, боярин Камского князя Урсуляка Дыйсына. Набил он коня под завяз рыбой вяленой да солониной и погнал на полудень, в Завольные земли. Там как раз засуха случилась, голодовал край, люд людей жрал. Большой куш собирался получить Потап, а только иначе все вышло — и самого боярина, и дружину его, и, опять же, приказных с той поры никто не видал боле. Конь же пришел сам-ход в стольный Завольский град Птицын пустой. Куды люди делись и весь товар — про то никто и по сей день не ведает. Да-а… Князь тамошний Симеон Карноух взял «Гиблеца» себе и снарядил к Черному болотищу — за целебной грязью. Сорок чанов в брюхо коню поставили, сорок на пять работников в поход ушло…
Новая здравица прервала рассказ Гнатилы. На этот раз пили за «чистого боярина, нашего городского старшину Гнатилу Зварсына». Снова зазвенели чаши, снова дождем посыпались капли из опустевшей посуды.
— Ну дык и вот, — уже с трудом ворочая языком, продолжил хозяин терема. — Перехватил коня на Кривой плеше дозор украйников. Чаны на месте, грязь в них черноболотинская, а людей опять же нетути. Тут к коню имечко его нынешнее и пристало. Гетман всея Украйщины Малодав Байстрюк повелел гнать такого коня прочь из его земель. Так «Гиблец» у тульцев очутился — их княжество с Украйщиной граничит. Тульцы не пальцем деланы, смекнули, что к чему, и незнатя из-за пущи позвали. Пришел незнать, чары навел, плату взял положенную — трех красных девок. Князь Тульской Жох Голая Голова, что нашему князю братом приходится единоутробным, коня в челноки назначил — товары по струне, «из Колы в Тулы», возить. Год проходил по струне «Гиблец» — и опять та же оказия. Малое число людей на нем было, шестеро тульцев всего — и все пропали. Осерчал Жох, продал коня за бесценок брату. Так «Гиблец» в наше пользование перешел. В последний-то раз погнали его из стольного града Можая мимо мертвоземья на восход, к Опоясному камню, за шерстью. У овец тамошних шерсть уж больно славная, теплая да ноская. Старшаком пошел Лугша Акимсын, Сивоплясом прозванный. Матерый приказной, бывалый. Ан и он, видать, сгинул. Вы-то где «Гиблеца» встретили?
— Шут его знает, — пожал плечами с интересом слушавший рассказ Гнатилы домовой. — В лесу. Но на второй день железного идола видели в поле, тряпьем обернутого…
— Ух ты, совсем близко ж! — Городской старшина наполнил кубки гостю и себе. — Тока не идол это, а перст диаволов, что из земли-матушки торчит. Всеблагой Отец с неба молоньями в него бьет, извести хочет, да пока силен еще проклятый, не поддается. Ну, господин незнать, выпьем!
Застолье повернуло на третий час. Уже храпели, уронив буйные головы прямо в объедки, самые нестойкие; уже вращал налитыми кровью глазами Брекатило. Грохоча кулаками по столу, он требовал у всех признания силы и мощи его дружины:
— Наши, посадские, любую другую дружину в княжестве за опояску заткнут! Всеблагой Отец свидетель — кто на кулачных игрищах в прошлом годе всех побил? Да что там в княжестве — по всей Россейщине другой такой нету! Князь-батюшка не зря меня, первого воинского голову, здесь посадил! Эй, Ливорний, мочало тухлое, ты что, мне не веришь? Мне?! Да я тебя на одну ладонь…
Дьяк Ливорний, ведавший в городище съестным припасом, прижимая к груди узкие ладошки, испачканные чернилами, клялся, что ничего такого он и в мыслях не имел и всеми силами уважает Зубана Оголсына.
— Ну тады я желаю силу свою показать! — рявкнул дружинный голова и потянул из ножен широкую саблю. — Верите, други, что за взмах один развалю я вот энтого молодца напополам?
Молодец, служка, притащивший к столу огромное блюдо с печеными налимами, застыл с побелевшим лицом — ни жив ни мертв. Блестящая сабля Зубана со свистом рассекла воздух. И быть бы тут зряшному кровопролитию, да вовремя вмешался Мыря. Оттолкнув в сторону изрядно охмелевшего старшину, он выбрался из-за стола, встал перед Брекатилом и усмехнулся:
— Такого сопляка всяк развалить сумеет. А ты вот меня попробуй!
Из дружинного головы хмель как ветром выдуло. Бормоча извинения и кланяясь, он сунул клинок в ножны, добрался до застеленной ковром лавки у стены, рухнул на нее и тут же заснул. Гости одобрительно зашумели — диковатый, тяжкий нравом Брекатило надоел всем. Служка, поставив блюдо, упал домовому в ноги, благодаря за избавление.
Очнувшийся от хмельной дури хозяин терема зычным голосом велел позвать музыкантов и девок-плясуний. В дверях немедленно возникла сутолока и ругань — все наперегонки торопились исполнить приказ старшины. Наконец на свободное место подле стола выбежал табунок девок в коротких сарафанах. Лица их были грубо и ярко размалеваны, заплетенные косы уложены в высокие прически.
Музыканты расселись в дальнем углу, достали инструменты — кувиклы, сопелки, брелки, жалейки, трещотки, бубен. Отдельно разместился заросший черной бородищей мужик, воткнувший в рот варган.
Грянула дикая, варварская мелодия, плясуньи закружились в танце, высоко выбрасывая голые ноги. Гости за столом начали посмеиваться, перемигиваться, потом полезли с лавок, присоединяясь к девкам. Началась форменная вакханалия, грозящая перерасти в оргию. Тамара скривилась и, улучив момент, пробралась к сыто отдувающемуся Мыре, который наблюдал за пляской, пристукивая ложкой в такт мелодии.
— Надо бы раненого нашего проведать, — прошипела она в волосатое ухо домового. — Или господин незнать уже и забыл про него?
В последнюю фразу Тамара вложила столько сарказма, что Мыря дернулся и повернул к ней красное лицо.
— А? Ну это… надо, конечно. Ты, девка, не сумлевайся, я тут делом занимаюсь. Вызнаю, как нам лучшее… В опщем, счас! Эй, Гнатило, брюхо тебе разорви! Вели воспитанницу мою в лечебню сопроводить. Слышь-нет?
…Раненый умирал. Тамара поняла это сразу, едва переступила порог лечебного покоя. На голове парня вспух огромный нарыв, фиолетово-бурый, сочащийся зеленым гноем. Лицо его пожелтело, руки истончились, глаза ввалились, губы обметала серая блекоть. От лежащего на широкой холстине тела, обряженного в мокрую рубаху, ощутимо веяло теплом. В себя раненый не приходил, не ел, не пил, сгорая в жару, как свечка.
Знахари, два по-родственному похожих друг на друга старичка, только разводили руками: «Не в силах мы, тут на все воля Всеблагого Отца». В лечебне было неуютно, царила жуткая грязь. За бревенчатой стеной кто-то надрывно выл, в углах по ведрам кисло тряпье, от вони слезились глаза.
— Как лечили? — сухо спросила Тамара.
— Толченый бараний рог прикладывали, — начал перечислять один из знахарей, загибая тонкие пальцы. — Водой заговоренной обмывали, ключи городищенские на грудь клали, траву-заболью жгли, землю с-под бани в раны втирали, ну и кровью из Отцовой Чаши кропили. Не помогло. Видать, пришла ему пора уходить в кущи…
— В кущи, — еле сдерживаясь, чтобы не врезать знахарю по физиономии, повторила Тамара.
— В кущи златые. Куда всякая душа человечья после смерти уходит, чтобы поближе к престолу Всеблагого Отца быть, — спокойно подтвердил второй старик.
«Мракобесы! Уроды вы, а не знахари! — сжимая кулачки, негодовала про себя Тамара. — Что делать теперь? Мырю звать — пусть чарует? Ах да, он уже говорил, что лекарских чар не знает. Что же делать, что?! Стоп! Есть!»
И, подпрыгнув на месте от охватившего ее возбуждения, Тамара повернулась на одной ножке и бросилась к дверям, едва не запутавшись в длинном подоле сарафана.
— Нож прокалите! И воды горячей приготовьте побольше! — крикнула она с порога. — Я сейчас. Снадобье принесу!
…Вытребовав у совершенно пьяного Мыри, дремавшего за столом, ключ от ларя, Тамара по стеночке быстро покинула горницу, где пир горой превратился-таки в гору совокупляющихся под музыку и храп тел. И почему слово «оргия» воспринимается людьми как нечто веселое и даже манящее? Более отталкивающего зрелища трудно придумать! «Скоты». С омерзением морщась, Тамара выскользнула за дверь и бросилась в светелку.
Коробочка с предназначенным для соседского мопса цефалексином так и лежала во внутреннем кармане плаща. Плащ оборачивал самодельный автомат раненого, автомат лежал в ларе. Все как в сказке — игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Вот только сказка уж больно страшная…
Дрожащими руками девушка достала сложенную в несколько раз бумажку-описание, развернула и углубилась в чтение. «Цефалексин — антибиотик из группы цефалоспоринов I поколения для приема внутрь». Нет, это не то. «Производное 7-аминоцефалоспорановой кислоты…» Опять не то. Так, а вот это… «Фармакологическое действие. Действует бактерицидно, нарушая синтез клеточной стенки микроорганизмов. Препарат активен в отношении грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae; грамотрицательных микроорганизмов: Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Shigella spp., Salmonella spp., Escherichia coli». «Вот! To, что нужно! Раз он собакам помогает от гнойных ран, значит, и человеку подойдет. Так, а дозировка? Ага, вот… В общем, ничего страшного не случится, если я немного превышу положенную дозу». И Тамара, свернув бумажку, быстро выщелкала из блистера таблетки, размолола их тяжелым глиняным горшком, в котором Макша хранила угли для печки, разделила горку белого порошка на десять равных доз и упаковала их в бумажные кулечки.
По ночному городищу Тамара не бежала — летела, как на крыльях. Двое дружинников, назначенных в сопровождающие, еле поспевали за ней. «Только бы получилось, только бы все правильно сделать», — стучало в голове у девушки. На бегу Тамара придерживала обеими руками поясной кармашек-лакомник, в котором лежали заветные фунтики с антибиотиком.
В лечебне все было по-прежнему — вой за стеной и полумертвый человек на столе. Операцию пришлось делать при свете масляных коптилок и жировых свечей. Наказав дружинникам держать парня, Тамара глубоко вздохнула, перекрестилась и резким движением взрезала чудовищный гнойник. Старцы-знахари в сторонке только охнули, когда по спутанным волосам парня потоком хлынул дурно пахнущий гной. Окуная чистую тряпицу в кипяток, Тамара смыла с головы всю накопившуюся дрянь, подступилась к кровоточащему разрезу. Раненый застонал, начал биться, и дюжим помощникам девушки пришлось навалиться на него изо всех сил.
— Голову держите! — закричала Тамара, выдавливая из раны желто-зеленую сукровь. Старцы бросились к ней, пораженно поглядывая на творящую небывалое дело девку. Вычистив рану и засыпав ее антибиотиком, Тамара велела принести нитки, иглу, самогону и чашку с питьевой водой.
Прокалив иголку над пламенем свечи, она окунула нитку в самогон, высушила ее и неумелыми частыми стежками зашила разрез. Раненый обессилел и только глухо стонал, со свистом втягивая воздух. Растворив одну дозу порошка в воде, Тамара улучила момент и влила лекарство в открытый рот парня.
— Сколько времени? — устало сев на край топчана, спросила Тамара, закончив.
— За полуночь перевалило, матушка, — с уважением в голосе пропел один из знахарей.
— Вот вам восемь бумажных узелков с зельем. Оно страшно дорогущее и должно ему помочь. Если он умрет — значит, кто-то зелье украл. Так что смотрите… Зелье давать с водой четыре раза в день, начиная с сегодняшнего утра. Кашу овсяную протрите через сито — и кормите с ложки. Молоко теплое. Брусника у вас есть? Морс… Отвар сделайте — и поите понемногу, но часто. Если что — шлите за мной. И упаси вас бо… Всеблагой Отец спороть какую-нибудь отсебятину! Незнатю пожалуюсь. Ясно?!
— Все поняли, матушка, все сделаем. — Знахари в пояс поклонились Тамаре.
— И помойте его, — двинувшись к дверям, сказала девушка напоследок. — Смердит же… Сами неужели не чувствуете? Да, и кто там у вас воет?
— Да бабенка одна, Красава, Замая Шубсына женка, — охотно пояснил один из знахарей. — Дитё еёное померло давеча у нас.
— Дитё? Ребенок? А что случилось?
— Младенчик, — кивнул знахарь. — Кашлял, хрипел. Как положено, запекли в пирог, а он, вишь, не сдюжил. Сюда принесли, когда уже и гукать перестал. Потом помер…
Зажав рот рукой, чтобы не закричать, Тамара бросилась прочь из лечебни.
…Поднимаясь по темной лестнице в светелку, совершенно обессиленная девушка столкнулась во мраке с каким-то человеком.
— Кто тут?! — испуганно вскрикнула девушка.
— Не пугайся, госпожа. Я это, Теребенька, служка теремный. Незнать сегодня меня от смерти спас в горнице, руку Брекатилову отвел.
— А-а-а, — протянула Тамара. — Ну и чего тебе? Устала я…
— Так ить Всеблагой Отец заповедал нам не ходить в должниках, — жарко прошептал Теребенька. — Нет ли службы какой у хозяина твоего? Или я тебе пригожусь — мало ли…
Поморщившись от слова «хозяин», Тамара отмахнулась:
— Да какая там служба. Хотя… Есть в тереме место надежное, про которое никто, кроме тебя, не знает?