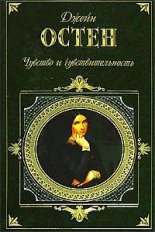Франсуаза, или Путь к леднику Носов Сергей

На яичную скорлупу, оставленную образовавшимися существами…
Она говорила, и я вспоминал.
На тебя что-то нашло, ты как будто опьянел от того, что увидел. Стал громко о Джоне Ленноне зачем-то вещать, о Харрисоне, о том, что это место – то самое место. И что прах Джорджа Харрисона рассеян над Гангом. Ты даже петь пытался. Она напела. Не помнишь?
То, что напела, было “The Continuing Story of Bungalow Bill”. Вот этого я не помнил. Я не такой битломан, чтобы петь “The Continuing Story of Bungalow Bill”. Хотя я знаю несколько строк.
И просил прощенья у сына.
Я – у сына – за что?
За то, что кто-то там терпеть не мог «Битлз»… не помню, кто, кто-то из итальянцев…
Пазолини?
И что сын в этом не виноват, а виноват, кажется, ты, но точно не помню, может, не в этом, а в чем-то другом. Я ж не записывала твою пургу. А еще говорил про садовника. Что он тоже не виноват и что убийца кто-то другой. Неужели не помнишь? И что дальше было, тоже не помнишь?
Нет.
Что мне сказал и что сделал, не помнишь?
Нет.
Ну, хотя бы помнишь, как снял рубашку?
Чью?
Свою!
Нет. А зачем?
Я потом подложила ее тебе под голову, говорит Люба, внимательно вглядываясь мне в глаза.
Но я в рубашке.
Ты только что надел ее… полминуты назад. Ты что, не заметил?
Я стоял на ногах.
Да, да, я заметил, я действительно только что ее надел, и что дальше?
Короче, когда ты лег на спину, ты умер. У тебя не было пульса. Ты сказал слово здесь — и тебя не стало. Я была уверена, что ты не живой. Я заплакала, я очень испугалась. И тут обезьяны почему-то стали громко кричать. Они бегали и кричали. И тогда появился сторож, или кто он, не знаю. Он был однорукий. Он был очень сердит. Он сказал, что не надо было его обманывать, что он бы все равно нас впустил, если бы мы подождали его у ворот и заплатили бы ему сорок рупий. Не надо было самим, он бы открыл нам ворота, а сейчас он не возьмет у меня денег, потому что у него теперь будут большие неприятности. Он так сказал, а может быть, я так его поняла, а он другое мне говорил. Но по смыслу, по-моему, так. Он, по-моему, тоже тебя испугался. Он сказал, что здесь нельзя умирать. Что надо не здесь. Он сказал, что за кем-то пойдет. И ушел.
За полицией?
Нет, я, думаю, за кем-то, кто бы мог тебя отсюда вынести за стены ашрама. Потому что он сказал, что надо будет им заплатить. Пойдем отсюда. Пойдем, пока они не пришли. Мне не нравится это место. Тут страшно.
Пели птицы. Никого не было, ни одной души. Макаки тоже пропали – то ли попрятались от нас, то ли удалились по своим обезьяньим заботам. Мы шли по каменной тропинке, иногда приходилось раздвигать руками ветви кустов. За кустами и деревьями, обвитыми лианами, виднелись фантастические полуразрушенные сооружения. Одно из них напоминало остатки кем-то обглоданной карусели, другое – взятый штурмом больничный корпус, на крыше которого когда-то действовала обсерватория. Да, пожалуй, больше всего этот заросший джунглями ашрам напоминал спешно покинутую обсерваторию. Или лагерь инопланетян, брошенный ими вследствие внезапного бегства. Впрочем, почему брошенный? Может, их резиденты и сейчас наблюдают за нами.
Я подумал о заброшенном пионерском лагере. Я подумал о пионерском лагере, в котором мой будущий тесть познакомился с моей будущей тещей, а потом об этом забыл. Я так подумал, потому что сам был как тесть, который не помнил о себе на тещином юбилее.
Люба, мы были вон в той скорлупе? Да. Похоже, это камера для медитаций… когда-то была, добавила Люба. Ну конечно: люк, оконные и дверные проемы причудливых форм. В таких же медитировал Джон Леннон здесь и все остальные. А там – там были? Туда не пройти, все заросло. Но мы там были, я вспомнил. Нет, Андрей, туда заросло. Я же помню, там зал, похожий на гараж, окна без стекол, надписи на стене. Мы там не были, Андрей. Я же помню, потолок почти обвалился, на полу у дверей лежит старый костыль, подмышечник обмотан бинтом. Тебе приснилось. Я не видел снов. А книги? Помнишь, там книги лежали кучей в углу, обложки от книг, бумаги, рваные журналы, одна брошюра на русском была? Ты сама еще мне сказала: на русском, смотри. Сон, нас там не было. А что за брошюра? Полброшюры. Политиздат. Материалы ХХIII съезда. Она не поверила: КПСС? Это не сон, это бред. Осторожно, ступени. Хорошо, ну а ты… ты-то помнить должна, Франсуаза?
Здесь нет никакой Франсуазы, сказала Люба. Смотри!
Слева по склону, метрах в семидесяти от нас, медленно поднимался однорукий человек в европейской одежде – кто бы ни был он, сторож ли, местный ли сталкер, он был один, – похоже, не нашлось желающих вытаскивать отсюда мертвое тело иностранца. Он зачем-то волок два шеста – нет, две бамбуковые палки: обе прижимались к туловищу со стороны отсутствующей (по локоть) руки, так он мог использовать не только целую руку, но и культю, торчащую из рукава футболки. Зачем ему эти палки? Уносить мое тело с помощью их? Уж не Любу ли он хотел подвигнуть на это мероприятие? Но как? В паре с ним? С одноруким? Теряюсь в догадках. Он нас не видит. Крикнуть ему, что я жив? Сейчас он поднимется на аллею и обнаружит наше исчезновение. Вздохнет облегченно, обрадуется. Если, конечно, не решит, что мое тело утащили обезьяны. А Люба? А Люба за ними пошла.
Я подумал, что обезьянам самое время поднимать свои крики. Все они тут заодно. Сейчас закричат и выдадут нас. Почему-то мне стало неприятно от мысли, что этот с шестами нас может увидеть.
Люба вообще казалась чрезвычайно испуганной.
Пойдем, пойдем скорее.
Через несколько минут мы были у ворот ашрама.
Вылезли тем же манером.
Нас ждали Командор и Крачун.
Погуляли? – спросил Командор.
Макс, там интересно, Люба сказала, Адмиралов меня так напугал, он едва не откинул коньки.
Однорукого видели? – спросил я, не пожелав обсуждать обстоятельств моего дурацкого беспамятства. Оказалось, никто не выходил из ворот и никто в ашрам не входил, ни с руками, ни без. Наверное, есть другой выход. В стороне под деревом сидели все те же бродяги, не проявляя к нам никакого внимания.
Я спросил Макса и Крачуна, не знают ли они, жив или нет Махариши. Умер недавно, сказал Макс, не то в этом, не то в прошлом году. Ему было далеко за девяносто. А это место уже лет тридцать назад все покинули. Битлз тут ни при чем. Есть множество причин для того, чтобы люди покидали ашрамы. Проклятье, космос, налоги…
Потом он сказал: теперь о главном. Информация о Гириш-бабе. Я все узнал. Две недели назад он ушел из Ришикеша. Отправился пешком в Ганготри. Это священное место, недалеко от истока Ганга. За день доедем, он наверняка уже там. Сто семьдесят километров по горной дороге. Я давно мечтал там побывать. Спасибо тебе, Адмиралов. Нам с тобой повезло.
А я подумал: Франсуазе скажите спасибо.
А Люба вздохнула: в горы опять.
37
Юбилей отмечали в ресторанчике дома, когда-то принадлежавшего просветительской организации. Теперь организации нет, и дом перестроен. А в ресторанчике подают, среди прочего, запеканку из белых грибов.
Произносили тосты, сравнивали Елизавету Петровну с императрицей Елизаветой Петровной. Помянули родителей Елизаветы Петровны, многие из гостей знали их лично. Василию Аркадьевичу, спутнику жизни Елизаветы (и второй половине) Петровны, отдали должное. За Дину выпили и ее мужа, которых назвали «детьми» («за детей»). Прозвучало и стихотворное выступление, с долгим перечнем традиционных пожеланий.
Всем понравился жест Гая Арнольдовича, географа, опоздавшего к столу: он подарил букет роз, а к нему приложил денежную купюру, сказав, что столько дарит денег Елизавете Петровне, сколько ни один олигарх не имеет. Речь шла о ста триллионах долларов. Правда, не американских, а зимбабвийских. Купюра была настоящая, коллекционной сохранности – единица с четырнадцатью нулями, 100 000 000 000 000, а изображены на купюре памятники природы и рогатый зверь.
– Да ведь это же африканский буйвол! – обрадовалась Елизавета Петровна, биолог. – Причем самец!
Василий Аркадиевич сказал, что это подарок больше ему, ибо он, историк, лучше понимает ценность зимбабвийского доллара.
– Кстати, мой зять отправляется в Индию.
Все стали приставать с расспросами к Адмиралову, а Дина сказала: «Отстаньте от человека».
Когда отец приступил к тосту, Дина решила, что он будет излагать очередную свою теорию, но Василий Аркадиевич на сей раз от общего к частному перешел сравнительно быстро, хотя и не по доброй воле. Просто гости хорошо знали слабости Василия Аркадиевича и, услышав о перемножении вероятностей, дружно и по-дружески запротестовали. «Я хотел подвести вас к моему пониманию чуда, – сказал Динин отец без обиды, – шут с вами, я буду короче». Спич, может быть, потому и свелся так быстро к подарку, что Василию Аркадиевичу не терпелось подарить приготовленное.
Василий Аркадиевич вручил жене альбом фотографий из, как он сказал, «вновь обретенного архива», а одну – в рамочке и под стеклом – он преподнес отдельно: на этой фотографии было много детей, но Василий Аркадиевич не стал говорить, что это за дети и где они сфотографированы, догадайся-ка сама, Елизавета Петровна.
Он предвкушал открытие, которое сейчас жена непременно сделает на глазах ни о чем не догадывающихся гостей.
– Сдается мне, тут знакомые лица… на фотографии, – лукаво подсказал Василий Аркадиевич.
Елизавета Петровна обрадовалась:
– Ой, это же я маленькая!.. А вот Вася, смешной какой… Витя снимал, я не помню этого снимка… Надо же, раскопал какой!..
– Где это? Где это вы? – спрашивали гости, когда фотография пошла по рукам.
– В пионерском лагере, под Алеховщиной, – с удовольствием объявила Елизавета Петровна.
– Как? – спрашивали гости. – Вы познакомились в пионерском лагере?
– По-настоящему мы познакомились, когда уже стали молодыми людьми. На вечере поэта Тимофея Морщина. А в пионерском лагере мы еще были плохо знакомы. Мы в одном кружке были. В драматическом.
Василий Аркадиевич, до сего момента полагавший, что он сделал открытие, потускнел. Он был сильно обескуражен тем, что для Елизаветы Петровны свидетельство об их ранней встрече в пионерском лагере не стало новостью. Он не верил своим ушам.
– Откуда ты знаешь? – спросил он жену.
– Я знаю что, дорогой?
– Что мы с тобой встретились в пионерском лагере!
– Как же мне этого не знать? Я ж сама с тобой и встретилась. Потому и знаю.
– Ты что же, помнишь о нашей встрече в пионерском лагере?
– Ну а как мне не помнить? Плохо, но помню. А ты разве забыл?
– Подожди! Но почему же ты мне об этом никогда не говорила?
– О чем, дорогой?
– О нашей встрече в пионерском лагере! О том, что помнишь ее!
– Здрасьте-приехали. Да мы с тобой много раз об этом говорили.
– О нашей встрече в пионерском лагере?
– Ну конечно. Много раз говорили.
– Когда, например?
– Ну я не помню когда. Давно. Да вот сразу, как заново познакомились, тогда и говорили. Ты мне сам сказал: помнишь меня? Я с тобой под Алеховщиной в пионерском лагере был. Это ты так сказал. И на свадьбе еще… Ты же сам тогда тост произносил… про превратность судьбы или что-то подобное… Неужели забыл?
Дине стало жалко отца. Он один не смеялся. А тут еще оказалось, что кто-то из гостей тоже помнит разговоры об их давнишней встрече в пионерском лагере. То есть получается, лучше помнит, чем сам Василий Аркадиевич. Посыпались шутки на тему. Все про склероз да необходимость больше рыбы есть, с орехами. «Учи стихи!» – воскликнула Тамара Сергеевна, тетя Тома, чей урок однажды прогуляла Дина, заслужив нагоняй.
Василий Аркадиевич громко заявил, что память у него образцовая, профессиональная, и что он, как историк, сейчас им докажет: пусть назовут любое событие, он немедленно дату им назовет. Кто-то закричал: «Куликовская битва!» – и он мгновенно дату назвал. И год рождения императора Павла тоже назвал не задумываясь. Спрашивали его, когда Иван Грозный Казань брал, в каком году был генсеком Черненко, когда застрелили Столыпина… – Василий Аркадиевич отвечал быстро и твердо. И не только отечественной – мировой истории он тоже уверенно демонстрировал знание. Ни секунды не думая, год назвал, когда случился Великий лондонский пожар, а что до смерти Наполеона, назвал не только точную дату, но даже час.
Экзамен скоро наскучил гостям, да и не Василия Аркадиевича день рождения был, а Елизаветы Петровны. К тому же стали раздаваться дружеские замечания в том духе, что Василий Аркадиевич и соврет – возьмет недорого: проверить его средств не было, а никто из гостей исторических дат и тем более часов не помнил. Но все равно Василий Аркадиевич несколько успокоился и взбодрился (сначала успокоился, потом взбодрился) и даже выпил вторую рюмку коньяку, по мнению жены, лишнюю.
Перед десертом гости разбрелись по залу. Снова помрачневший Василий Аркадиевич сидел за столом. Дина подсела к отцу, спросила, о чем думаешь, папа. То, что он прошептал ей на ухо, ей очень не понравилось, это видел Адмиралов, стоявший около декоративного дерева. Дина видела Адмиралова, смотрящего на нее, она закатила глаза в плане комментария к ситуации и стала энергично возражать отцу, словно за что-то стыдила Василия Аркадиевича. «Индия – это чудесно», – отвлек Адмиралова Гай Арнольдович, географ. Поговорили об Индии, о Гималаях. Гай Арнольдович был осведомлен о существовании города Ришикеша. Адмиралов по памяти называл имена перевалов, по которым будет их путь: «Тангланг Ла, Баралача Ла, Ротанг Ла…» – «Как вы хорошо подготовились!» – восхищался географ. «Читаю, интересуюсь», – отвечал Адмиралов.
Адмиралову позвонили. Это был Крачун. Он звал Адмиралова тридцать первого числа на праздник психотерапевтов. Будет очень интересно, говорил. «Это член нашей экспедиции, психотерапевт», – сказал Адмиралов учителю географии, убрав телефон. «Вижу, вы очень серьезно подготовились», – отметил географ.
Потом подавали чай или кофе по выбору. С мороженым. Вечер оплатила Дина. Кроме того, она оплатила дорогу некоторым иногородним приглашенным. Большинство гостей Елизаветы Петровны были пенсионеры.
Гости расходились, разъезжались. Школьная подруга Елизаветы Петровны и ее муж, нарочно приехавшие из Казани на юбилей Елизаветы Петровны, отправлялись к ней домой ночевать. Они уже погрузили в такси цветы и подарки и ждали, когда Елизавета Петровна и Василий Аркадиевич наконец распрощаются с еще не разошедшимися гостями.
Дина, поняв, что помощи от нее больше не требуется, поймала попутку. Адмиралов был известным порядком нетрезв, но не настолько, однако, чтобы с ним было бы предосудительно разговаривать. Когда повернули на набережную, Дина сказала:
– Я ведь тоже сейчас припоминаю разговоры о пионерском лагере. Что-то было такое… Наверное, маленькая была.
Она задумалась, вспоминая.
– Дин-Дин, – сказал Адмиралов. – Ау!
– Мост, – сказала Дина, – смотри, подсветили.
Он:
– Вот ты говоришь, а ведь Макс в Индию не просто так едет. У него своя миссия, он сказал. Я полагаю, неплохо оплачиваемая. Хотя не буду врать, про это он мне ничего не говорил. Ты ни за что не догадаешься, зачем он едет в Индию.
– Надеюсь, он не наркокурьер.
– А хорошо было бы, если бы ты меня отправила в Индию вместе с наркокурьером. Нет, Дин. Это другое. Хотя почти угадала. Но все гораздо необычнее. Дело связано с перевозкой сыпучего вещества, но это не наркотик.
– А что?
– Прах.
– Прах? Чей прах?
– Чей-то прах. У нас, оказывается, многие хотели бы, чтобы их прах был бы развеян в священных местах Индии. Макс удовлетворяет их желания. Или, скорее, желания их родственников. Он сказал, что родственники сами его находят. Через Интернет. А иногда он их – со своим предложением.
– Ты хочешь сказать, что он возит прах наших сограждан в Индию и там развеивает?
– Именно так. Только не весь прах. Он берет чуть-чуть. Несколько грамм всего. Основная часть остается здесь. Он принципиально не берет много. Родственники остаются с прахом в урне, но знают, что частица праха рассеяна в Индии. Макс им потом фотоотчёт предъявляет.
– По-моему, у нашего Макса сильно развито чувство черного юмора. Похоже на шутку.
– Он когда мне это все рассказал и увидел, как мое лицо вытянулось, тоже сказал, что шутка. Сказал: ну ты не волнуйся, не бери в голову, я пошутил, забудь. А я вот в голову взял. Хотя что мне волноваться? Я не волнуюсь.
– Может он тебя использовать хочет? Чтобы ты фотографировал, как он прах рассеивает?
– А Люба на что?
– Люба слабонервная.
– Нет, он мне не для этого рассказывал.
– Интересно, прах – контрабанда?
– Существуют правила перевозки урн с прахом. Там строго. А в малом количестве – не придерешься. Ну, пепел – он и есть пепел. Мало ли что в багаже лежит.
– А в Интернете смотрел? Нашел там Макса?
– Применительно к праху – нет. Вряд ли он под своим именем светится. Потом он сказал, что у него знакомый в крематории работает, вот он в основном и находит клиентов.
– Чушь!.. Знакомый в крематории!.. Это уж совсем клюква развесистая… Он тебя разыгрывал, а ты и поверил.
– Да я не поверил… Я сам не знаю, поверил или нет. Наверное, нет. Хотя все может быть. Я правда не знаю.
На лестничной площадке, наблюдая, как Дина достает ключи из сумочки (свои забыл дома), Адмиралов спросил:
– А что там тебе Василий Аркадиевич на ухо шептал? Ты была недовольна очень.
– А ну его, – Дина дверь открыла. – Он сказал это. – Не спешила войти в квартиру: – Не то беда, сказал, что жизнь коротка, а то, что вспомнить нечего.
Адмиралов хмыкнул.
– Идем?
38
Психотерапевты Крачун и Фурин играли в нарды.
– Ты, может быть, помнишь, был такой?.. Случай влюбленного экскурсовода.
– Ну а как же, – ответил Крачун, бросая кости. – Молодая гид-переводчик водила иностранных туристов в Юсуповский дворец, показывала комнату, где убили Распутина и где стоит его восковая фигура. – Он передвинул шашки на доске. – Знакомства с восковыми фигурами ни к чему хорошему не приводят.
– Дело не восковой фигуре, – сказал Фурин и бросил в свой черед кости на игровое поле. – Она слишком увлеклась личностью Распутина. Что-то там исследовала, обращалась к источникам… Ее интересовало, почему в Распутина так сильно влюблялись красивые и образованные женщины. В конечном итоге образ Распутина ее подчинил себе целиком. Она попала в глубокую зависимость от исследуемого предмета. Причем сама интерпретировала это состояние как «страсть» и «любовь». «Заочная любовь». Это ее выражение.
– Любовь к Распутину именно то, – сказал Крачун. – Дур-чар! (По-персидски это означало 4:4 – в соответствии с этим дур-чаром он передвинул две шашки.)
– Шеш-беш! – сказал, бросив кости (6:5), доктор Фурин и решительно двинул свои. – А помнишь ли ты случай инженера, влюбленного в родинку Орнеллы Мути? Он полюбил не саму Мути, а родинку на ее лице. Сексуальных партнеров он искал среди женщин исключительно с родинкой на переносице…
– На носу, – поправил Крачун.
– Разве? – Фурин спросил.
– А еще был рассказ, – вспомнил Крачун, бросив кости и сделав ход, – как один человек влюбился в свою ногу… не то в правую, не то в левую, не помню[2]…
– Ну, это гротеск, – Фурин сказал.
Крачун спросил:
– А к чему разговор?
– Да так.
Они продолжали кидать кости и делать ходы. Крачун выигрывал.
Внезапно Фурин спросил:
– Скажи мне как другу и коллеге, этот Адмиралов еще не ревнует к тебе?
– Кого?
– Кого-кого? Естественно, Франсуазу.
– Что за вопрос, доктор Фурин? Между нами нет ничего. И быть не может.
– Ты только мне не рассказывай. Я же специалист по ревности. Я же вижу, ты неравнодушен к ней.
– Исключительно как исследователь, как наблюдатель.
– Ну-ну.
39
Я видел девочку лет десяти, носившую кирпичи: тонкая, хрупкая, она складывала их у себя на голове по шесть-восемь штук, и вряд ли это было для нее пределом. А еще я видел девочку-подставку. Это на дорожных работах. Надо было передать на двухметровую высоту плоские камни, похожие на наши оладьи, один рабочий был внизу, а другой наверху, и стояла девушка неподвижно. Первый складывал башенкой у нее на голове плоские камни, а другой, который находился выше, с головы камни снимал и забирал к себе. Она ж просто стояла. Я, конечно, вспомнил о тебе, Франсуаза, а ты обо мне вспомнила – вероятно, ты меня представила с кирпичами на голове, а может быть, это я себя представил, так вернее. Дорожные работы здесь, вообще говоря, часто тяжелое зрелище. Если мне даже смотреть на то тяжело, каково же этим трудягам заносить над головой и ронять на камень кувалду – и так целыми днями, кувалдой по камню, кувалдой по камню… Приходят на работы часто семьями – мужчины камни дробят, а рядом жены с детьми. Я неверно сказал «приходят» – просто там и живут, где работают. Такие дела.
Зато когда из окна автобуса вижу паломников, бредущих в Ганготри, о тебе, Франсуаза, думаю меньше всего. Впечатление, допускаю, обманчивое, но, что делать, только кажется мне, что несчастья боятся этих людей. Мы много раз обгоняли их, идущих по краю дороги: идут один за другим по нескольку человек, иногда по двое, бывают и одиночки. Я не умею распознавать их по их нехитрой – в смысле даже очень хитрой – одежде. Обычно на ногах у них – по-нашему, банные шлепанцы, самое дешевое, что можно купить из обуви. Через плечо перекинуто, как мешок, скрученное у краев полотно, из него выпирает что-то емкое, острогранное – то ли утварь, то ли обрядовая посуда. У каждого в руке, сказать по-нашему, котелок – начищенный до блеска. На каждой остановке к нам подходят и протягивают котелок, прося дать. Полагаю, в нем – как бы узнать, как он называется, – понесут потом священную воду из верховья священного Ганга.
Наш автобус тоже набит паломниками. Автобус, надо сказать, удивительный. Над сиденьями с обеих сторон сооружены разбитые на секции антресоли. В каждом боксе сидят на полу пассажиры, иногда умещается целая семья – в одном, я сосчитал, теснились пять человек.
Дорога в Ганготри красивая, только ведь так сказать – это ничего не сказать. Нам было бы, думаю, очень не по себе на бесчисленных петлях этих перемежающихся серпантинов, если бы мы не знали других дорог – из Леха и по долине Спити. Здесь, после тех жутковатых дорог, ощущаешь себя более чем в безопасности и комфорте – асфальт и встречная полоса, ну хотя бы полполосы, и даже иногда поребрики на поворотах и врытые в землю шины, – гляди себе в окно и наслаждайся объемным познавательным фильмом. Водитель демонстративно бодр, играет индийская музыка, он не забывает предупредительно гудеть перед поворотом за очередной утес: едем вот так и гудим, а голоса – то мужской, то женский, то мужские хором, то женские хором – все поют о чем-то и поют, да понятно о чем: о любви.
До Ганготри остаются считаные километры, и тут нам дано очуметь от восторга: переезжаем пропасть по металлическому мосту, протянутому между двух скал. Далеко, вернее, глубоко – далеко-глубоко внизу, из глубины в даль – мчится Ганг, вид потрясающий. Метрах в двухстах за мостом случилась авария: опрокинулся джип на бок, но не сгинул с дороги, жертв нет. Тем не менее образовалась небольшая пробка, автобусам не разъехаться. Макс воспользовался задержкой и вынул из сумки один из конвертов. Пойдем, снимешь на камеру, он говорит Крачуну. Терапевт отвечает, что он нужнее среди пострадавших, и уходит вперед. Макс глядит на меня. До сих пор в своих деликатных акциях он обходился без моей помощи, а тут попросил. Мы покидаем автобус и направляемся к мосту, я говорю, что не хотел бы портить карму себе. Он отвечает в том духе, что я карму улучшу сейчас. Карма кармой, но я не такой уж кармист, это я так сказал, просто мне от предприятия Макса муторно на душе, но я иду вслед за ним и снимаю, как он желает, на видеокамеру, пусть отчитается: Индия, пропасть, ущелье, река, Макс на мосту, он стоит возле фермы с конвертом в руке, на лице Макса выражение возвышенной скорби. Крупным планом снимаю конверт, имя-отчество различимы на нем, ниже фамилия и даты жизни. Он вскрывает конверт. Средний план: высыпает. Общий – Макс на мосту возле металлической фермы, горы, ущелье, простор.
Им понравится, говорит Макс.
Еще минут десять мы ждем в автобусе. Люба читает книгу. Я спрашиваю Макса: у тебя много осталось? Много не много, а сколько-то есть.
В наш автобус залезает Крачун, а вслед за ним один из перевернувшихся. Кажется, итальянец. У него на лбу заметная шишка, сумка в руке. Его встречают приветливым гулом, он похож на героя. Других подбирают другие.
Остаток дороги я думаю о предприятии Макса. Стараюсь представить заказчиков, это кто ж? Вдовы? Убитые горем родители? Дети? Я думаю о них и не перестаю одновременно восторгаться тем, что вижу: красотой гор и долин. Мне начинает казаться, что Макс меня разыграл. Ничего не могло быть подобного в жизни. Я даже уверен теперь, что все было там на мосту – сплошной розыгрыш. А я и купился, как дурачок. Но и то, что я вижу за окном: Индия, горы – мне тоже начинает казаться розыгрышем. Не уверен, что Макса, но определенно розыгрышем. То ли я вижу, что вижу? И вот уже я не уверен, я ли на это смотрю. Мне ли это увидеть дано. И не остался ли там я, где меня нет, – в каком-нибудь разговоре – в прежнем, простом, ни о чем.
Если это реальность, меня к ней возвращает остановка автобуса. Сейчас я узнаю, что дорога в Ганготри так и завершится в самом Ганготри, упершись в открытые ворота белостенного храма богини Ганги, но дойти дотуда можно только пешком. Въезд на машинах в селение запрещен, да туда и при всем желании не въехать, вернее, въехать-то можно, но не получится развернуться. Перед границей селения небольшая площадка над крутым обрывом – если как-нибудь потесниться, допустим, подъехать колесами к самому краю, место для стоянки всегда можно найти. Мы выходим из автобуса и оказываемся во власти тех, кто предлагает гостиницы. Переговоры ведет Макс. Потом нас дальше ведут по дороге, превращающейся в узкую улицу – пожалуй, единственный из проходов, который еще можно назвать в Ганготри улицей. С обеих сторон, когда нет справа обрыва, ресторанчики, лавки – продается еда и предметы первой необходимости (кажется, так их называли в моем детстве). По улице движутся два встречных потока людей – ну, хорошо, хорошо, Франсуаза, поток, сознаюсь, я громко сказал, поток это справа внизу под обрывом – там Ганг. А здесь просто люди идут навстречу друг другу. Подаяние просят на каждом шагу. Нас обгоняет носильщик, тяжелонос. Из-под груза, обернутого полотном (размеры шкафа), только ноги виднеются – шкаф на ногах бежит сквозь расступающуюся толпу. Тяжелее тем, кто несет сверхполнотелую даму в сиреневом сари, она не способна ходить. Они несут ее вчетвером, кособоко сгибаясь под жердями, давящими на плечи, – дама непостижимым образом заключена в дощатое вместилище, приделанное к этим жердям. Ее лицо спокойно, она уверена в прочности здешнего дерева и крепости мужских позвонков.
Ряд калек. Сидят на земле. Седовласая женщина с красивым лицом вытянула на дорогу ногу с двупалой ступней: большой палец и очень-очень большой – заменяющий сразу четыре. Все тянут руки, у всех перед собой котелки. Один сидит «по-индийски», но с поправкой на то, что не имеет ноги ниже колена. Он читает газету. Деревянная нога с преувеличенно крупной ступней лежит рядом.
Похоже, Макс несколько растерялся. Он не ожидал, что здесь так много людей. Еще месяц назад, полтора, он говорит, здесь не было никого. Большую часть года эти места недоступны. Он заглядывает в лицо едва ли не каждому, надеясь узнать моего будущего избавителя (догадайся, от кого, Франсуаза); почему-то я не уверен, что он помнит его в лицо. Подавая седобородому нищему брахману, осведомляется, не знает ли он Гириш-бабу и нет ли того в Ганготри. Макса не понимают, похоже, здесь мало кто владеет английским.
Направо проход к пешеходному мосту через Ганг, а мы дальше идем – сквозь наружные ворота храма богини Ганги, куда сама собою приводит дорога (буквально ведущая к храму). Мы хотим снять обувь, но провожатый небрежно машет рукой, дескать, можно, это ж не храм еще, а площадь-двор (а нам не в храм, а в гостиницу). На всякий случай держимся ближе к краю, чтобы не осквернить площадь подошвами. Здесь кто-то в обуви, кто-то без. Оглядываясь на храм и скалу, Люба говорит: сказка! И в колокол ударив (тут всюду колокола, и все ударяют), сказка! сказка! – повторяет Люба. Вниз направо ведут к священной реке ступени, там толпится народ. Но нам надо выше – по другой лестнице, там невзрачная постройка, это одна из гостиниц; поднимаемся, оставляя за спиной фигуры богов и священных животных.
В двухэтажном строении верхняя половина принадлежит нам; номер, если на доллары, – одна десятка; большую часть моего помещения занимает кровать. Туалет, как тут везде, не европейский, с двумя подставками для ступней, кран, ведро с водой, кувшин, все для левой руки, которой и надо воспользоваться, но есть которой в Индии недопустимо.
Мальчик (Люба назвала его мальчиком, вот он и мальчик теперь) обещает по ведру горячей воды, тридцать рупий ведро. Еще мы соглашаемся на чай, который он откуда-то берется доставить. Командор просит его разузнать о Гириш-бабе, в Ганготри ли он. Мальчик предупредительно кивает, но я не уверен, что Макс понят.
Чего мне здесь не хватает – это перил. Особенно когда напоминает о себе горная гипоксия, а у внешней лестницы короткие и высокие ступени. Да здесь все ступени высокие! А если они еще и к стене примыкают снаружи здания, можно не сомневаться, что перил не будет. И возвышающиеся над чем-либо какие-либо площадки для пребывания-стояния-обозрения тоже все без перил. Местные жители шестым чувством предохраняют себя от падений. У нас, равнинных жителей, этого чувства нет. Зазевался, задумался, засмотрелся и – шагнул в пустоту.
Чем-то еще занимались. Ходили куда-то. Потом, как и раньше случалось уже, стало темнеть.
Доносились песнопения со стороны храма.
Кстати, вот: электричество. Оно отключилось в Ганготри. На местной электростанции, оказывается, вторые сутки проблемы. И только в гостинице на той стороне – та гостиница побогаче – работает дизельная установка: там есть освещение. Вижу, как отблески света играют в несущихся водах. В моей руке выключенный фонарик – когда обладаешь фонариком (как я обладаю), жить вполне даже сносно, хотя на нашей стороне мрак. Я сижу на площадке, на стуле, который вынес из номера, и смотрю на сверкание Ганга, и слушаю Ганг.
Мальчик, о котором мы совершенно забыли, прибежал наконец (что ли, видит он там в темноте?) и принес нам будто бы чай, но не в емкости типа хотя бы ведерка, а в прозрачном полиэтиленовом мешочке, туго завязанном узелком. Вышли с фонариками Макс и Люба, появился Крачун. А где горячая вода? Воды нет. Не сумела нагреться. Лучше бы горячую воду. Люба сомневается, что этот чай – чай. Мальчик пытается одной рукой развязать пузырь-узелок, он плохо говорит по-английски, чтобы рассеять наши сомнения относительно чая – что и откуда, и почему в мешочке? – но его английского вполне достаточно для того, чтобы воодушевить Макса. Только Макс умеет разбирать этот как бы английский. Оказывается, мальчик узнал: Гириш-баба действительно здесь, он живет в Ганготри уже несколько дней (медитирует у водопада), а с рассветом, то есть с этим рассветом, то есть завтра уже, поутру, он уходит вверх по реке – дальше, значит, еще.
Не представляю, как умудрился Макс выудить столько информации из слов мальчика. По мне, так тот повторял все время: Бхуджбаса, Гомукх, Бхуджбаса, Гомукх. Я знаю, что такое Бхуджбаса, радостно объявил Макс. Мы завтра его там настигнем, в этом Бхуджбасе, не ждать же нам здесь, не терять же зря время.
Макс азартен, Макс очень азартен.
Ганготри – священное место, почитаемое как исток Ганга, но по-настоящему исток несколько дальше, за день можно дойти.
Я, наверно, сильно устал. Я не помню, что мы сделали с чаем. Скорее всего я от него отказался, и чай перестал для меня существовать.
Помнишь, Франсуаза, мы с тобой хотели увидеть гималайские звезды. Да, это звезды, я тебе доложу.
Я пытался медитировать, или это что-то другое. Словно куда-то исчез и опять появился. Дали свет, и зажегся фонарь на нашей площадке. Я по-прежнему на стуле сижу. Думаю, меня и разбудил этот фонарь тем, что зажегся.
Ночь. Ганг шумит. Из комнаты выходит Крачун. Осторожно, не навернись, ему говорю, потому что мне кажется, он забыл, что на этой площадке не предусмотрены перила. Психотерапевт просит у меня разрешение поговорить с тобой, Франсуаза. Я подумал, что я ослышался. Разреши, говорит, обратиться к Франсуазе по личному делу, мы должны кое-что обсудить. Константин Юрьевич, а не спятил ли ты? Как ты себе представляешь это? Крачун улыбается глуповато, больше того – он хихикает: хочу, говорит, говорить с Франсуазой. Но тут появляется Макс и объявляет: нашелся, здесь он, Гириш-баба, мальчик узнал.
Стойте, ребята, я уже это слышал. Ты уже говорил. Завтра пойдем по тропе. Утром пойдем. Но что думает Люба?
Люба, Макс говорит, двумя руками за, он говорит и смеется. Приехать в Ганготри и не подняться поближе к истоку?
Макс. Разве это смешно. Но тут упрямый Крачун опять заявляет:
Мне надо объясниться с Франсуазой, пора. Ты должен мне разрешить.
Я вдруг вспоминаю, что они курили и что они курили.
Это неправильно, так нельзя, это просто ни в какие ворота.
И тут вспоминаю, что курил вместе с ними.
Все! Никаких Франсуаз! Разговор завершен!
40
В последний день весны отечественные психотерапевты, во всяком случае своим передовым отрядом, отмечают ведомственный праздник – День психотерапевта. Когда-то на заре перестройки, а если точно сказать, 31 мая 1985 года (существует мнение, что горбачевская перестройка с этого и началась фактически), был издан приказ Минздрава, согласно которому психотерапия в СССР получила официальное признание. Правда, официального признания пока еще не получил День психотерапевта, но это никого не смущает, известно же: неофициальные праздники всегда отмечаются задушевнее. А то, что День психотерапевта (нашего психотерапевта) случайным образом совпал с Международным днем блондинок, лишь придает торжеству оттенок здоровой веселости.
Крачун едва ли не за руку привел Адмиралова на корпоративный праздник («Ты меня сильно обидишь, если ты не придешь»). Адмиралов надеялся увильнуть под предлогом того, что вещи не собраны, а завтра утром улетать через Москву в Индию, но Крачун ему насчет вещей не поверил и был прав: Динара Васильевна собрала рюкзак Адмиралову еще на прошлой неделе.
Адмиралов пришел без жены, с Франсуазой.
В этот день он понял, что психотерапевты умеют заразительно отдыхать и развлекать друг друга.
Зал был полный, стояли даже в проходе. Официальная часть неофициального праздника была недолгой, сначала выступил какой-то психотерапевтический начальник, потом другой начальник, не психотерапевтический (он представлял – неофициально – администрацию города), на сцену по одному пригласили примерно с десяток психотерапевтов, отличившихся в прошедшем году достижениями, и каждого наградили почетным дипломом и еще чем-то. Потом, силами самих психотерапевтов, было дано представление – что-то среднее между праздничным концертом и капустником. Выступавшие пели куплеты, читали собственные стихи, а один психотерапевт даже показывал фокусы с картами, но, к огорчению большей части публики, понять суть кунштюков и оценить мастерство иллюзиониста могли только зрители первого ряда. Совпадение с Международным днем блондинок во многих выступлениях и номерах очень лихо и не без психотерапевтической иронии обыгрывалось. Гвоздем программы была пьеска «Третий синдром», написанная специально к этому празднику профессиональным, как было сказано, драматургом. Судя по реакции зала, оба исполнителя ролей – и Доктора, и Пациента – были хорошо известны публике. Одно лишь их появление на сцене вызвало смех и аплодисменты. У Адмиралова сложилось впечатление, что зал с одинаковым восторгом встретил бы любое их выступление – любой жест, любую реплику, любую репризу.
– Вон там автор сидит, – шепнул Крачун перед началом спектакля, когда стихли аплодисменты, приветствовавшие появление на сцене Доктора (он сидел за столом).
– Где? – спросил невольно Адмиралов, хотя что ему автор?.. Сидит и сидит.
– Вон, в третьем ряду. Ты наверняка читал в нашей газете его прозу… ну вспомни, от лица Поприщина, помнишь?
Адмиралов вспомнил. Да, в газете «Психея».
Но тут в кабинет вошел Пациент и сказал:
– Времени мало.
ПАЦИЕНТ. Времени мало, доктор, жизнь коротка, я не хочу вас задерживать жалобами на здоровье, поэтому буду предельно лаконичен, тем более что сам досконально изучил этот вопрос…
ДОКТОР. А вы сядьте, сядьте, а лучше прилягте, не надо стоять… вот так… здесь хорошо… вот сюда, на кушеточку… Нам некуда торопиться…
ПАЦИЕНТ. Благодарю вас… По-моему, это лишнее… но если для пользы дела… Так вот что касается пользы моего в известном смысле неотложного дела: вас это дело не затруднит, поверьте, ничем! Я сам себе поставил диагноз.
ДОКТОР. Вот за это благодарю.
ПАЦИЕНТ. У меня синдром Обломова.
ДОКТОР. Хм.
ПАЦИЕНТ. Вы, конечно, доктор, знаете, что в психиатрии описаны два синдрома Обломова.
ДОКТОР. Два? Кто же их описал, просветите[3].
ПАЦИЕНТ. Доктор Мациони и доктор Дитрих описали первый синдром. Второй – доктор Вермут.
ДОКТОР. Дитрих – немец, наверное?
ПАЦИЕНТ. Естественно! Заметьте, они все иностранцы!
ДОКТОР. Только, голубчик, вы знаете, сколько на свете синдромов?.. Тыщи, тыщи синдромов!..
ПАЦИЕНТ. Меня интересовали синдромы Обломова. Я изучил специальную литературу. Начну со второго. Тут все просто. Больной, пораженный депрессией, не способен покинуть постель без тяжелых усилий по завершению сна, даже если был этот сон продолжительным и глубоким. Первый синдром интереснее. Он чаще встречается у представителей истеблишмента, у детей высокопоставленных родителей, например, – личностях определенно психопатических, требующих повышенного внимания к себе и часто за собою ухода. Безволие, бесстрастие, лень, отрешенность от радостей жизни, индифферентизм в целом во взглядах на все, чего бы взгляд ни касался, – вот признаки этого синдрома. Вам неинтересно?
ДОКТОР. Извините, не выспался. Нет-нет, продолжайте.
ПАЦИЕНТ. В родном углу такой индивид досаждает своим домочадцам необузданным самодурством и деспотизмом, а на службе, коль скоро он трудоустроен, он для всех тяжелый балласт. Впрочем, на службе ему нелегко удержаться.