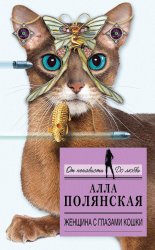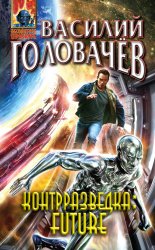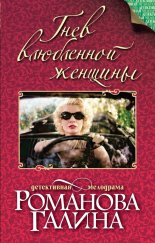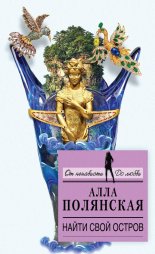Искушение чародея (сборник) Гелприн Майкл
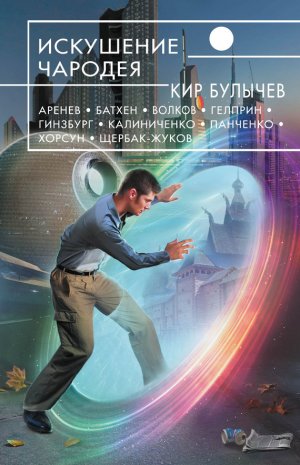
Павлыш кивал, улыбался…
Тогда, думал он, у меня была надежда. Я был глупый и влюбленный, а сейчас — только влюбленный. И никакой надежды, абсолютно никакой. И даже работа не спасает.
На «Антее», к слову, хватало свободного пространства, и при желании ты мог избегать неприятных тебе людей. Спокойно отдаваться научному подвигу. А здесь, в домодреве, ты вынужден сталкиваться нос к носу… по сотне раз на дню… принимать как должное все колкости, все… это. И даже не знаешь, как себя с ней вести, она же не Лилит, не Медея — Снежная королева.
И все-таки иногда ему нравилось здесь. Он возился со зверьми, которых надарили вместе с домодревом ависы, и это было чертовски интересно. Юные Урванцы даже стали звать его «дядя Слава Айболит» — и это, пожалуй, ему тоже нравилось.
Стоя на смотровой площадке, Павлыш щурился, отбрасывал рукой непокорные волосы и представлял, что на самом деле никакого испытания нет и не было. Они просто повстречали собратьев по разуму и ищут общий язык — и разумеется, найдут, и таким образом обогатят друг друга…
Дельтапланы — оранжевый и серебристый — прошли над самыми верхушками домодрев, потом серебристый рванул в сторону холмов, туда, где они должны были приземлиться.
— Ну а что, — сказал Павлыш, — для первого раза неплохо.
Конструкцию подправили, чтобы Отцу было удобнее управлять, Домрачеев работал под чутким руководством Эммы, и Павлыш только удивлялся, как он терпит ее заносчивость и язвительность. Удивлялся и завидовал.
Серебристый плавно развернулся над холмом, оранжевый не отставал. На соседнем холме — видел Павлыш — стояли зрители: академик, вся семья Урванцов, Домрачеев; а над холмом парили, раскинув крылья, взрослые ависы. Солнце превратило их перья в самоцветные пластины: изумрудные, бирюзовые, яхонтовые.
Вдруг серебристый начал по спирали идти вверх, выше и выше. Оранжевый сделал круг над посадочным холмом, затем двинулся вслед за серебристым.
— Что за?.. — прошептал Павлыш. — Какого дьявола он?..
Серебристый чуть качнул крыльями, затем набрал скорость.
— Пленка! — заорал Павлыш. — Там же где-нибудь обязательно должна быть Пленка, курица ты безмозглая!
На соседнем домодреве из листвы выглянули три взъерошенных головы.
— Вам плохо? — спросила одна из птиц. Кажется, это была Вторая жена, Слава пока так и не научился их различать.
Он покачал головой:
— Мне — нет.
Серебристый дельтаплан поднимался все выше.
А что, подумал вдруг Павлыш, это даже может оказаться решением. Жестоким, но… решением. Если Отец разобьется, нам засчитают победу, и отправимся наконец…
Он с отвращением ударил кулаком по ограде. Но взгляда от двух точек не оторвал.
Серебристая вдруг развернулась, легла на крыло и ринулась вниз. Миновала оранжевую и пошла по крутой дуге прямо к холму.
И аккуратно, словно всю жизнь только так и делала, — села. К ней уже бежали люди, летели ависы.
Лишь одна фигурка стояла на соседнем холме и, как Павлыш, не сводила взгляда с небес.
Они увидели — он и Домрачеев — как оранжевый дельтаплан развернулся, чтобы уйти вслед за серебряным, но вдруг вместо этого кувыркнулся и стал падать — не по дуге, а отвесно, прямо вниз. Кажется, Миша что-то кричал. И ависы, похоже, услышали его: они вдруг изменили направление полета и метнулись наперерез, к падающей оранжевой точке.
Все происходило медленно, как будто в дурном сне или в кино с замедленной съемкой. Ависы ухватили дельтаплан сверху — ухватили ногами, конечно, а крыльями отчаянно махали, пытаясь удержаться в воздухе. Падение замедлилось, почти прекратилось, и Павлыш наконец облегченно выдохнул. Он заметил, что держится за перила. Отпустил их, под ладонями что-то хрустнуло.
Вдалеке закричали.
Ависы летели и держали в когтях дельтаплан… точнее, его фрагмент. Остальное упало на склон и покатилось, Павлыш увидел рыжее пятнышко, костюм Эмма подобрала под цвет волос, подумал он, как глупо, даже здесь, когда не перед кем…
Потом он метнулся в комнаты, зашарил, выворачивая ящики, в поисках нужных медикаментов, потом сообразил, что все сложено в саквояж, старый, допотопный, и откуда он только взялся в Отеле… Павлыш выскочил, держа саквояж под мышкой, потом вернулся, сдернул со стола телефон, запихал в саквояж и стал спускаться, напоминая себе, что нельзя спешить, навернешься со ступеней — никому от этого лучше не станет, в конце концов, у них там в дельтапланах аптечки с первой помощью, ты же сам проверял, а Борис наверняка умеет… да и Окунь, конечно…
Он помчался к холмам, размахивая саквояжем, — добрый доктор Слава Айболит — и шептал только одно: «Успеть, успеть, я должен успеть!»
Когда он прибежал, ее уже освободили от упряжи. Судя по всему, успели вколоть обезболивающее — и теперь накладывали шину.
— Так, медленно и в деталях — что сделано?
Борис и Миша в два голоса рассказали. Домрачеев зачем-то добавил растерянным голосом:
— Все, как ты говорил на уроках.
— Молодцы. Готовьте носилки, только обязательно с ровной прямой поверхностью, и…
— Понесем ее в Отель?
Слава прикинул расстояние.
— Слишком далеко. Проще в домодрево. Но подожди, вот я болван!..
Он поднял отброшенный в сторону телефон, поставил на землю, зачем-то положил трубку на рычаги, а потом взял и приложил к уху.
Тишина по ту сторону. Все такая же глухая, безжизненная тишина.
— Слушайте, — сказал Павлыш, — вы, там… я же знаю, что вы слушаете и следите. У нас тут ЧП… серьезная травма. Требуется вмешательство. Немедленное, вы понимаете?!
Тишина.
Потом что-то оглушительно клацнуло и железный голос произнес:
— Уточните. Вы заявляете о финише, фиаско, обрыве сражения?
Кто-то ухватил Славу за щиколотку и сжал так, что он даже вскрикнул.
Эмма держала крепко, смотрела ясным, презрительным взглядом.
— Не сметь! Я запрещаю, слышите, Павлыш! Вы — тогда, на «Антее»… вы же не повернули! Не смейте, приказываю продолжать! Федор Мелентьевич, Борис, проследите, чтобы!.. Проследите!
— Уточните, — повторили в трубке. — Вы заявляете о финише, фиаско, обрыве сра…
— Нет, — тихо и невнятно сказал Слава. — Не заявляем.
Он положил трубку и опустил телефон на траву.
— Вот так, — произнесла Эмма. — И готовьтесь к операции, Павлыш. Я знаю, вы справитесь. Обезболивающего хватит?
Слава не стал отвечать — не видел смысла. Она все равно уже потеряла сознание.
— Простите. — Это был Отец. Он подошел, за ним тянулись перекушенные стропы. Видимо, никто не догадался освободить ависа из упряжи, все были заняты Эммой. — Простите. Я-древность слишком увлекся. Я-память забыл про инструкции, советы, наставления вашей Матери. Она была… она была достойным представителем вашего рода. Великим.
— «Была»?! — Павлыш непонимающе заморгал. — Что вы… о, нет, она жива, разве вы не видите?
— Конечно, вижу, — закивал Отец. Обрывки строп закачались, словно диковинное украшение. — Но она жива-мертва, это я тоже вижу.
— Нет, — отмахнулся Слава, — она, конечно, потеряла сознание, но это ничего. Все будет хорошо, мы сделаем операцию… Эмма будет жить, это я вам гарантирую.
Авис издал изумленный крик и отшатнулся. Остальные его сородичи, похоже, были в ужасе.
— Вы… оставите ее? Но это жестоко, бесптично, преступно!
— Наверное, — вмешался Борис, — мы недопонимаем друг друга. Но простите, Отец, сейчас не время обсуждать разницу в наших взглядах. Нам необходимо спасать нашу… Матерь.
Ависы возмущенно заорали, Изгибатель и Растяпа тут же взлетели в воздух и принялись описывать круги над холмом, продолжая надрывно кричать.
Отец посмотрел на людей так, будто видел их впервые в жизни.
— Это жестоко, — повторил он. — Но это ваш выбор. Однако если вы собираетесь спасти ее и собираетесь отнести ее в свое домодрево, лучше присматривайте за ней.
Он побежал прочь, подпрыгнул, захлопал крыльями и тяжело взлетел. Стропы развевались на ветру, сверкали серебристым.
— Чушь какая-то, — сказал Павлыш. — Ладно, собрались. Домрачеев, что у нас с носилками? Светлана, Федор Мелентьевич, давайте в домодрево, готовьте мне стол для операции. Борис, поможешь мне с Мишей нести ее, а вы, ребята, дуйте в Отель, я вам сейчас составлю список. Федор Мелентьич, поделитесь ручкой и листком? Отлично!.. Она у нас еще танцевать будет, верно я говорю, Домрачеев?
— И не надейтесь, — просипела Эмма. — С детства ненавижу танцы.
7
Потом Павлыш думал, что если бы не муравионы, все могло закончиться совсем по-другому. А ведь он просто замотался и забыл насыпать им картофельных очисток.
Конечно, с голоду муравионы не померли бы. Начали бы пожирать друг дружку. Но как раз это Павлыша категорически не устраивало, так что пришлось с полпути поворачивать обратно.
— Не страшно, — сказал он остальным, — я догоню. Вы там пока складывайте, что нужно, все равно за один раз все не перенесем. О, слушайте, я же ножницы еще не вписал, Миш, не забудешь взять?
— Да ты про ножницы уже всем уши прожужжал. Давай, Мичурин, спасай своих крокодилов от голодной смерти.
За последние дни — с тех пор, как Эмма пошла на поправку, — Домрачеев ожил и воспрянул духом. Он полностью игнорировал ее язвительные замечания и ледяной тон, приносил ей очищенные фрукты, пытался развлекать сводками новостей из жизни людей и птиц, следил, чтобы соблюдала режим и не слишком часто ходила. К счастью, ависы сильно замедлили падение дельтаплана, и травмы оказались не такими серьезными, как боялся Павлыш. Уже сейчас Эмма довольно сносно хромала по комнате, даже выбиралась на ветку, хотя там Домрачеев не отходил от нее ни на шаг. Он и в Отель ушел только после того, как Эмма поклялась, что будет ждать их всех в комнате.
Слава шагал обратно и старался не думать о том, что будет, если еще кто-то упадет или случится другая катастрофа. Доставит ли вергилий новые медикаменты? Или придется выкручиваться с теми, что остались?
От ависов помощи ждать не приходилось: все их изобретения были связаны с профилактикой, а не с лечением заболеваний. К тому же птицы до сих пор не смирились с тем, что соседи выходили на свою «Мать». И Отец, и младшие ависы старательно избегали разговоров на эту тему, перестали наведываться в гости и вообще делали вид, будто инцидента с дельтапланами не было. Дважды Домрачеев и академик как бы невзначай упоминали об Эмме — и всякий раз взгляд ависов стекленел, перья топорщились, из горла доносился рваный клекот…
— Оставим их в покое, — предложил Борис. — Может, это защитная реакция на то, что они считают собственной виной.
Павлыш очень сомневался, но возражать не стал. Он, кажется, начал догадываться, как устроен их социум, — и мысль эта сильно его тревожила.
Шагая между домодревами, он машинально запрокинул голову. Все как обычно: текли по стволам ниточки муравионов, в ветвях чирикали рассказнечики — ему даже показалось, он узнает мелодию; потом он заметил двух гекк-ависов, спустившихся по стволу почти до самой земли и с увлеченным видом наблюдавших, как падают в клепсидре капля за каплей. Павлыш кивнул им. Малыши уже перестали бросаться на людей, иногда даже принимались чирикать что-то бессвязное, с отдельными узнаваемыми словами. То ли растут и умнеют, то ли привыкли к чужакам…
Он взобрался по лестнице в центральный зал. Оттуда по внутренней, винтом уходившей вверх, заскочил к Эмме. Просто так.
Ладно, признался он себе, поднимаясь, — дурное предчувствие, но оно же гроша ломаного не сто…
В комнате Эммы не было.
Расстеленная прямо на полу кровать, низкий столик с лекарствами и книжкой, стакан воды. Одинокая лампулитка ворочается на стене, пытаясь догнать сдвинувшийся лучик солнца.
— Так быстро?
Он оглянулся. Девушка стояла у арки, ведущей на ветку. Поймала его взгляд, отмахнулась:
— Перестаньте, Павлыш. Если еще и вы начнете… Мне и так Домрачеев проходу не дает. Двух нянек я не переживу.
— Постельный режим…
— Я знаю, знаю. Слушайте, Павлыш, не говорите ему ничего, ладно. Ваш Миша… он очень впечатлительный и будет переживать. Я просто подышу воздухом, хорошо? Подышу и сразу в постель, вот вам слово. — Она посмотрела на него внимательнее: — А вы… вернулись за чем-то?
Он объяснил и, чтобы замять неловкость, поспешил уйти. Муравионы уже беспокойно копошились в громадном горшке, куда их пришлось пересадить после того, как колония разрослась. Слава кинул им очисток, капнул воды в плошку — и по внутренней лестнице поспешил вниз.
Только у края древо-города сообразил, что слишком торопился и забыл накрыть горшок. Чертыхаясь и проклиная себя, помчался обратно. На бегу едва не врезался в клепсидру — и мимоходом порадовался, что гекк-ависов там уже нет. Не хватало только спугнуть; столько времени приучали — и все пошло бы насмарку.
Впрочем, сейчас насмарку — а точнее, наружу — могли отправиться «картофельные» муравионы. Он на полсекунды остановился под домодревом, чтобы отдышаться, смахнул с лица пот, провел пальцами по влажной макушке.
И вдруг обнаружил, что пальцы — в красном.
Провел другой ладонью — скорее растерянно, раздраженно: тут каждый пластырь на счету, а я, дубина, порезался…
Потом с ужасом запрокинул голову кверху — и увидел, как прямо на него падают одна за другой капли. Как в клепсидре.
Закричал отчаянно, помчался наверх.
Эмма лежала на ветке, у самого края; бинты на груди и предплечье были изорваны, рассечены, они пропитались кровью, и сейчас она капала вниз… пока еще только капала.
Павлыш огляделся по сторонам, но рядом не было ни гекк-ависов, ни призраков — никого вообще, только цепочка муравионов деловито ползла к лужице крови и обратно.
Он подхватил Эмму и понес в комнату, закусив губу от ужаса. Из Отеля явятся в лучшем случае через час, а в худшем… а если ависы решили атаковать, о господи, что тогда? Забаррикадироваться, закрыть чем-нибудь все три выхода, ждать возвращения своих… но как предупредить их? И что с Эммой?!
Она дышала, и пульс еще прощупывался. Слава разрезал бинты, увидел глубокие, рваные раны и застонал от отчаяния. Потом со всего маху стукнул себя кулаком по лбу: не раскисай, соберись. Кто и почему напал — это после, сначала — раны. Промыть, зашить, перебинтовать — давай, доктор, работай, ты сюда для того и приглашен, чтобы спасать чужие жизни!
— У меня нож! — крикнул он в пустоту. — Слышите: длинный и острый нож! И только попробуйте, твари, сунуться! Я вам устрою контакт разумов, слышите! Полный и летальный контакт!
Дальше он помнил плохо. Сознание отключилось, руки сами знали, что делать. Он принес и поставил рядом с кроватью сразу трех лампулиток, притащил воду, вскипятил на горелке, и потом принялся за дело. И выполнил все как следует — как учили в Космическом институте. Профессор Пекур была бы им довольна. По крайней мере, когда он пришел в себя, Эмма была перебинтована, на полу лежал моток ниток, в тазике плавала иголка.
— Выходи, я тебе просвищу серенаду!.. — раздалось вдруг снаружи. — Кто еще серенаду тебе просвистит!..
Все это сопровождалось нарочито небрежными, разухабистыми аккордами — и Павлыш заулыбался, как дурак.
— Эмма Николавна, учтите, я тащил гитару через поле, холмы и густой лес только и исключительно ради вашего…
Домрачеев осекся, а кто-то — кажется, академик, — тихо произнес:
— Да это кровь, Миша. И пролилась не так давно, я думаю, с час-полтора назад.
Застучали по ступеням башмаки, снизу, из зала, донеслось придушенное: «Где же?!» — а потом в комнату ворвался Домрачеев. Гитару он держал за гриф и, кажется, готов был разбить ее о чью-нибудь голову.
— Тише, — медленно сказал Павлыш. — Она пока не пришла в себя, но… все хорошо. Теперь осталось найти тех, кто это сделал. Что вы там? Добрались без проблем?
— Ножницы забыли, — сообщил академик Окунь. — Мы, собственно, пока вдвоем, решили проверить, не случилось ли с вами чего. Урванцы остались в Отеле, и я теперь боюсь, как бы… хм… Дайте-ка я погляжу, что с ней. Перебинтовали вы профессионально. Упала? О, сам вижу, что нет. Резаные раны, да? Иглу прокаливали?
Павлыш вкратце пересказал все, что случилось.
— Значит, детеныши? — Домрачеев зашагал по комнате. Взгляд у него был бешеный. — Детеныши, Слава? Об этом нас предупреждал Отец?
— В том-то и дело, — покачал головой Павлыш. — Слишком глубокие раны. А у гекк-ависов мелкие зубы и совсем никчемушные когти. И потом, неужели Эмма не отбилась бы от детенышей? Да даже и от взрослых, даже в ее состоянии…
— Тогда кто?!
— Я тут прикинул… Может, это призраки, а, Федор Мелентьевич?
— Слава… хм… а вам не кажется, что они для этого не достаточно… э-э-э… телесны?
— Мне кажется, мы ни черта о них не знаем. Мы ни разу не видели ни одного вблизи. Ни разу не касались… Как мы можем судить об их «телесности»? Мы назвали их призраками, но это… это всего лишь слово. Раньше я думал, они — это те, кто не прошел испытание и застрял здесь навеки. Но это же мистика какая-то, да?
— К чему ты ведешь, Павлыш? — уточнил Домрачеев. — Давай скорее, в Отеле, между прочим, люди ждут. И им может угрожать то же, что и Эмме.
— Веду я вот к чему. Призраки — это зрители, по-моему. Азартные зрители. А живут они в другом — ускоренном — потоке времени, поэтому мы и видим их так, фрагментарно. Или, может, они просто умеют по собственному желанию его ускорять или замедлять: ну, вот как ты перематываешь фильм, когда там нет ничего интересного. Эти азартные игроки, — продолжал Павлыш, — возможно, даже делают ставки на то, кто выиграет: ависы или мы. И возможно, говорю я себе, нашелся какой-нибудь один — слишком азартный или недостаточно честный — кто готов подтолкнуть чаши весов в нужном ему направлении. Например, убрать одну из фигур с игровой доски.
— Но это же дико, Слава! Вы предлагаете считать представителей ГЦ чем-то вроде варваров!
— Федор Мелентьевич, потлач — тоже не самый современный ритуал. И что бы там ни говорила о ГЦ Эмма, они не вмешались, чтобы спасти ее, даже вергилия не прислали. И сейчас, заметьте, их доблестной кавалерии что-то не видно на горизонте, да?
Они замолчали. Слышно было, как снаружи галдят на домодревах ависы.
— Хорошо. Допустим, в качестве рабочей версии — отчего бы и нет. И что вы предлагаете?
— Если я прав, — спокойно сказал Павлыш, — и если они уже знают, что я догадался, значит, мы на осадном положении. Мы не знаем, каковы правила для зрителей. Не знаем, нарушили их призраки или нет. Нам придется предполагать самое худшее, а это значит — быть начеку и действовать очень быстро. Миша, ты идешь за Урванцами. Пусть бросают весь хлам, берут самое необходимое. И мигом сюда. Вы, Федор Мелентьевич, попытайтесь позвать кого-нибудь из ависов и уточните, что у них там за галдеж. Я буду на подстраховке — ну и присмотрю за Эммой. Вроде бы я сделал все нормально, но… — Он вдохнул и сказал наконец о том, чего боялся все это время, с тех пор, как увидел Эмму раненой. — Если на когтях или лезвиях, которыми ее кромсали, был яд…
— Не забывай еще кое о чем, — заметил Домрачеев. Он уже стоял у входа, одна нога — на лестнице. — Тот, кто это сделал, может вернуться. Если Эмма придет в себя, она наверняка его или ее выдаст. Я постараюсь раздобыть какое-нибудь оружие, хотя, боюсь, у нас в запасе есть только палки-копалки и зулусские дротики.
— Я решил, что огнестрельное оружие — не то, чем следует гордиться нашей цивилизации, — с достоинством пояснил академик.
— Ладно, я побежал. — Домрачеев исчез.
— Федор Мелентьич, — позвал Павлыш. — Вы там поосторожней, хорошо?
— О, разумеется! Мы с ависами давно нашли общий язык, так что недоразумений быть не должно.
Вернулся академик спустя полчаса, весьма обескураженный.
— Это, знаете ли… невероятно странно, да. На мои вопросы никто толком отвечать не стал. Все возбуждены… вот как — помните? — когда мы вручали им подарки. Очень возбуждены. Галдят, мечутся… Да вы и сами слышите, верно?
— Я решил было, что весь этот грай из-за вас.
— Не знаю, Слава, из-за чего. Но странно, очень странно. Полагаю, нам лучше поискать что-нибудь… хм… получше зулусских дротиков. И позаботиться о том, чтобы забаррикадировать входы. Сможем мы перенести Эмму Николаевну в общий зал, где родник? И перегоните туда хлебемотов, наверное…
Они принялись за работу: сперва перенесли все необходимое, затем вдвоем, очень аккуратно, опустили вниз Эмму. Она забормотала какие-то слова, сбивчиво и по-детски отчаянно, но Слава так и не понял, что именно.
Когда прибыли Миша с Урванцами, зал был уже оборудован для возможной осады.
— Есть новости? — с порога спросил Домрачеев. — И чего так тихо у ависов?
— Да нет, напротив, они галдят как оглашенные… — начал было академик — и осекся. Действительно, за то время, пока они с Павлышем занимались охранными мерами, шум на улице стих.
— Вы говорили с ними о призраках?
— Боюсь, не совсем удачно. Изгибатель меня вовсе не захотел слушать, Хранитель смыслов бормотал нечто нечленораздельное, а Растяпа был слишком увлечен спором с Третьей женой. Что-то о ночных древнепеснях, что ли… боюсь, переводчик здесь недопонял или соврал. А Отца я не заметил, возможно, он…
— Отец, — вдруг отчетливо произнесла Эмма.
Они замолчали и обернулись к кровати: Эмма пришла в себя и смотрела на них ясным, внимательным взглядом.
— Помогите, — велела. — Помогите подняться.
— Это исключено! — Слава оглянулся на остальных. — Слишком большие кровопотери, я, как врач, прописываю постельный режим!..
— К черту постельный режим, Павлыш! Вколите мне что-нибудь, чтобы я могла внятно говорить и нормально двигаться. Приказываю как руководитель группы.
— Что происходит? — вмешался Борис. — Эмма Николаевна, кто на вас напал? Призраки? Детеныши? И почему?
— Какие призраки?! Я же говорю: Отец! И ему помогал Хранитель смыслов. Они пролетали мимо, заметили меня и атаковали — сразу, не сговариваясь.
— Хорошо, и чего вы хотите? Обвинить их?
— Я хочу поговорить с ними, и немедленно. Мы все — безмозглые дураки! И я — в первую очередь! Помните, Павлыш, я говорила о том, что во время контакта ошибки неизбежны?
— «И с помощью ошибок нам нужно научиться выявлять разницу и принимать ее как должное»? Извините, наизусть не заучил, цитирую по памяти.
— Павлыш, мне, похоже, очень повезло с вами. Если бы вы так же лечили, как пытаетесь шутить… ч-черт! Да помогите же, дайте руку!
Миша бросился ее поддержать, Борис исчез и вскоре вернулся с крепкой палкой, которую можно было использовать как костыль.
— И о чем, скажите на милость, вы… э-э-э… намерены с ними разговаривать?
— О том, Федор Мелентьевич, о чем прежде молчали. О табу. О запретах. Разве вы не понимаете? Отец и Хранитель смыслов не виноваты. Я сама их спровоцировала, когда вышла — еще не до конца вылечившаяся — наружу.
— Я вот другого не понимаю, — заметил Борис. — Куда делись все ависы? На домодревах, похоже, никого не осталось. Сбежали?
Эдгар солидно прокашлялся и подождал, пока все обратят на него внимание.
— Это просто, — сказал он. — Ависы улетели на толковище, петь свои древнепесни.
— Куда?! — хором спросили сразу несколько человек.
И только Светлана уточнила:
— А ты, скажи на милость, откуда это знаешь?
— Так нам гекк-ависы рассказывали. Они еще обсуждали, кто кого оборет.
Домрачеев с мрачным видом процитировал:
— «Все, от нас до почти годовалых, толковище вели до кровянки».
Он очень любил древнего поэта Высоцкого, из-за него, собственно, и начал петь.
— И что теперь? — Светлана прижала к себе сыновей. — Вы предлагаете идти к этому… толковищу?
— Инъекцию, Павлыш! Или таблетку! Чем раньше мы с этим закончим, тем лучше. В том числе, для вашей пациентки. Давайте, ну же!
— Действуй, Слава, — кивнул Домрачеев. — А вы, бойцы, знаете, где находится это ваше толковище?
— Я не отпущу их! Борис!..
— Мы пойдем все вместе. Неизвестно, где им безопаснее: здесь или там. — Урванец-старший достал из вороха принесенных вещей узкий кожаный пакет и развернул его. — Эти штуки называются «ассегаи». Не спрашиваю, умеет ли кто-нибудь пользоваться, просто держите при себе.
— Не будем ли мы выглядеть… э-э-э… слишком вызывающе?
— На это, — спокойно ответил Борис, — я, в общем-то, и рассчитываю.
8
Они шли в сгущавшихся сумерках по сухой, хрусткой траве и негромко перебрасывались фразами, пустыми и бессмысленными. Ассегай непривычно оттягивал руку, Павлыш то и дело перекладывал его из одной в другую, но все никак не мог к нему приноровиться.
Еще он нес саквояж. На всякий случай.
Новая домопуща за последние дни значительно подросла и теперь напоминала самую обычную рощу или сад. За стволами проглядывали огни, звучали голоса.
— Только не спешите, — в который раз повторил академик Окунь. — В конце концов, мы ведь всех их хорошо знаем, верно? Мы столько времени провели вместе, общались, делились друг с другом… э-э-э…
— И два ависа, которых мы очень хорошо знали, едва не убили Эмму Николаевну, — сказал Борис.
— Вы не понимаете. — Эмма шла, опираясь на плечо Миши. Ассегай она брать отказалась, и Домрачеев нес оба, ее и свой. — Знаете, как Отец и Хранитель отреагировали, когда я стала отбиваться? Они удивились! Было видно: они не ждали этого, даже не представляли, что я могу так поступить.
— И что из этого следует?
— То, что для них это не преступление! Для них такое в порядке вещей!
— Прекрасно, — пожал плечами Борис. — Но для нас — нет. Или вы жалеете, что отбивались?
Академик воинственно вскинул ассегай: «Тише, тише! Вы слышите это!» — но тут же смутился и уже другой рукой указал на домодрева.
Птичьи голоса смолкли — и теперь над вершинами звенела песня. В ней были сила, и уверенность, и злой задор юности, и тот, кто пел ее, пел, конечно, о любви — потому что только о ней и стоит петь, только о ней одной.
Людям оставалось пройти всего-то шагов пять, но они замерли у входа в доморощу до тех пор, пока не отзвучал последний слог. Потом пошли к огням и к тем, кто там собрался.
Посреди круга расцвеченных лампулитками деревьев темнел изящный помост, по периметру которого возвышались п-образные арки. На каждой сидело по авису, на одной стороне — самки, на другой — самцы во главе с Отцом. На самом помосте стоял, раскинув крылья, Растяпа. Никто и никогда не подумал бы, что он способен так петь и даже так выглядеть: величественно и вызывающе.
Когда он закончил, Третья и Седьмая жены закудахтали и закивали, но остальные пять хранили сдержанное молчание.
— Видите, — шепнула Эмма. — Вы видите? Их взгляды!..
Действительно, у всех ависов был странный взгляд: как будто застывший, но в то же время осознанный, живой.
— Это потому…
Но на нее зашикали: Растяпа уже ретировался со сцены, и сейчас петь начал Изгибатель. Его песня была более продуманной и размеренной, в ней преобладал расчет, а не импровизация, — однако она пленяла воображение не меньше, чем предыдущая.
Когда он закончил, четыре из семи жен стали кивать и кудахтать.
— Не толковище, — хмыкнул Борис. — Учи вас и учи, молодежь! Токовище, Эдгар.
— Но как, — громким шепотом спросил академик, — все это связано с нами? С Эммой Николаевной?
— Может, они становятся более агрессивными во время брачного периода?
— Ерунда какая-то! Я же общался с ними после нападения на Эмму, и никто на меня не набросился; просто были слегка рассеянны…
— Федор Мелентьевич!
— Погодите, Слава! Я пытаюсь понять, почему они так себя вели…
— Федор Мелентьевич, проще спросить у них самих. Хотя, кажется, наши друзья сейчас не настроены отвечать.
Изгибатель так и не начал петь — он услышал академика и спрыгнул со сцены. Вслед за ним слетели с насестов остальные самцы — и теперь они шли на людей плотным строем, вывернув крылья и нагнув туловище к земле. Их хвосты тряслись в воздухе, перья терлись друг о друга, издавая приглушенное, угрожающее шуршание. Глаза были налиты красным, зобы раздулись.
Почему-то эта картина напомнила Павлышу то, что происходило несколько часов назад с ним самим: тот его крик о ноже и последовавший затем провал в памяти.
— Постойте, — шептал академик Окунь. — Мы ведь не животные какие-нибудь — мы разумные, цивилизованные люди… и птицы. Мы ведь уже смогли найти общий язык — так зачем же сейчас…
Борис аккуратно отодвинул его в сторону и кивнул Домрачееву с Павлышем, чтобы встали рядом.
«Разумные, — подумал Павлыш. — Цивилизованные. Не животные».
И тогда его осенило.
— Миша, иди на сцену!
— Что?
— На сцену — и спой что-нибудь… такое, чтоб аж дух захватило. Потом объясню! — Павлыш взглянул на приближавшихся ависов и уточнил: — А вообще, пожалуй, начинай-ка прямо сейчас.
— О чем петь?