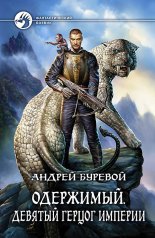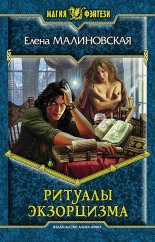Наука Плоского мира. Книга 2. Глобус Пратчетт Терри
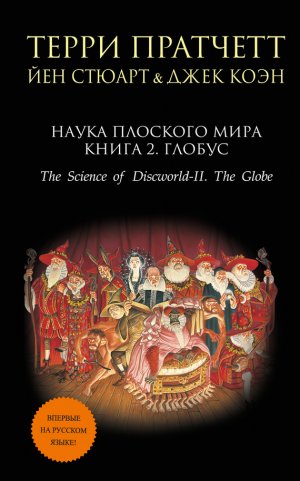
Образ богини задрожал. Королева попыталась удержать его, но очарование было слишком чувствительным к неверию.
– Ого, какой ты храбрый, – сказала она, принимая свой обычный вид.
За ее спиной раздался скрип, и она обернулась. Это Сундук подошел к ней на цыпочках и поднял крышку.
– Меня этим не испугаешь, – произнесла она.
– Да? А меня он пугает, – сказал Ринсвинд. – Как бы то ни было, я просто помогаю им совершенствовать актерские навыки. Это же совсем не проблема, да? Вам это понравится. Тут есть дриады, нимфы, сатиры, кентавры, гарпии и даже одноглазые великаны – если только это не была пошлая шутка, которую я не понял. Они во все это верят, хотя никого из этих созданий не существует! Разве что одноглазый великан – этот парень такой загадочный!
– Мы видели их выступления, – сообщила королева. – Они не проявляют должного уважения к своим богам.
– Но если они их увидят, то сразу поверят, разве нет? И вы должны признать, у них тут много богов. Десятки.
Он дружелюбно улыбнулся ей в надежде, что она оставит в покое ближайшие города. В них было много храмов и святилищ, а также куча людей, взывавших к богам по каждой мелочи, а потом излагали идеи, в которых богам не находилось места – разве что в качестве наблюдателей или декораций. Зато актерам нравилось играть богов…
– Вы что-то задумали, – сказала королева. – Куда бы мы ни посмотрели, волшебники учат людей искусству. Зачем?
– Ну, это довольно унылая планетка, – ответил Ринсвинд.
– Куда бы мы ни пошли, они рассказывают истории, – продолжала королева, медленно описывая круги. – А еще они заполняют картинками небо.
– Созвездиями, что ли? – спросил Ринсвинд. – Они здесь не меняются, вы в курсе? Не как у нас дома. Это поразительно! Я пытался помочь одному племени назвать то большое, которое похоже на пояс. Я думал, если бы они назвали его Казначеем, а группу маленьких звезд справа от него Пилюлями из сушеных жаб, это было бы милым воспоминанием о нашем пребывании здесь…
– Ты боишься меня, не так ли? – сказала королева. – Все волшебники боятся женщин.
– Но только не я! – заявил Ринсвинд. – Женщины реже бывают вооружены.
– Да, боишься, – подтвердила королева и приблизилась к нему. – Интересно, какое твое самое заветное желание?
Не находиться здесь в данную минуту было бы очень кстати, подумал Ринсвинд.
– Интересно, что бы я могла тебе дать? – проговорила королева, погладив его по щеке.
– Всем известно, что эльфийские дары наутро исчезают, – дрожа, ответил Ринсвинд.
– Существует много преходящих, но от этого не менее приятных вещей, – сказала королева, подступая совсем близко. – Чего ты хочешь, Ринсвинд?
Ринсвинда трясло. Лгать ей он решительно не мог.
– Картошки, – выпалил он.
– То есть клубневых овощей? – брови королевы сдвинулись от изумления.
– Ну да. Здесь она растет только на другом материке, но она совсем не такая, какую я называю картошкой. Думминг Тупс говорит, что если мы оставим все как есть, то ко времени, когда они привезут ее сюда и станут выращивать, уже наступит конец света. Поэтому мы подумали, что нам стоит слегка поднять уровень их творческого развития.
– И все? И ради этого все волшебники этим занимаются? Просто чтобы люди стали быстрее выращивать этот овощ?
– Не просто овощ, знаете ли, – заметил Ринсвинд. – И раз уж вы спросили, я считаю картошку венцом царства овощей. Бывает жареная картошка, картошка в мундире, вареная картошка, картофель фри, картошка под соусом карри…
– И все ради дурацкого клубня?
– …картофельный суп, картофельный салат, картофельные котлеты…
– Клубня, который даже не видит дневного света!
– …картофельное пюре, картофельные чипсы, фаршированный картофель…
Королева влепила ему пощечину. Сундук толкнул ее сзади. Он не совсем понимал, что между ними происходило. Люди иногда вели себя таким образом, что их действия можно было истолковать неверно.
– Как думаешь, я могу дать тебе кое-что получше картошки? – продолжала она.
Ринсвинд озадаченно посмотрел на нее.
– Мы говорим о картошке со сметаной с чесноком? – спросил он.
Что-то выпало из мантии Ринсвинда, когда он неловко пошевелился. Королева тут же это подняла.
– Что это? – спросила она. – Тут все исписано!
– Это просто сценарий, – сказал Ринсвинд, у которого картошка все еще не вышла из головы. – Как бы сюжет спектакля, – добавил он. – Так, пустяки. Про то, как все сходят с ума, убивают друг друга и все такое. А еще про светлячка.
– Мне он знаком! Он из будущего этого мира. Зачем ты его с собой носишь? Что в нем такого особенного? Там что, есть что-то про картошку?
Она пробежалась по страницам, будто успевала читать.
– Должно быть, это что-то важное, – со злостью проговорила она. А потом исчезла.
На пол упал один-единственный листок.
Ринсвинд нагнулся и поднял его. А затем резко прокричал в пустой воздух:
– Значит, на упаковку чипсов я могу не рассчитывать?
Глава 26
Ложь для шимпанзе
Главное качество экстеллекта состоит в способности делать выводы о том, что происходит в голове другого человека, а также строить догадки о том, каким мир выглядит с его точки зрения. Собственно, именно этим сейчас занимается королева, в то время как Ринсвинд пытается это предотвратить. Мы не умеем делать подобные выводы с той же точностью, что и она, – иначе это называлось бы телепатией, – а телепатия практически наверняка невозможна, поскольку каждый мозг работает на своей волне и, как следствие, по-своему воспринимает мир. Но мы эволюционировали и научились довольно сносно это угадывать.
Способность проникать в головы других людей имеет множество положительных сторон. Одна из них состоит в том, что мы узнаём других именно как людей, а не как бездушных роботов. Мы узнаём, что у них есть разум, что они видят мир таким же реальным и живым, как видим мы сами, – однако некоторые вещи они могут воспринимать иначе, чем их воспринимаем мы. Когда разумные существа хотят ужиться друг с другом, не имея разногласий, им важно сознавать, что другие представители вашего вида имеют свои внутренние миры, которые управляют их действиями точно так же, как ваши управляются вашим внутренним миром.
Когда вы представляете себя кем-то другим, истории обретают новое измерение. Вы можете отождествлять себя с главным героем и косвенно жить в другом мире. В этом кроется притягательность художественной литературы: вам не нужно подниматься с кресла, чтобы стать капитаном подводной лодки или шпионом, выслеживающим врага.
По этой же причине мы любим и театр – только здесь существуют реальные люди, с которыми мы можем себя отождествлять, – люди, играющие выдуманные роли. Актеры и актрисы. А они, в свою очередь, еще глубже проникают в разум других людей, в разум своих персонажей – Макбета, второй ведьмы, Оберона, Титании, Мотка.
Откуда эта способность у нас взялась? Как водится, она возникла благодаря комплицитности между внутренней способностью мозга обрабатывать сигналы и внешним культурным давлением. Она появилась в процессе эволюционной гонки вооружений, главным оружием в которой была ложь.
Эта история начинается с развития языка. Когда мозги протолюдей претерпели эволюцию и увеличились в размерах, в них появилось место для выполнения задач новых типов. Примитивные мычание и жесты стали упорядочиваться в более-менее систематические коды, способные отражать важные для этих людей аспекты окружающего мира. Такое сложное понятие, как, например, «собака», теперь ассоциировалось с определенным звуком. Благодаря установленным культурным условностям каждый, кто слышал этот звук, представлял себе образ собаки – этот звук был чем-то большим, чем прежде. Если вы попробуете послушать кого-то, кто разговаривает на знакомом вам языке, прислушиваясь только к звукам и стараясь не обращать внимания на значения слов, то быстро придете к выводу, что это практически невозможно. Речь на языке, не похожем ни на один из тех, которыми вы владеете, покажется вам бессмысленной тарабарщиной. Она содержит даже меньше смысла, чем кошачье «мяу».
Цепочки нервных клеток мозга научились декодировать тарабарщину, придавая ей значение. Ребенок, подрастая, начинает лепетать случайный набор фонем, «единиц» звука, которые способен издавать человеческий рот и гортань. Детский мозг постепенно убирает лишние звуки, оставляя лишь те, которые слышит от родителей и других взрослых. При этом он разрушает связи между нервными клетками, которые считает изжившими себя. Раннее умственное развитие по большей части заключается в удалении случайных связей универсального мозга и превращении его в мозг, способный воспринимать вещи, которые представляют важность для культуры самого ребенка. Если в раннем детстве ребенок не подвергается значительному языковому воздействию – как, например, в случаях «диких» детей, воспитанных животными, – потом он уже не может научиться нормально говорить. Примерно к десяти годам мозг утрачивает способность к изучению языка.
Практически то же самое происходит и с другими чувствами, особенно с обонянием. Разные люди по-разному воспринимают одни и те же запахи. Одним определенный запах может показаться неприятным, другим – безвредным, третьи же вообще его не заметят. На восприятие некоторых запахов, как и в случае с языком, влияние оказывает культура.
Первичная функция языка – под чем мы подразумеваем «главную эволюционную уловку, несущую преимущества, которые сохраняются и совершенствуются в ходе естественного отбора», – заключается в передаче смысловых сообщений другим представителям своего вида. Мы делаем это несколькими способами – например, «язык тела» и даже запахи передают образные сообщения, в основном на бессознательном уровне. Но наиболее практичным и пригодным является речь, и мы весьма осознанно воспринимаем то, что говорят другие. Особенно если это касается нас самих.
Одна из наиболее распространенных характерных эволюционных уловок – это жульничество. Как только группа организмов развила в себе определенную способность или поведение, возникает новая возможность – коверкать ее. Предсказуемые модели поведения служат естественным трамплином для прыжков в пространство смежных возможностей. Пчелы развили способность собирать нектар и пыльцу, чтобы питаться ими. Позже мы исковеркали ее, придумав для них лучшие жилища, чем они могли найти в дикой природе. И стали отбирать у пчел мед, обеспечивая их ульями как элитными домами из пространства смежных возможностей.
Многие тенденции эволюции возникли в результате такого коверкания. Так, с развитием способности втолковывать определенные мысли другим стало естественным экспериментировать с методами коверкания в ходе эволюции. Не обязательно вкладывать в них то, что сами считаете верным, – можно вложить и какие-нибудь иные мысли. К примеру, запутать собеседника и тем самым добиться преимущества. Результатом этого стала эволюция лжи.
Многие животные лгут. Замечено, что обезьяны могут подавать своей группе сигналы об «опасности», чтобы затем, когда все скроются в укрытии, присвоить брошенную в спешке еду. Притворство в царстве животных – это одна из форм лжи, пусть и более примитивная, но производящая достаточно сильный эффект. Безобидная журчалка имеет желто-черный осиный окрас, чем вводит в заблуждение, мол, я опасна и могу ужалить.
В ходе нашей эволюции эта обезьянья ложь превратилась в более сложную ложь приматов, затем в ложь гоминид и, наконец, в человеческую ложь. Когда мы стали более разумными, наша способность лгать эволюционировала параллельно с другим важным умением – выявлять ложь других. Группа обезьян может развить средства защиты от своего собрата, обманывающего их, подавая сигнал об опасности. Одно из них – принять за данное, что ему нельзя доверять, и в дальнейшем игнорировать. Детская сказка о мальчике, который кричал «волк», демонстрирует опасность такого подхода как для группы, так и для лжеца. Второе средство – наказать его за ложь. А третье – развить способность находить различия между ложными и настоящими сигналами. Станет ли обезьяна кричать об «опасности» и алчно коситься на чужую еду?
Веские основания для эволюции имеются не только у способности лгать, но и у способности уличать во лжи. Если кто-то пытается манипулировать вами ради собственной выгоды, то, скорее всего, это противоречит вашим интересам. Значит, для вас лучше всего осознать это и не дать собой манипулировать. Вследствие этого неизбежно стартует гонка вооружений, в которой способность лгать соревнуется со способностью уличать во лжи. Безусловно, она продолжается до сих пор, хотя как в умении лгать, так и в умении выявлять ложь уже достигнуты серьезные успехи. Иногда мы понимаем, что человек врет, лишь по единственному взгляду на его лицо или по тону голоса.
Один их эффективных методов распознания обмана состоит в том, чтобы ставить себя на место другого и спросить себя, соответствует ли то, что он говорит, тому, что он думает. Например, вам говорят, какой у вас милый ребенок, но из прошлого опыта общения с этим человеком вы помните, что он вообще не выносит детей. Конечно, есть вероятность, что ваш ребенок особенный, но затем вы замечаете тревожный взгляд в его глазах, выдающий, как ему сейчас не по себе…
Эмпатия – это не просто красивый способ понимания чужой точки зрения. Это оружие, которое можно применять в своих целях. Поняв точку зрения другого человека, вы сравниваете ее с его словами и делаете вывод, стоит ли ему доверять. Таким образом, ложь, присутствующая в фазовом пространстве смежных возможностей, способствовала развитию эмпатии у людей, а вместе с ней – индивидуального интеллекта и целостности социальных групп. Обучение лжи стало огромным шагом для всего человечества.
Мы умеем ставить себя на место других людей и достаточно правдоподобно о них судить благодаря тому, что мы сами люди. По крайней мере, мы знаем, каково это быть людьми. Однако все же вводим себя в заблуждение, думая, что можем знать наверняка, что происходит у кого-то в голове, не говоря уже о понимании того, что он чувствует. Разум каждого индивида устроен по-своему и формируется на основе перенесенного его владельцем опыта. Но еще сложнее представить, что чувствуют животные. В Плоском мире квалифицированная ведьма способна проникать в их сознание, и мы можем в этом убедиться, вспомнив отрывок из романа «Дамы и Господа»:
«Она Заимствовала. Однако здесь следовало проявлять крайнюю осторожность. Это ведь как наркотик, затягивает. Входить в разумы зверей и птиц – но не пчел – нежно управлять ими, смотреть на мир их глазами… Матушка Ветровоск частенько наведывалась в чужие сознания. Для нее это было неотъемлемой частью ведьмовства. Возможность взглянуть на мир иными глазами…
…Глазами мошек увидеть медленное течение времени в быстротечном дне, их маленькие разумы перемещаются с быстротой молнии…
…Телом жука услышать мир, представляющий собой трехмерный узор колебаний…
…Носом собаки обонять запахи, которые вдруг приобретают цвета и оттенки…»
Это поэтический образ. Разве обоняние у собак устроено таким образом? Некоторые верят, что нюх для них важнее, чем зрение, но это, очевидно, преувеличение, основанное на более правдоподобном мнении, что он просто для них важнее, чем для людей. Но даже здесь мы должны добавить «по крайней мере, на уровне сознания», так как мы подсознательно реагируем на феромоны и другие вещества, заряжающие нас эмоциями. Несколько лет назад Дэвид Берлинер работал с веществами, входящими в состав человеческой кожи, и оставил на лабораторном столе открытый сосуд с кое-какими кожными выделениями. Затем он заметил, что его ассистенты начали вести себя намного оживленнее, чем обычно, стали более дружелюбными и даже игривыми. Он заморозил выделения и поставил их в лабораторный холодильник для лучшего сохранения. Тридцатью годами позже, изучив эти вещества, он выяснил, что это был андростерон, или половой гормон. Серия последующих опытов показала, что это вещество отвечает за оживленное поведение. Однако андростерон не имеет запаха. Тогда в чем же дело?
У некоторых животных есть «вомероназальный» орган, также известный как «второй нос». Это небольшой фрагмент ткани в носу, который распознает определенные химические вещества и при этом не связан с обычной системой обоняния. Долгое время считалось, что у людей такого органа нет, но необычное поведение ассистентов возбудило в Берлинере любопытство, и он выяснил, что общепринятое мнение по этому поводу было ошибочным. По крайней мере, некоторые люди обладают вомероназальным органом, и он способен реагировать на феромоны – то есть особые химические вещества, заставляющие животных испытывать сильные чувства, такие как страх или половое возбуждение. Люди, у которых он есть, не осознают того, что он ощущает, но тем не менее реагируют на воспринимаемые им вещества.
Эта история демонстрирует, как легко мы можем ошибаться в собственных ощущениях. В данном случае вы знаете, как устроено вомероназальное обоняние человека: ваше сознание вообще ничего не ощущает, но вы все равно реагируете! Получается, ваша реакция существенно отличается от того, как «вы ее ощущаете». Слышимые нами звуки, ощущения тепла и холода на коже, запахи, проникающие в наши ноздри, легко узнаваемый вкус соли… Все эти квалиа, яркие «ощущения», привязаны к нашему восприятию, чтобы нам было легче их распознавать. Да, они основываются на реальных вещах, но не являются реальными свойствами окружающего мира. Вероятно, это реальные свойства архитектуры нашего мозга и его функций, реальных вещей, происходящих в реальных нервных клетках, но этот уровень реальности сильно разнится с уровнем нашего восприятия.
Поэтому стоит задуматься над тем, действительно ли мы знаем, что чувствуют собаки. В 1974 году философ Томас Нагель опубликовал в журнале «Философское обозрение» свою знаменитую статью «Каково быть летучей мышью?», посвященную как раз этому вопросу. Мы можем вообразить, каково быть человеком, который ведет себя – по крайней мере, внешне – как летучая мышь, но понятия не имеем, насколько это похоже на бытность настоящей летучей мышью, и едва ли людской разум вообще в состоянии это постичь.
Летучих мышей мы в любом случае понимаем неправильно. Как известно, они используют эхолокацию для восприятия окружающей среды – аналогично подводным лодкам, использующим сонар. И летучие мыши, и подводные лодки излучают сильные звуковые импульсы и прислушиваются к возникающему в ответ эху. На основе этого эха они могут «вычислять», от чего может отражаться такой звук. Естественно, мы предполагаем, что летучая мышь реагирует на эхо точно так же, как это делали бы мы сами – то есть слушает его. Естественно, мы ожидаем, что квалиа эхолокации летучих мышей похожи на человеческие квалиа, вызванные звуковыми образами, наиболее ярким примером которых служит музыка. То есть представляем, будто летучие мыши летают под аккомпанемент невероятно быстрых ритмов бонго.
Но едва ли эта аналогия правдива. Эхолокация – это основное чувство летучей мыши, поэтому среди чувств человека ей «корректно» соответствует не слух, а зрение. На обложке номера журнала «Природа» за август 1993 года изображена летучая мышь, а подпись гласит: «Как летучие мыши видят ушами». Это отсылает нас к технической статье Стивена Дира, Джеймса Симмонса и Джонатана Фритца, которые открыли, что нейроны в части мозга летучей мыши, отвечающей за обработку эха, связаны практически так же, что и нейроны в зрительной коре человека. С точки зрения архитектуры нейронной сети это дает веские основания полагать, что мозг летучей мыши использует эхо, чтобы выстраивать изображение окружающей среды. Современные подлодки аналогичным образом используют компьютеры, чтобы превращать полученные эхо в трехмерную карту окружающей воды. В «Вымыслах реальности» мы развили эту тему и отчасти ответили на вопрос Нагеля:
«[В действительности] летучие мыши видят ушами, и их сонарные квалиа могут напоминать наши зрительные квалиа. Интенсивность звука может восприниматься ими как «яркость» и так далее. Вероятно, сонарные квалиа «видят» мир черно-белым с оттенками серого, но также способны улавливать более тонкие характеристики звуковых отражений и передавать их в виде ярких образов. Ближайшая человеческая аналогия – это текстуры, которые мы осязаем, а летучие мыши слышат. Мягкие объекты, например, отражают звук хуже твердых. Следовательно, летучие мыши хорошо «видят» и текстурованный звук. Если это правда – эту аналогию мы приводим лишь как грубый пример для понимания общей идеи, – сонарные квалиа мягких поверхностей могут выглядеть «зелеными» в мозгу летучей мыши, твердых – красными, жидких – цветом, который могут различать только пчелы, и так далее…»
В Круглом мире об этом можно лишь догадываться, основываясь на аналогиях архитектуры нейронной сети. В Плоском мире ведьмы знают, каково быть летучей мышью, собакой или жуком. Вервольф Ангва обоняет цвета, что весьма близко с нашему предположению о летучих мышах, слышащих в виде изображений и «видящих» текстуры. Но даже в Плоском мире ведьмы не ощущают на самом деле, каково быть летучей мышью. Они ощущают, каково быть человеком, «заимствующим» органы чувств и нейронные сети летучей мыши. Очевидно, летучая мышь, в чьем сознании не копается ведьма, чувствует себя совсем по-другому.
Хоть мы и не знаем наверняка, каково это быть животным или другим человеком, но попытки это представить бывают довольно полезными. Как мы уже говорили, здесь имеет место эмпатия, то есть способность ставить себя на место другого. Мы уже убедились в социальной важности этого навыка, как и в том, что если применить его иным образом и с иной целью, можно уличать других во лжи. Поставив себя на его место, мы поймем, что его слова не соответствуют тому, что, как нам кажется, он думает, и будем иметь все основания подозревать, что он лжет.
Слово «ложь» имеет отрицательный оттенок, и вполне заслуженно, но то, о чем мы сейчас говорим, может носить как конструктивный, так и деструктивный характер. Для целей настоящей дискуссии примем за ложь все, что противоположно истине, – хотя нам отнюдь не ясно, что такое «истина» и обязательно ли она должна быть единственной. Когда два человека спорят, ни они, ни кто-либо другой не могут точно выяснить суть дела. Наши мысли затуманены нашим же восприятием. Это неизбежно, ведь наше ощущение «реальности» складывается из обработанных разумом ощущений, полученных от органов чувств – подогнанных, отрегулированных, искаженных интерпретациями разных участков мозга и дополненных фоном. Мы никогда не знаем, что действительно нас окружает. Мы знаем лишь то, что наш разум выстраивает из того, что ему передают глаза, уши и пальцы.
Но не стоит на это полагаться: такое восприятие ложно. Живого, красочного мира, который наш мозг выводит из света, попадающего на сетчатку, на самом деле не существует. Роза имеет красный цвет из-за своих физических свойств, но «иметь красный цвет» – это не физическое свойство как таковое. Скорее это «излучение света с определенной длиной волны». Однако яркий красный цвет, который мы «видим», не связан с конкретной длиной волны. Наш мозг корректирует цвета зрительных образов, учитывая тени, отражения света с одних участков на другие и тому подобное. Наше ощущение красного цвета – это декорация, добавленная мозгом, или квалиа. Поэтому то, что мы «видим», – это не то, чем оно реально является, а лишь его измененное мысленное изображение.
Для пчелы такая же красная роза может выглядеть совершенно иначе – например, иметь опознавательные знаки. Пчела «видит» в ультрафиолетовом свете, недоступном нашему зрению. Роза излучает световые волны разной длины, но мы видим лишь малую их часть и называем это реальностью. Пчела видит другую часть и реагирует на них в своей пчелиной манере, используя определенные знаки, чтобы садиться на розу и собирать нектар или пролетать мимо и искать другие возможности. Из этого следует, что ни наше, ни пчелиное восприятие не является реальностью.
В двадцать четвертой главе мы объяснили, что наш разум, выбирая, что ему воспринимать, не просто игнорирует сигналы, которые не удается уловить органам чувств. Он настраиваем их, чтобы видеть и слышать то, что сам хочет. Нервных соединений, идущих от мозга к уху, больше, чем соединений, идущих в обратном направлении. Они регулируют способность уха воспринимать определенные звуки, вероятно, делая его более чувствительным к звукам, которые могут представлять опасность, и менее – к тем, которые не имеют важности. Люди, не слышавшие определенных звуков, будучи детьми – когда их уши и мозги были настроены на восприятие языка, – став взрослыми, не способны их различать. Для японцев фонемы «л» и «р» звучат одинаково.
Ложь, которую сообщают нам наши органы чувств, не умышленна. Они скорее недоговаривают, чем врут, а мир настолько сложен и наш разум настолько прост в сравнении с ним, что лучшее, на что мы можем надеяться, – это полуправда. Даже наиболее труднопонимаемая «фундаментальная» физика – в лучшем случае полуправда. Мало того: чем «фундаментальнее» она становится, тем меньше правды в ней остается. Поэтому неудивительно, что самый эффективный из придуманных нами методов передачи экстеллекта детям заключается в систематической лжи.
Мы называем ее «образованием».
Мы слышим, как волосы встают дыбом, даже когда пишем эти строки, словно квантовые сигналы возвращаются эхом назад во времени от будущих читателей-преподавателей, дошедших до этой страницы. Но, прежде чем швырнуть книгу через всю комнату или писать гневное письмо издателю, задумайтесь, насколько велика доля истины в том, чему вы учите детей. Не того, что достойно внимания или что может быть оправдано, а именно истины. Вы тут же начнете строить аргументы: «Ну, дети ведь не могут понять всей сложности реального мира. Работа учителя состоит в том, чтобы упрощать ее, помогая им понять…»
В том-то и дело.
Эти упрощения и есть ложь – в том значении, которое мы приняли для этого слова. Но это полезная, конструктивная ложь – такая, что даже если она вводит в глубокое заблуждение, то все равно развивает понимание ребенка. Для примера, задумайтесь над предложением: «Больница – это место, куда людей отправляют, чтобы доктора их там вылечили». Ведь ни один здравомыслящий взрослый не скажет ребенку, что иногда люди попадают в больницу, а потом их выносят оттуда мертвыми. Или что часто бывает так, что их нельзя вылечить. Рано или поздно ребенок сам должен будет отправиться в больницу, а слишком большая порция правды на раннем этапе может привести к тому, что родителям будет трудно уговорить его сделать это без лишнего шума. При этом ни один взрослый не сочтет, что приведенное предложение в точности отражает суть понятия. В лучшем случае оно описывает идеал, к которому больницы должны стремиться. И когда мы оправдываем свое утверждение тем, что правда может расстроить ребенка, мы признаем, что это ложь, и констатируем, что социальные условности и человеческий комфорт важнее точного описания мира.
Конечно, зачастую это действительно так. Многое зависит от контекста и намерений. В четвертой главе «Науки Плоского мира» мы назвали эту полезную неправду и полуправду «ложью для детей». Не стоит путать ее с менее доброжелательной «ложью для взрослых», иногда также называемой «политикой». Ложь для взрослых строится с явным намерением сокрытия намерений и введения в заблуждение. Некоторые газеты с успехом печатают ложь для взрослых, а другие хоть и стараются изо всех сил, но у них получается лишь ложь для детей на языке взрослых.
В двадцать пятом романе о Плоском мире, который называется «Правда», на Диск приходит журналистика в лице Вильяма де Словва. Его карьера начинается с ежемесячной новостной рассылки для видных плоскомирских деятелей. Обычная ее цена составляла пять долларов, но один иностранец платил за нее полтелеги фиг два раза в год. Де Словво пишет одно письмо и платит граверу Резнику с улицы Искусных Умельцев, чтобы тот изготовил из него гравюру, а затем печатает с нее пять копий. Так, с малого, когда у де Словва развилась способность вынюхивать истории, а гномы изобрели подвижную литеру, и был запущен первый в Анк-Морпорке новостной листок. Ходят слухи, что гномы придумали, как превращать свинец в золото, – и, учитывая, что литера сделана из свинца, это в некотором смысле можно назвать правдой.
Главная журналистская линия романа повествует о битве за тиражи между «Анк-Морпоркской Правдой» («ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ») и «Анк-Морпорк ИНФО» («НОВОСТИ – ЭТО НАША ПРОХВЕССИЯ»). «Правда» представляет собой престижный широкоформатный новостной листок, выходивший с заголовками вроде «Патриций нападает на секретаря с ножом (Нож был у патриция, а не у секретаря)» и проверявший факты перед тем, как пускать их в печать. «ИНФО» же – бульварная газетенка с заголовками типа «ЭЛЬФЫ ПОХИТИЛИ МОЕГО МУЖА!», которая экономила на историях, придумывая их самостоятельно. В итоге она может обойти своего престижного конкурента благодаря более низкой цене и более интересным историям. Но в конце концов «Правда» торжествует над дешевой бессмыслицей, а де Словво узнает у своего издателя Сахариссы фундаментальный принцип журналистики:
– Взгляни на происходящее с другой стороны, – посоветовала Сахарисса, открывая в своем блокноте чистую страницу. – Некоторые люди – герои. А некоторые только пишут о героях.
– Да, и все же…
Сахарисса подняла голову и улыбнулась ему.
– Но иногда это один и тот же человек.
На этот раз голову опустил Вильям. Из скромности.
– И ты считаешь, что это действительно так? Что это правда?
Она пожала плечами.
– Правда ли это? Кто знает? Но мы работаем в новостном листке. А значит, до завтрашнего дня это – правда[78].
Ложь для детей – даже напечатанная в широкоформатном новостном листке, – как правило, безобидна и полезна, и даже если это не так, она имеет положительные намерения. Ее цель – проложить тропу, которая в итоге приведет к более сложной лжи для детей, отражающей сложности реальной жизни. Мы изучаем науки, искусство, историю и экономику посредством тщательно продуманной лжи. Историй, если вам так больше нравится… Впрочем, мы уже отметили, что истории – это ложь.
Учитель естествознания объясняет цвета радуги преломлением лучей, но игнорирует ее форму и расположение цветов. Хотя если вдуматься, это еще более интересная загадка, и нам еще сильнее хочется узнать, почему радуга выглядит именно таким образом. Здесь дело не просто в каплях, принимающих призматическую форму. Возможно, позже мы откроем новый уровень лжи и станем показывать детям изящную геометрию лучей света, проходящих сквозь сферическую каплю, преломляющихся, отражающихся и преломляющихся обратно так, что каждый цвет при этом фокусируется под слегка иным углом. Позже мы вам объясним, что свет вообще состоит не из лучей, а из электромагнитных волн. В университете мы учим студентов, что эти волны на самом деле никакие не волны, а крошечные квантовые волновые пакеты – фотоны. Только вот понятие «волновой пакет», используемое в учебниках, не совсем точно… И так далее. Таковы все наши представления о природе – ни одно из них не отражает Истинной реальности.
Глава 27
Нехватка Шекспира
Волшебники никогда не знали наверняка, где находятся в тот или иной момент, – ведь это была не их история. А названия история получает только потом: Эпоха Просвещения, Великая депрессия. Впрочем, это не означает, что люди не могли впадать в депрессию от окружающего их просвещения или находиться в приподнятом настроении в мрачные времена. Периоды также называли в честь королей, будто вся страна характеризовалась тираном с каменным лицом, который злым умыслом прорвался к власти, и будто люди только и говорили: «Ура, правление династии Чичестеров, время раскола веры и непрерывных конфликтов с Бельгией, подошло к концу, и теперь мы предвкушаем эпоху Лутонов – период экспансий и улучшения образования! Пахота больших полей отныне станет более интересным занятием!»
Волшебники договорились называть время, в которое прибыли, буквой D и теперь сидели в нем. Некоторые из них к этому моменту успели хорошо загореть.
Они снова заняли библиотеку Ди.
– Похоже, первый пункт себя вполне оправдал, джентльмены, – объявил Думминг. – Теперь этот мир гораздо ярче. Очевидно, мы… э-э… помогли эльфам в эволюции существ, которых я рискнул назвать Homo narrans, или «человек рассказывающий».
– Но они все ведут религиозные войны, – заметил декан. – И вывешивают головы на пиках.
– Да, но теперь у них на то более интересные причины, – возразил Думминг. – Это же люди. Воображение есть воображение. Оно применимо ко всему. Как для поразительных произведений искусства, так и для ужасных пыточных инструментов. Как называлась та страна, где у профессора современного руносложения случилось пищевое отравление?
– Кажется, Италия, – ответил Ринсвинд. – Все остальные ели спагетти.
– Так вот, там полно церквей, войн, ужасов, но там же собраны самые выдающиеся шедевры. Они лучше, чем те, что у нас дома. Мы должны этим гордиться, джентльмены.
– Но когда мы показали им ту книгу с цветными картинками, которую библиотекарь нашел в Б-пространстве, про великие шедевры… – пробормотал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, словно ему пришла какая-то мысль, но не мог ее как следует выразить.
– Тогда что? – спросил Чудакулли.
– …ну, это же было не совсем жульничество, правда?
– Разумеется, нет, – ответил аркканцлер. – Они все равно должны были где-то это нарисовать. В каком-нибудь другом измерении или в другом кванте. Ну, там, параллельные возможности или что-то вроде того. Это неважно. Все движется по кругу, а потом случается здесь.
– А по-моему, мы слишком многое рассказали тому крупному парню с залысиной, – сказал декан. – Ну, художнику, помните? Может, это двойник Леонарда Щеботанского? Тоже с бородой и хорошо поет. Зря вы ему проговорились о летающей машине Леонарда.
– Да он столько всего уже накорябал, что никто и внимания не обратит, – ответил Чудакулли. – И вообще, кто будет помнить художника, который даже улыбку не может нарисовать как следует? Суть в том, джентльмены, что фантастическое и… э-э… практическое изображение идут рука об руку. Одно ведет к другому, и их нельзя разделить при помощи какого-нибудь большого рычага. Прежде чем что-то сделать, сначала нужно представить это у себя в голове.
– Но эльфы по-прежнему здесь, – заметил профессор современного руносложения. – Все, чего мы добились, – это выполнили за них работу лучше, чем они сделали бы это сами. Я не вижу, какой в этом смысл!
– А это уже пункт номер два, – сказал Думминг. – Ринсвинд?
– Что?
– Ты хотел рассказать нам о втором пункте, помнишь? Кажется, ты говорил, что хочешь привести этот мир в порядок.
– Но я не знал, что мне придется устраивать презентацию!
– Так что, слайдов у тебя нет? И вообще никаких наглядных материалов?
– Они меня только тормозят, – сказал Ринсвинд. – Но это же очевидно, разве нет? Мы говорим: видеть значит верить… Я над этим задумался, и оказалось, что это не совсем так. Мы не верим в стулья. Они просто существуют, и все.
– Ну и что? – спросил Чудакулли.
– Мы не верим в то, что видим. Мы верим в то, чего не видим.
– И?
– И я сверился с Б-пространством насчет этого мира и выяснил, что, кажется, мы создали тот мир, в котором люди должны выжить, – сказал Ринсвинд. – Потому что теперь они могут изображать богов и монстров. А когда они могут их изображать, им больше не понадобится в них верить.
Наступило продолжительное молчание. Через некоторое время его нарушил заведующий кафедрой беспредметных изысканий:
– Мне показалось или вы тоже заметили, сколько огромных кафедральных соборов они построили на этом континенте? Больших-пребольших зданий, полных замечательных мастерских работ? И художники, которые нам встречались, были страстно увлечены религиозной живописью.
– А суть-то в чем? – спросил Чудакулли.
– Я к тому, что это происходит именно тогда, когда людям становится по-настоящему интересно, как устроен мир. Они задают больше вопросов: «как?» «почему?» и тому подобные, – ответил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. – Они ведут себя так же, как Фокиец, только не сходят с ума. Ринсвинд, кажется, намекает на то, что мы уничтожаем местных богов.
Волшебники посмотрели на него.
– Э-э… – продолжил он, – если вы думаете, что бог огромен, могуч и вездесущ, то вполне естественно его бояться. Но если кто-то вдруг нарисует его в виде бородатого старика на небесах, то не пройдет много времени, прежде чем люди скажут: «Не глупите, никакого бородатого старика на небесах быть не может, давайте лучше изобретем логику».
– А разве здесь не бывает богов? – спросил профессор современного руносложения. – У нас-то их полным-полно на вершинах гор.
– Мы так и не обнаружили богород в этой вселенной, – задумчиво ответил Думминг.
– Но он же вырабатывается разумными существами, аналогично тому, как метан выделяется коровами, – сказал Чудакулли.
– Во вселенной, работающей на магии, – разумеется, – пояснил Думминг. – Но эта основана на искривленном пространстве.
– Ну, здесь полно войн, смертей и, полагаю, в избытке верующих, – сказал заведующий кафедрой беспредметных изысканий, который, похоже, ощущал крайнюю неловкость. – Когда тысячи людей умирают ради бога, то появляется бог. Если кто-то готов умереть ради бога, то опять-таки появляется бог.
– У нас да. Но так ли это здесь? – спросил Думминг.
Волшебники какое-то время помолчали.
– У нас из-за этого возникнут какие-либо неприятности с религией? – спросил декан.
– Пока никого из нас не ударило молнией, – заметил Чудакулли.
– Что правда, то правда. Был бы еще менее… э-э… необратимый способ это проверить, – проговорил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. – Э-э… Религия, преобладающая на этом континенте, напоминает семейную фирму. И она похожа на старое омнианство.
– Строга в наказаниях?
– В последнее время нет. Теперь она равнодушна к небесному огню, всемирным потопам и превращениям в пищевые добавки.
– Можешь не продолжать, – сказал Чудакулли. – Бог появляется на людях, дает список простых заповедей о морали, а потом как будто наступает тишина? Не считая миллионов людей, спорящих по поводу того, что означает «Не укради» и «Не убий».
– Все верно.
– Значит, это один в один как омнианство, – хмуро проговорил аркканцлер. – Шумная религия – молчаливый бог. Мы должны действовать осторожно, джентльмены.
– Но я же вам сказал: в этой вселенной нет ни одного явного следа какого-либо божественного создания! – сказал Думминг.
– Да, это очень странно, – ответил Чудакулли. – Как бы то ни было, здесь у нас нет магической силы, что вынуждает нас быть осторожными.
Думминг приоткрыл рот. Он хотел сказать: «Мы знаем все об этом мире! Мы сами видели, как он возник! Это просто шары, вращающиеся по кривым. Материя, искривляющая пространство, и пространство, перемещающее материю. Все происходящее здесь – это результат пары простых правил! И все! Здесь все происходит по правилам! Здесь все… логично».
Сам он хотел, что все было логичным. Но Плоский мир таким не был. Одни события происходили там по прихоти богов, другие – потому что казались хорошей идеей на тот момент, третьи – просто по чистой случайности. Но логики в них не было – по крайней мере такой логики, которую Думминг мог бы одобрить. Он одолжил простынь у доктора Ди и отправился в город под названием Афины, о котором постоянно рассказывал Ринсвинд. Там он слушал людей, не очень отличавшихся от философов из Эфеба, которые говорили о логике так хорошо, что у него наворачивались слезы. Они не жили в мире, где события случаются по чьей-то прихоти.
Все тикало и вращалось подобно гигантской машине. Здесь действовали правила, и все было одинаковым. Даже на звезды, которые появлялись каждую ночь, всегда можно было положиться. Планеты не исчезали из-за того, что подлетали слишком близко к плавнику и тот отбрасывал их далеко от солнца.
Никаких проблем, никаких сложностей. Пара простых правил, горстка элементов… Все предельно просто. Конечно, стоит признать, ему было тяжеловато понять, как именно пара простых правил может произвести, скажем, перламутровый блеск или гребенчатого дикобраза, но он был уверен, что местные это понимали. Ему отчаянно хотелось верить в мир логики. Для него это был вопрос веры.
Он завидовал тем философам. Они кивали своим богам, а потом постепенно их уничтожили.
Думминг вздохнул.
– Мы сделали все, что могли, – произнес он. – Какой у тебя план, Ринсвинд?
Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса.
– Гекс, этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?
– Готов.
– А он существует?
– Нет. Его дед и бабка не встретились, и мать не родилась.
Глухой голос Гекса во всех подробностях передал им печальную историю. Волшебники за ним конспектировали.
– Верно, – сказал Чудакулли, потирая руки, после того как Гекс закончил. – По крайней мере, это несложно. Нам понадобится веревка, кожаный мяч и большой букет цветов…
Позже Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса.
– Гекс, а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?
– Готов.
– А он существует?
– Существует Виолетта Шекспир. В шестнадцать лет она вышла замуж за Иосаю Слинка. Не написала ни одной пьесы, но родила восьмерых детей, из которых пятеро остались в живых. У нее совершенно нет свободного времени.
Волшебники обменялись взглядами.
– А если мы напросимся в нянечки? – предложил Ринсвинд.
– Слишком много хлопот, – решительно отверг идею Чудакулли. – Хотя в этот раз все действительно просто. Нам понадобится предположительная дата зачатия, стремянка и галлон черной краски.
Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса.
– Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?
– Готов.
– А он существует?
– Он родился, но умер в возрасте восемнадцати месяцев. Подробности таковы…
Волшебники все выслушали. Чудакулли на минуту задумался.
– Нам потребуется дезинфицирующее средство, – наконец сказал он. – И много карболового мыла.
Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса.
– Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили?
– Готов.
– А он существует?
– Нет. Он родился, успешно перенес несколько детских заболеваний, но был застрелен во время браконьерской охоты в возрасте тринадцати лет. Подробности таковы…
– Еще один легкий случай, – сказал Чудакулли, вставая. – Нам понадобится… дайте подумать… немного неприметной одежды, потайной фонарь и здоровая дубина…
Ринсвинд вгляделся в стеклянный шар, служивший текущим воплощением Гекса.
– Гекс, ну а теперь этот мир готов принять Уильяма Шекспира, о котором мы с тобой говорили? Ну пожалуйста!
– Готов.
– А он существует?
– Да.
Волшебники старались не выдавать своих надежд преждевременно. За последнюю неделю слишком многие их ожидания не сбылись.
– Живой? – спросил Ринсвинд. – Мужчина? Нормальный? Не в Америке? На него не падал метеорит? Он не остался инвалидом после того, как на него свалился хек во время рыбного дождя? Его не убили на дуэли?
– Нет. В настоящий момент он находится в таверне, которую вы часто посещаете, джентльмены.
– А руки-ноги у него целы?
– Да, – ответил Гекс. – И… Ринсвинд.
– Что?
– Одним из двух побочных эффектов последнего вмешательства стало появление картошки в этой стране.
– С ума сойти!
– А Артур Дж. Соловей занимается сельским хозяйством и не обучен грамоте.
– Чуть-чуть ему не повезло, – сказал Чудакулли.
Глава 28
Миры «если»
Придумав секретное оружие, чтобы победить эльфов в борьбе за душу Круглого мира, волшебники старательно перекраивают историю, чтобы убедиться, что оно действительно воплотится в жизнь. И имя этому оружию – Уильям Шекспир. От Артура Дж. Соловья здесь толку не будет. Они идут к своей цели методом проб и ошибок – причем и тех и других в избытке. Тем не менее, им удается постепенно, шаг за шагом, склонить ход истории к желанному исходу.
Черная краска? Возможно, это суеверие вам известно; если же нет, то его смысл в том, что, если окрасить черным потолок на кухне, обязательно должен родиться мальчик[79]. Волшебники перепробуют все. Сначала. А не сработает – попробуют еще что-нибудь и будут пробовать до тех пор, пока это не приведет к определенному результату.