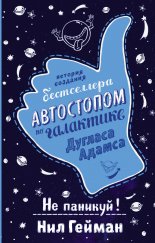Литературный призрак Митчелл Дэвид

Пара ворон прогуливается вдоль насыпи, напомнив мне двух старух в черных плащах с капюшонами, которые вышагивали по берегу. Обе дружно посмотрели на меня.
Жужжание и гудение ветряной турбины становится громче по мере нашего приближения. Если каждый оборот творит новый день, новый год, новую вселенную, а тень лопастей — коса антивещества, то…
Я едва не наступила на что-то черное, облепленное мухами.
— Тьфу ты!
— Что там? — спросил Джон. — Коровья лепешка?
— Нет. Дохлая крыса, половина мордочки отъедена.
— Очень мило.
Фигура незнакомки у подножия скалы. Идет по тропинке, глядя в бинокль. Я ничего не говорю Джону.
— О чем ты думаешь, Мо?
— В Гонконге на моих глазах умер человек.
— Отчего?
— Не знаю. Упал совсем близко от меня. Сердечный приступ, наверное. Там на дальнем острове есть большой серебристый Будда. Рядом стоянка туристских автобусов. Туда ведет лестница с площадками для отдыха. Я купила миску лапши и потихоньку слопала ее, пока поднималась наверх. А он упал передо мной. Совсем молодой еще человек. И знаешь, у него на лице была улыбка. Почему я сейчас вспомнила о нем? Наверное, из-за этой большой серебристой штуковины на холме.
Я лежу в углублении каменной могильной плиты, свернувшись калачиком, как эмбрион.
Укрыта от ветра. Приложи ухо к ракушке времени, Мо. Этот могильный камень лежит здесь три тысячи лет. Представим, что я тоже. Никто не может объяснить, каким образом древние кельты, не знавшие железных орудий, умудрились в гранитной плите выдолбить саркофаг для погребения вождя. Никто не может объяснить, как они умудрились притащить сюда из Блананаррагауна эту плиту размером с двуспальную кровать.
Волосатые ноги Джона маячат перед глазами.
Дальше — поросшие травой дюны, похожие на волны, за ними — барашки пены, которые скачут на бурунах. За бурунами — волны, всех цветов и оттенков, похожие на сон спящего великана.
Детьми мы испытывали друг друга на храбрость: нужно было провести здесь ночь. Народное поверье гласит, что человек, который провел ночь в могильнике у Киарана, станет либо вороном, либо поэтом. Дэнни Уэйт провел здесь ночь, но стал механиком и женился на дочери мясника из Балтимора.
Я протягиваю руку и щекочу Джона под коленкой. Он вскрикивает.
— Знаешь, Каллин, а я бы не прочь превратиться сейчас в ворону. Прекрасный выход из положения. Представляешь? «Мне очень жаль, мистер Техасец. Мо Мантервари с удовольствием помогла бы вам с новым оружием, но она полетела за дождевыми червями к ужину».
— И я бы хотел стать вороной. Только не слепой. Слетал бы к этому ветряку. Давай вылезай оттуда. Лежать в могиле — довольно зловещее развлечение.
— Тут происходили и более зловещие события. Я помню, Уэлан Скотт рассказывал, что здесь служили черные мессы.
— Что такое черная месса?
— Ничего-то вы, городские пижоны, не знаете. Это католическая месса, которая читается задом наперед. Человек, по которому отслужили черную мессу, должен умереть до середины следующей зимы.
— Держу пари, эта байка имела большой успех у отца Уолли.
— Только Папа Римский может отпускать такие грехи.
— Удивительно, что ты стала ученым, хотя выросла здесь.
— Потому я и стала ученым, что выросла здесь.
Даже время подвластно времени. Когда-то люди обращали внимание только на ритмы планеты — холодное время года, теплое время — и собственного тела — время спать, время бодрствовать. Первые обитатели острова отмечали время четыре раза в году — летнее и зимнее солнцестояния, осеннее и весеннее равноденствия, — чтобы не начать сев слишком рано или слишком поздно. С приходом христианства появились воскресенья, праздники Рождества и Пасхи, началась дележка календаря между всевозможными святыми. Вместе с англичанами появились сроки аренды и сроки уплаты налогов. Железная дорога сделала важнейшим отрезком времени час. Спутниковое телевидение передает шестичасовые новости по всему миру в один и тот же момент времени — ровно в шесть часов. Сегодня наука расщепляет не только материю, но и время на все более малые дольки. В «Лайтбоксе», когда я исследовала сверхпроводимость, мне доводилось иметь дело с мгновениями, которых в секунде 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.
Но измерить скорость течения времени так же невозможно, как разлить время по бутылкам. Часы измеряют произвольные отрезки времени, но не его скорость. Никто не знает, ускоряется время или замедляется. Никто понятия не имеет, сколько времени протекает за сутки. Не сколько часов, минут, секунд, а сколько времени в сутках?
Вот в этих сутках, например?
— Как будем раскладывать сэндвичи, Мо?
— Ветчина и сыр, ветчина и помидор, сыр и помидор.
— А еще ветчина, сыр и помидор.
— Откуда ты знаешь?
— Ты всегда раскладываешь бутерброды всеми возможными способами.
— Разве?
— Потому я и женился на тебе.
Я вспоминаю про кусочек мяса, который дала мне Мейси. Вынимаю его из фольги и, не поддавшись искушению засунуть его в рот, натираю им бородавку.
— Погоди немного, Джон. Мне нужно схоронить кусочек мяса.
— Лечишься по рецепту Мейси? Давай-давай, я не подглядываю, честное скаутское.
- Встану я, и пойду, и направлюсь на Иннисфри,
- И дом построю из веток, и стены обмажу глиной;
- Бобы посажу на лужайке, грядку, две или три,
- И в улье рой поселю пчелиный[83].
— Вот уже целых полчаса я совсем не думаю о физике.
— Старый добрый остров творит чудеса. Никого не видно поблизости?
— Ни души. Похоже, тут только мы. Разве что с Луны на нас смотрят. Да эти ноаковские коровы.
— Тогда прильни к моей груди, красотка пышногрудая, дитя родной земли!
— Тоже мне скажешь — пышногрудая! Джон Каллин…
Мы покидаем «Лесовика» уже перед самым чаем. Джон, Планк и я идем в «Игаган» пешком. Лайам крутит педали горного велосипеда.
— И кто тебя научил так держать выпивку? — спрашиваю у него.
— Папа.
— Злостная клевета, — возмущается Джон.
Мы бредем, поддерживая друг друга. Из нас троих только Планк в состоянии идти ровно.
— Старый добрый закат сегодня из ряда вон, пап, — говорит Лайам.
— Какого он цвета?
— Красного.
— Какого красного?
— Как арбузная мякоть.
— О да. Это октябрьский красный. Действительно, такие закаты бывают редко.
Джон садится на камень у ворот подышать воздухом, я оставляю с ним Планк. Дерн истоптан копытами и покрыт кротовинами. Лайам проехал вперед, чтобы покормить Шредингера.
Сад стал похож на маленький лес. Я угадала — крыша обвалилась. Пытаюсь нащупать ногой былую дорожку. Чьи глаза смотрят на меня через мутное стекло? Шуршит плющ, увивший все стены. В доме что-то стукнуло и шлепнулось. Кто тут обосновался — совы, кошки, летучие мыши или двуногие?
— Привет! — говорю я, поднявшись на крыльцо с зияющим проемом вместо двери. — Есть тут кто?
Когда с папой случился сердечный приступ, он упал здесь, именно на этом крыльце, перед дверью. С полным самообладанием человека, который знает наперед, что случится, мама велела мне присмотреть за ним, а сама поехала на велосипеде в порт за доктором Маллаганом.
Папа что-то хотел сказать мне. Я наклонилась пониже. Он говорил с огромным трудом, как будто грудь ему завалило булыжниками.
— Мо, будь сильной. Понимаешь? Учись как следует. Ирландских корней не забывай. Помни, кто ты есть.
— Пап, ты что, умираешь?!
— Да, детка. Это интересное путешествие, поверь мне.
Когда-то это был маленький аккуратный домик, в нем всегда пахло чистотой, свежей штукатуркой и свежей побелкой. Однажды летом папа своими руками выложил кровлю черепицей, ему помогали парнишки Доигов, отец Уолли и Габриэль Фитцморис, который утонул в октябре того же года. А старую соломенную крышу мы подожгли, устроив гигантский костер на берегу.
Но любая система стремится от упорядоченности к хаосу. Мы с мамой уехали с острова, поселились у тетушек на большой земле, и за работу принялись штормовые ветры да древесные жучки. Жители острова еле успевали ремонтировать собственные дома. Мама не выдержала встречи с призраками, ушла в свой мир, предоставив нам самим разбираться с этим, кто как может.
Тонкие деревца тянутся сквозь крышу к лунному свету. Показались первые звезды.
— Мо! Все в порядке? — окликает Джон у ворот.
Нет, никакого послания здесь для меня нет.
— Да, — кричу я в ответ, застегиваю куртку и спускаюсь с крыльца.
Джон зевает и потягивается, чтобы проснуться. Ласковый день, в котором еле-еле угадывается холодок зимы. Опять тарахтят вертолеты.
— Как спалось, дорогой?
Джон по голосу понимает, когда человек улыбается.
Он проводит языком по губам, расклеивая их.
— Хорошо. Мне приснился сон. Я плыву по какому-то мелкому морю в районе Панамы. С чего я взял, что это Панама? Но точно знаю, что Панама. Под водой виден свет, и там плавают пушистые облака. Я думаю: «Что за чушь? Под водой не бывает облаков». Всматриваюсь получше и вижу, что облака — это на самом деле медузы, разноцветные, как лампочки на рождественской елке, и мигают.
— Красивый сон.
— В трех случаях я не чувствую себя слепым. Когда показываю приезжим Клир-Айленд, когда обыгрываю отца Уолли в шахматы и еще когда вижу цветные сны… Мо?
— Да, Джон?
— Сегодня, Мо?
Хью говорил мне, что человек всегда просыпается за несколько секунд до землетрясения.
— Да, сегодня.
Я поступаю определенным образом в отношениях с Джоном, Техасцем, Хайнцем Формаджо потому, что я есть то, что я есть. А почему я есть то, что я есть? По тому что таково сочетание атомов, свивающих двойную спираль моей ДНК. Что побуждает ДНК к изменениям? Субатомные частицы, сталкивающиеся с ее молекулами. Эти частицы бомбардируют планету, вызывая мутации, которые приводят к появлению древнейших форм жизни, и далее от одноклеточных к медузам, от медуз к гориллам, а от них уже рукой подать до нас: до председателя Мао, Иисуса, Нельсона Манделы, до Его Провидчества и Гитлера, до вас и до меня.
Эволюция и история — бильярд элементарных частиц-волн.
Лайам входит и сразу достает бутылку молока из холодильника.
— А может, они решили оставить тебя в покое, ма?
— Может, Лайам.
— Нет, правда. Если б они хотели тебя забрать, они бы уже наверняка были здесь.
— Пожалуй.
— А если так, ты ведь можешь работать в Корке, на факультете? Правда, пап?
— Так-то оно так. Ректор на коленях благодарил бы маму, — говорит Джон как можно мягче. — Но…
— Ну вот, мам, значит, решено.
Ах, Лайам, Лайам. Больше всего Бог злится, когда цыплят начинают считать раньше осени…
Транссибирский экспресс мчался по Северному Китаю, углубляясь в лес, в уютные сумерки. Я по-прежнему играла с матричной механикой, но пока без всякого результата. Я билась над проблемой от самого Шанхая и, похоже, топталась на месте.
— Не возражаете, если я составлю вам компанию?
Вагон-ресторан пуст, все места свободны. Вряд ли мы знакомы с этой молодой женщиной.
— Меня зовут Шерри, — представляется она с австралийским акцентом и ждет моего ответа.
— Очень приятно. Садитесь. Отодвину только свои бумажки…
— Это у вас, значит, математика?
Странно, что столь молодая женщина, как она, хочет общаться с такой немолодой, как я. Ну и что, мы обе вдали от родных краев, от родного языка, не спеши с подозрениями, Мо.
— Да, я учительница математики. Какая у вас толстая книга!
— «Война и мир».
— Да, этого хватает. Особенно первого.
Полуголый китайский карапуз бежит вдоль вагона и гудит, подражая то ли лошади, то ли вертолету.
— Простите, я не расслышала вашего имени.
Вспышка подозрительности. Мо, брось. Она всего лишь непосредственна, как ребенок.
— Меня зовут Мо. Мо Смит.
Мы пожимаем друг другу руки.
— Шерри Коннолли. Вы до конца, до Москвы, или сойдете по дороге?
— Прямиком до Москвы, а дальше — Петербург, Хельсинки, Лондон, Ирландия. А у вас какие планы?
— Я хочу побыть в Монголии.
— Долго?
— Пока снова не потянет в путь.
— Рады, что покинули Пекин?
— Рада, что покинула свое купе! Там двое пьяных австралийцев соревнуются в сквернословии. У меня такое впечатление, будто я не уезжала из дома. Мужчины бывают невыносимы.
— Хотите поменять купе? Наша проводница уступчивая. Подкуплю бабушку бутылкой китайского виски.
— Нет, спасибо. У меня пятеро братьев, мы росли вместе, так что с парочкой шведов справлюсь. К тому же до Улан-Батора осталось всего тридцать шесть часов. К тому же на нижней полке едет здоровенный симпатичный датчанин… А вы, Мо, тоже путешествуете одна?
— Я? Совсем одна.
Шерри сочувственно посмотрела на меня.
— О нет, слава богу, не в этом смысле! Вообще у меня есть и муж, и почти взрослый сын, но они дома.
— Наверно, скучают без вас. А вы — без них.
Бесспорное заключение.
— Да, вы правы.
— Послушайте, у меня есть банка китайского растворимого чая с лимоном. Выпьем по чашечке? Настоящий Маккой.
Приятно снова разговаривать на родном языке.
— С удовольствием.
Мы болтали до самой монгольской границы, где у поезда поменяли колеса: старая советская колея имеет другую ширину. Я ощутила всю степень своего одиночества.
Не знаю, может, подействовал чай Шерри, но только, когда я бросила взгляд в черную тетрадь, я сразу увидела ответ, который так долго искала: константа Требевича выводит из тупика. Мо, ты идиотка. Мне казалось, я сидела не так уж долго, пока не заметила, что в вагоне-ресторане заступила утренняя смена.
Острова, города, леса, все осталось позади. Заря занималась над бескрайними равнинами Центральной Азии. Я — истерзанная сомнениями, уставшая, немолодая женщина-физик с неопределенным будущим, но я наконец вступила в область, где до меня не бывал еще никто. Я поплелась к себе в купе и проспала целый день.
Житейская мудрость приписывает доктору Франкенштейну грех гордыни.
Я не думаю, что он возомнил себя богом. Просто он был ученым до мозга костей.
Разве могут ядерная физика, генная инженерия, квантовое распознавание быть добрыми или злыми? О технологии можно сказать только одно: работает она или не работает. А для чего работает — это уже совсем другой вопрос.
Доктор Франкенштейн сбежал, бросил свое создание, и в этом его вина. Его детище оказалось во власти людей, которые поступили так, как всегда поступают невежды: улюлюкают и закидывают каменьями. А если бы добрый доктор обеспечил свое творение средствами самозащиты, механизмами адаптации и выживания, то, возможно, удалось бы спасти множество средневековых жизней, и трансплантология возникла бы на пару веков раньше.
Я вижу, Мо, куда ты клонишь. Но разве можно научить машину распознавать добро и зло? Противостоять злоупотреблениям?
Вот же она, черная тетрадка. Если «Красп» не способен к распознаванию, пусть получит другое название.
Телефон зазвонил, когда я разбивала яйцо. Джон берет трубку — ему ближе.
— Билли?
Он долго молчит.
— Поня-я-тно, — наконец тянет Джон и кладет трубку.
Так я и знала. Плохие новости.
— Это Билли из Балтимора. В «Мартышке с барабаном» он видел трех американцев, похожих на «Братьев Блюз»[84]. У «Святого Фахтны» загадочные неполадки с мотором, так что утром его можно не ждать, но к вечеру он точно вернется: у Дэнни Уэйта кончается инсулин, а погода до конца недели не улучшится.
Вот и вонзилась лопата в землю, сквозь камешки и дерн, рубит корни.
— Ма! — Лайам хватает меня за руку. — Мы должны тебя спрятать!
Планк залаяла. В дверь постучали. Неужели все?
Лайам тащит меня подальше от двери.
— Кто там? — спрашивает Джон.
— Это я, Брендан Миклдин!
Не утро, а сцена из боевика. Вваливается запыхавшийся Брендан, с ним врывается свежий, морозный воздух.
— Мо, Билли сказал мне, что янки близко. Мы можем переправить тебя в Скалл на лодке Ройшин. Оттуда моя свояченица отвезет тебя в Баллидехоб. А дальше…
Я остановила его жестом:
— Откуда? Откуда вы знаете?
— На Клир-Айленде своих не дают в обиду! — Брендан повышает голос, что странно слышать. — Сейчас не время толковать: откуда знаем, да кто сказал, да все такое. Лодка стоит наготове!
Представляю себе свое возможное будущее. Я пускаюсь в бегство: взгляды украдкой из окна такси, низко опущенный зонтик, высоко поднятая перед лицом газета, и так до самого Белфаста. А дальше что? Если не догонят, если смогу добраться до Белфаста — опять переправлюсь на континент, затаюсь в какой-нибудь бедной стране, все это время лелея у сердца единственную схему компьютера новой земли.
Мо, что привело тебя к этому?
Тишина, все ждут.
Джон, откашлявшись, спрашивает:
— Что будем делать?
Нужно решать, родная.
— Спасибо, Брендан. На общественном транспорте Республики Ирландия от Пентагона не убежишь. Пора с ним встретиться лицом к лицу. Вот что я считаю.
Брендан достает свой противоастматический ингалятор, встряхивает и делает несколько вдохов.
— Ну, мы с Габриелем и мальчиками покажем этим янки, кто чего стоит.
Меня переполняют страх, возбуждение, любовь.
— Нет! Ни в коем случае, — говорю я. — Не нужно ни драться, ни бежать.
Лайам спрашивает, помрачнев:
— Так что ты будешь делать, ма?
Я отвечаю как можно спокойнее:
— Собирать вещи.
Квантовая физика говорит на языке вероятности в терминах неопределенности. Если мы знаем положение электрона, то неизвестно направление его движения и местонахождение на момент регистрации измерения. Джон потерял зрение. А если мы определяем направление движения электрона, тогда неизвестно его положение. Хайнц Формаджо из «Лайтбокса» прочитал мои белфастские статьи и пригласил на работу. Частицы, образующие атомы мозга того молодого человека, который вытолкнул меня из-под такси в Лондоне, сложились таким образом, что он оказался в тот момент в том месте, захотел это сделать, сумел это сделать. Даже самая полная информация о радиоактивном атоме не позволяет нам предсказать момент его распада. Я не могу предсказать момент появления Техасца на острове. Где заканчивается микромир и начинается макромир? Границы не существует.
Лайаму приходится нагибаться, чтобы не задеть головой потолочные балки в спальне Джона. В нашей с Джоном спальне. Я помню тот день, когда он впервые сам вскарабкался сюда по лестнице, ступенька за ступенькой, задрав попу, и выражение лица было как у Эдмунда Хиллари[85].
— Лайам, ты?
— А бородавка-то сошла, мам!
— Вот именно! И кто скажет, что это глупости?
— Ма! Не можем же мы сдаться без боя!
— Именно для того я и иду. Чтобы не было драки.
— Ты говорила, что «Красп» переносит военные технологии на пятьдесят лет в будущее!
— Это было полгода назад, в «Лайтбоксе». Я недооценивала «Красп».
— Не понимаю.
Черная тетрадка лежит на комоде.
— А что, если «Красп» окажется настолько мощным, в этическом смысле, что сможет предотвратить злоупотребления? Что, если «Красп» возьмет на себя функцию… как бы это сказать… смотрителя зверинца?
— Я тебя не понимаю. Каким образом?
Мужчины что-то обсуждают внизу, на кухне.
— Человеческий род обречен либо исчезнуть лет через пятьсот, либо… стать лучше. Технический прогресс вырвался из-под нашей власти, он обгоняет нашу способность управлять им. Но предположим, давай предположим, что «Красп» сам в состоянии контролировать себя, тогда…
Господи, как это звучит со стороны?
— Лайам, по-твоему, я сошла с ума?
У берега в один голос заблеяло стадо овец. Лицо Лайама застыло, как на портрете, и вдруг озарилось улыбкой.
— Мам, а что, если подсунуть им черную тетрадку, чтобы они от тебя отвязались?
Лайам — смышленый мальчик.
— Ах да! Черная тетрадка.
«Нортон» Реда Килдара с треском врывается во двор и резко тормозит перед входом. Гейзенберг закукарекал и взлетел на телеграфный столб, где для него есть жердочка.
— Это Ред, — поясняет Джон. — Приехал подоить Фейнман.
Ред входит на кухню.
— Они вычислили тебя, Мо. Как насчет чайку?
И Ред кладет на стол пакет с карамельками.
— Неужели каждая живая душа на острове знает о моих разногласиях с американцами?
— На острове секрет можно спрятать от дальних, но не от ближних. Не стоит волноваться. Американцы воображают, что могут купить все на свете. Может, они просто хотят поднять цену.
Джон вздохнул.
— Ну, Ред, я слепой, но если ты думаешь, что эта публика явилась, только чтоб потолковать насчет условий работы, то я по сравнению с тобой просто телескоп Хаббла.
Ред пожал плечами и закинул в рот карамельку.
— Тогда дело дрянь. А если дело дрянь, остается только одно.
— И что?
— Пойти в «Лесовика» и выпить.