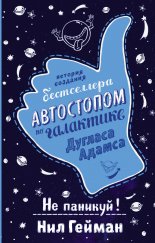Литературный призрак Митчелл Дэвид

Окинава
Кто там дышит мне в затылок?
Оборачиваюсь. С шипением съезжаются створки тонированных стеклянных дверей. Ярко светит солнце. На залитой светом автостоянке ни малейшего движения. Вдали шеренга пальм и ярко-синее небо. В пустом фойе слегка покачиваются листья искусственных папоротников, вверх-вниз.
— Простите, господин?..
Поворачиваюсь обратно. Дежурная все еще ждет, протягивая авторучку. Улыбка сидит безупречно, как и униформа. Сквозь пудру на ее лице различаю поры, сквозь негромкую музыку в фойе слышу тишину, сквозь тишину — фон в колонках.
— Кобаяси. Я недавно звонил из аэропорта. Забронировал номер.
Покалывание в ладонях. Мелкие колючки.
— О да, господин Кобаяси…
А что, если она не поверит? Нечистые часто регистрируются в отелях под вымышленными именами. Чтоб предаваться блуду с иностранцами.
— Будьте добры, господин Кобаяси, впишите имя и адрес… Сюда и сюда… И укажите профессию.
Показываю забинтованную руку:
— Боюсь, вам придется заполнить анкету за меня.
— Конечно, конечно! Как это случилось?
— Зажало в дверях.
Она сочувственно содрогается и разворачивает бланк к себе.
— Ваша профессия, господин Кобаяси?
— Инженер-программист. Пишу софт по заказам разных компаний.
Она хмурится. Я не вписываюсь в ее анкету.
— Значит, у вас нет постоянного места работы?
— Впишите компанию, на которую я работаю в настоящее время.
С этим проблем не возникнет. Технический отдел Братства устроит любое подтверждение.
— Прекрасно, господин Кобаяси. Добро пожаловать в отель «Сад Окинавы».
— Благодарю.
— Цель вашего приезда — бизнес или туризм, господин Кобаяси?
Нет ли двусмысленности в ее улыбке? Подозрительности во взгляде?
— Всего понемногу, — отвечаю, голосом воздействуя на альфа-волны.
— Надеюсь, пребывание у нас доставит вам удовольствие. Вот ключ. Если возникнут затруднения, господин Кобаяси, обращайтесь. Мы вам охотно поможем.
Вы? Мне?!
— Благодарю.
Нечистота, нечистота. Эти окинавцы никогда не были чистокровными японцами. Другие предки, пожиже. Направляясь к лифту, спиной чувствую — экстрасенсорное восприятие работает, — что она усмехается. Она бы не усмехалась, если б знала, с кем имеет дело. Ничего, придет время — узнает. И все остальные тоже.
Огромный отель — и в полдень не видно ни души. Безмолвные коридоры тянутся вдаль, пустынные, как катакомбы.
В номере нечем дышать. В Прибежище запрещено пользоваться кондиционерами — они отрицательно влияют на альфа-волны. Из солидарности с братьями и сестрами я отключил кондиционер. Окно открыл, но шторы задернул. Кто знает, чей телеобъектив берет меня в этот самый момент на прицел.
Выглянул из окна — солнце ударило в глаза. Наха — бедный, уродливый город. Если бы не аквамариновая полоска Тихого океана вдали, вполне сошел бы за очередное щупальце Токио. Обычная красно-белая вышка с телепередатчиком, который на частотах, воздействующих на подсознание, транслирует правительственную программу промывания мозгов. Обычные здания супермаркетов, возвышающиеся, будто храмы без окон, маскируя нечистоту великолепием. Промышленные районы. Фабрики, отравляющие воду и воздух. Выброшенные холодильники на пустырях и помойках. Ох уж эти их города — рассадники мерзости и нечистоты! Я провижу Новую землю: могучая длань как метлой сметет скверну смердящую и вернет мир в девственное состояние. А затем Братство построит Град, достойный уцелевших, и они будут беречь его, как зеницу ока, во веки веков.
В ванной после омовения пристально рассматриваю свое лицо в настенном зеркале. Ты, Квазар, один из тех, кому предстоит уцелеть. Резкие черты — наследие предков-самураев. Четкие брови. Орлиный нос. Квазар, провозвестник. Его Провидчество в своей прозорливости избрал меня. Моя миссия — просиять на пороге царства верных. Одинокая вспышка во тьме кромешной. Предвестник.
Жужжит вентилятор. Сквозь жужжание слышится плач ребенка. Девочки. Да, много слез проливается в этой юдоли греха. Приступаю к бритью.
Проснулся рано и долго не мог сообразить, где нахожусь. Мой сон, как мозаика, рассыпался на куски. Среди них мелькнул мой биологический отец. Еще там были господин Икэда, воспитатель старших классов, и пара-тройка придурков похуже. Помню день, когда эти придурки подговорили класс считать меня мертвым. К полудню забавлялась уже вся школа. Все притворялись, что не видят меня. Когда я заговаривал, делали вид, что не слышат меня. Новость дошла до господина Икэды, и что же он сделал, этот уполномоченный обществом пестун юных душ? Сукин сын перед отбоем устроил мне отпевание. Размахивал кадильницей и распевал молитвы, и все такое.
Пока Его Провидчество не вдохнул в меня жизнь, я был беспомощен. Я надрывался от плача, умолял их прекратить, но никто не видел меня и не слышал. Я был мертв.
После пробуждения обнаружил, что тело осквернено эрекцией. Очень уж много гамма-волн наложилось. Медитировал на портрет Его Провидчества, который всегда при мне, пока не прошло.
Что ж, если нечистым так хочется похорон, они их получат в избытке — во время Белых Ночей, накануне того, как Его Провидчество явится и провозгласит свое царствие. Похороны, на которых не будет скорбящих.
Я шел по Кокусай-дори, главной улице города, петляя и путая следы, чтобы сбить с толку ищеек. К сожалению, мой альфа-потенциал еще слабоват, становиться невидимым пока не могу и вынужден отделываться от преследователей допотопными способами. Убедившись, что за мной нет хвоста, я нырнул в игровой центр, чтобы позвонить из телефонной будки. Телефон-автомат гораздо труднее засечь.
— Брат! Говорит Квазар. Пожалуйста, соедини с министром обороны.
— Да, брат. Министр ждет. Позволь поздравить тебя с успешным выполнением задания.
Прошло несколько минут. Министр обороны — любимец Его Провидчества. Он окончил Императорский университет. До того как услышать зов Его Провидчества, работал судьей. Он прирожденный лидер.
— А, Квазар! Отлично. Как самочувствие?
— Как всегда, прекрасно — я ведь на службе у Его Провидчества. И аллергия прошла, вот уже девять месяцев не было ни одного…
— Мы очень довольны тобой. Его Провидчество высоко ценит силу твоей веры. Крайне высоко. Сейчас Он в уединении, медитирует на тебя. Только на тебя, чтобы укрепить твой дух и придать тебе сил.
— Министр! Умоляю, передайте Ему, что я бесконечно благодарен!
— С удовольствием. Но ты заслужил такое внимание. Идет война с мириадами нечистых, и подлинное мужество не останется без одобрения и награды. И еще. Сейчас тебе нельзя вернуться в семью, нужно переждать какое-то время. Я понимаю, ты огорчен. Кабинет министров считает, что семи дней будет достаточно.
— Слушаюсь, министр. — Я низко склоняю голову.
— Ты смотрел новости по телевизору?
— Министр, я сторонюсь лжи государства нечистых. «Зачем змее вслушиваться в голос своего заклинателя?» Пусть сейчас я вне стен Прибежища, но наставления Его Провидчества запечатлены в моем сердце. Представляю, какое осиное гнездо мы разворошили!
— Вот именно! Все только и твердят про террористов, показывают кадры, где у нечистых идет пена изо рта. Бедных животных почти жаль. Почти. Только они, как и предрекал Его Провидчество, совершенно забыли, что на их головы пали их же собственные грехи. Квазар, ты вправе гордиться собой — ты был избран одним из вершителей правосудия. Священное откровение номер тридцать девять гласит: «Гордость жертвоприношением не есть грех, но заслуженное самоуважение». И все-таки держись незаметно. Смешайся с толпой. Осмотри достопримечательности. Надеюсь, денег у тебя достаточно?
— Казначей был щедр, а мои потребности скромны.
— Ну вот и хорошо. Через семь дней свяжись с нами. Все члены Братства с нетерпением ждут возвращения своего возлюбленного брата, чтобы раскрыть ему объятия.
Я вернулся в отель для полуденного омовения и медитации. Поел крекеров, орешков кешью, немного салата из водорослей и запил зеленым чаем — автомат для продажи напитков стоит рядом с моей комнатой. После обеда взял у нечистой дежурной в фойе карту и выбрал достопримечательность, которую стоит осмотреть.
Штаб-квартира японской военно-морской базы расположена севернее Нахи, под поросшим невысокими деревьями холмом, с которого открывается вид на город. Во время войны штаб-квартира была так хорошо укрыта, что только через три недели после захвата Окинавы американцы наткнулись на нее. Американцы вообще не блещут. Не видят даже очевидного. Десять лет тому назад их посольство имело наглость отказать Его Провидчеству в визе. Теперь-то, конечно, Его Провидчество может перемещаться, куда захочет, пользуясь техникой подпространственного перехода. Он не раз посещал Белый дом совершенно беспрепятственно.
Покупаю билет и спускаюсь по ступенькам в подземелье. Вокруг прохладный полумрак. Слышно, как где-то капает вода. Американских захватчиков здесь поджидал сюрприз. Чтобы не потерять воинской чести, весь личный состав базы в количестве четырех тысяч человек совершил самоубийство. За двадцать дней до прихода американцев.
Честь. Что этот суетный, одержимый идолами мир нечистых знает о чести и доблести? Я брожу по туннелям, касаясь стен рукой. Поглаживаю шрамы, оставленные разрывами гранат и кирками, которыми солдаты отрывали свою последнюю цитадель. Я ощущаю глубокое внутреннее родство с ними. Такое же чувство я всегда испытываю в Прибежище. С моим повышенным альфа-потенциалом я воспринимаю остаточное излучение душ героев. Брожу по туннелям, потеряв представление о времени.
Я уже собирался покинуть этот памятник человеческому благородству, когда прибыл автобус с туристами. Едва я глянул на них — с их фотоаппаратами, чипсами, тупыми кансайскими физиономиями, с их альфа-потенциалом ниже, чем у навозной мухи, — как пожалел, что у меня не осталось ни одного сосуда с очищающим веществом. А то бы метнул им вслед и запер всех в подземелье. Им бы выпала благодать пройти через спасительное очищение, как и тем, ослепленным погоней за деньгами горожанам, которых я очистил в Токио. А души юных солдат, которые давным-давно пожертвовали жизнью ради идеалов — и я был готов к этому всего трое суток назад, — обрели бы наконец покой. Этих героев предали марионеточные правители, погубившие нашу страну после войны. Так же как всех нас предает общество, превратившееся в рынок для «Диснея» с «Макдоналдсом». Все эти жертвы — ради чего они? Что построили на этой крови? Непотопляемый авианосец Соединенных Штатов Америки.
Но сосудов у меня не осталось, и приходится терпеть этих нечистых, болтающих, пердящих, смердящих, плодящихся и размножающихся кретинов. Я буквально чуть не задохнулся.
Спускаюсь с холма, шагаю под пальмами.
На ладони левой руки находится точка — альфа-рецептор. Когда Его Провидчество впервые удостоил меня личной аудиенции, Он повернул мою руку ладонью вверх и легонько надавил указательным пальцем на эту точку. Я почувствовал странный толчок, как удар электрическим током, только приятный, а после обнаружил, что моя способность к концентрации учетверилась.
В тот благословенный день, три с половиной года назад, шел дождь. С горы Фудзи строем спускались облака. Нивы вокруг Прибежища волновались под восточным ветром. Двенадцатью неделями раньше Братство зачислило меня на программу для начинающих, а утром мы с младшим секретарем казначейства завершили важное дело. Я подписал документы, которые освободили меня из плена материального мира. Отныне мой дом со всем имуществом, банковский и пенсионный счета со всеми накоплениями, автомобиль и даже карточка члена гольф-клуба принадлежали Братству. Я почувствовал такую свободу, о возможности которой даже не подозревал. Родные — я имею в виду нечистую, биологическую семью по плоти и крови — меня не поняли, как и следовало ожидать. Всю мою жизнь померяли они по линейке успехов и поражений, засекая каждый миллиметр в ту или иную сторону, и вот я сломал проклятую линейку об колено. В последнем письме, которое я получил от матери, она сообщала, что отец вычеркнул мое имя из своего завещания. Как сказал Его Провидчество в Священном откровении номер 71, «ярость одержимого бесом подобна крысе, которая тщится прогрызть Святую гору».
В конце концов, они меня никогда не любили. Они б и слова такого не знали, если б не телевизор.
В сопровождении министра безопасности Его Провидчество спускался по лестнице. По мере Его приближения становилось светлее. Сначала только Его ноги в сандалиях, затем пурпурная туника, а потом и весь Его возлюбленный облик возник передо мной. Он улыбнулся мне — благодаря дару телепатии Он уже знал, кто я и что сегодня сделал.
— Я учитель, — сказал Он.
Я опустился на колени, и Он дозволил мне поцеловать свой священный перстень с рубином. Я чувствовал его альфа-эманации, как компас чувствует магнитный полюс.
— Мастер! — ответил я. — Наконец-то я дома.
Его Провидчество говорил красиво и ясно, слова исходили будто не из уст, а из очей.
— Ты вырвался из Обиталища нечистоты, младший брат мой. Сегодня ты обрел новую семью. Старую, плотскую семью ты оставил и присоединился к новой, духовной. Отныне у тебя есть десять тысяч братьев и сестер. К моменту, когда наступит конец света, нас будет миллионы по всему миру. Наша семья будет расти и пускать корни во всяком народе. Мы ищем плодородные земли в других странах. Наша семья будет расти, пока не вберет в себя весь мир. Это не фантазия. Это неизбежная грядущая реальность. Что ты сейчас чувствуешь, новообретенное дитя нашего царства без границ, без страданий?
— Блаженство, Ваше Провидчество! Какая удача — испить из источника истины, когда тебе нет еще и тридцати!
— Младший брат мой, мы оба знаем, что отнюдь не удача привела тебя к нам. Тебя привела любовь.
Он поцеловал меня. Словно уста вечной жизни коснулись моего лба.
— По словам министра образования, твой альфа-потенциал растет не по дням, а по часам, — сказал Мастер. — Если так пойдет и дальше, со временем мы сможем поручить тебе одно очень важное задание…
Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Они говорили обо мне! Я всего-навсего какой-то новичок, а они говорили обо мне!
В кофейнях и магазинах, офисах и школах, на гигантских экранах торгового центра, в каждой квартирке, похожей на клетку для кроликов, люди смотрят новости с репортажами об очищении. Горничная пришла прибрать в моем номере и без умолку тарахтит об увиденном. Я не прерываю ее. Она спросила, что я об этом думаю. Ответил, что я всего-навсего инженер-компьютерщик из Нагои и не разбираюсь в таких вещах. Мое безразличие ей не понравилось, она не в силах сдержать возмущения. Приходится ломать комедию, чтобы не вызвать подозрений. Горничная упоминает о Братстве. Похоже, эти мерзкие журналисты тычут в нас свои грязные пальцы, хоть мы и предупреждали.
В середине дня выхожу купить шампунь и мыло. Дежурная сидит спиной, не отрывая глаз от телевизора. Телевидение извергает скверну и ложь, оно повреждает участок коры головного мозга, ответственный за альфа-потенциал. Но я подумал, что несколько минут не принесут мне большого вреда, и стал смотреть вместе с ней. Двадцать два человека очищены полностью плюс несколько сотен наполовину. Недвусмысленное предупреждение для нечистых.
— Не могу поверить, что это произошло в Японии, — говорит дежурная. — В Америке — еще куда ни шло. Но чтобы у нас?
«Эксперты» за круглым столом обсуждают это «злодейство». Среди экспертов — девятнадцатилетняя поп-звезда и профессор социологии из Токийского университета. Почему японцев так интересует мнение поп-звезд и профессоров социологии? Без конца показывают одни и те же кадры: толпы недоочищенных пытаются вырваться из метро, зажимают платками рты, блюют и расцарапывают себе глаза. Как сказал Его Провидчество в Священном откровении номер 32, «если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его». Потом крупным планом — очищенные, смирно лежат там, где их настигла благодать. Потом — их кровные родственники, рыдают в своем неведении. Потом — премьер-министр, самый непроходимый тупица из всех. Клянется, что не обретет покоя, пока «организаторы и исполнители этого чудовищного преступления не будут преданы суду».
Как слепы они в своем лицемерии! Неужели не видят, что настоящее злодейство — это ежедневное, ежечасное убийство души человеческой, которое совершается в современном мире! Братство всего лишь попыталось противостоять подлинному чудовищу — веку нынешнему. Преступному веку. Первая схватка в долгой войне, в которой нам суждено победить.
Неужели люди не могут понять, что сопротивление бесполезно? Этот жалкий политик, взяточник, лицемер, слепой таракан, неспособный даже уразуметь, в каком дерьме он барахтается. Неужели эти низшие, нечистые существа всерьез рассчитывают одолеть Его Провидчество и помешать Его замыслам? Одолеть Бодхисаттву, который может становиться невидимым по желанию, перемещаться в пространстве, дышать под водой? Предать Его самого и Его верных слуг их «суду»? Это мы — вершители правосудия! У меня лично альфа-потенциал пока слабоват — телепатией или телекинезом не воспользуешься, но ведь и нахожусь я за сотни километров от места чистки! Никому и в голову не придет искать меня здесь.
Я выскальзываю из прохладного вестибюля гостиницы.
Всю неделю веду себя тихо, но чрезмерная незаметность тоже может привлечь внимание. Поэтому я делаю вид, будто у меня деловые встречи, и с понедельника по пятницу ровно в восемь тридцать прохожу мимо дежурной, бросив через плечо «Доброе утро».
Время тянется еле-еле. Наха всего лишь заштатный городишко. По проспекту с важным видом расхаживают американцы с военных баз, которыми усыпаны эти острова. Многие под руку с местными женщинами. Японки едва прикрыты узкими полосками ткани. Местные мужчины подражают иностранцам. Я хожу по универмагам, смотрю на бесконечные толпы алчущих и покупающих. Хожу, пока ноги не заболят. Тогда отправляюсь в кофейню, там полки ломятся от журналов, а в них ничего, кроме забивающего мозги мусора. Прислушиваюсь к разговорам бизнесменов, которые покупают и продают то, что им не принадлежит. Потом снова гуляю. Рабочий день идиота, зевающего перед грохочущей пустотой игровых автоматов — как и я когда-то, пока Его Провидчество не открыл мне внутреннее зрение. Туристы с материка обходят сувенирные лавки, покупают коробки с низкопробным дерьмом, которое никому больше и не нужно. На тротуаре иностранцы продают без лицензии часы и дешевые украшения. Забредал я в галереи игровых автоматов, куда сползаются после школы дети с отравленными мозгами и прилипают к экранам, на которых сражаются злые киборги, призраки, зомби. Те же магазины, что и везде, — «Беннетон», «Найк», закусочные «Бургер-кинг»… Думаю, сейчас во всех городах мира центральные улицы похожи друг на друга. Я углублялся в закоулки. Во дворах хозяйки выбивают матрасы, как делали это и шестьдесят лет назад. Гончар с рябым лицом склоняется над своим кругом. Старик, сидя на крыльце, ремонтирует детский трехколесный велосипед. Кашляет, не вынимая сигареты изо рта. Похоже, смертельно болен. Женщина без единого зуба ставит свежие цветы в вазу у семейного алтаря. Один раз я отправился в старый дворец Рюкю. Во дворе — автоматы с напитками и магазин под названием «Святой рыцарь», в котором не продают ничего, кроме брелков для ключей и фотопленки. На древних бастионах копошились старшеклассники из Токио. Мальчишки ничем не отличаются от девчонок — длинные волосы, серьги в ушах, брови с пирсингом. Девчонки — вылитые паукообразные обезьяны — хихикали в мобильные телефоны. Если возненавидеть их, придется возненавидеть весь мир.
Ну и отлично, Квазар. Значит, возненавидим весь мир.
Единственное приличное место в Нахе — это порт. Я смотрел на лодки, рыбаков, туристов и на огромные грузовые суда. Мне всегда нравилось море. Мой биологический дядя водил меня в порт, в Иокогаме. Мы обычно брали с собой карманный атлас и в нем искали города и страны, откуда прибыли суда.
Конечно, это было тыщу лет назад. До того, как мой подлинный отец призвал меня к себе.
Однажды днем, выйдя из альфа-транса, в котором пребывал после омовения, я заметил странную тень — круглую, со ступицами. Она уплотнилась и превратилась в паука. Я хотел бросить его в унитаз и смыть водой, но тогда он, к моему превеликому удивлению, просигналил мне альфа-послание! Конечно, это Его Провидчество посылает мне весточку. У нашего Учителя особое чувство юмора!
— Мужайся, Квазар, избранник мой. Мужайся и крепись. Такова твоя участь.
Я упал на колени перед паучком.
— Я знал, Отец, что Ты не забыл меня! — ответил я ему.
Паучок ползал по моему телу, а я не сводил с него глаз. Потом посадил его в баночку. Решил купить липучку, чтобы ловить мух и кормить меньшого брата. Мы оба посланники Его Провидчества.
Болтовня про «апокалиптическую секту» и «секту конца света» не прекращается. Как она меня бесит! Братство стремится к свету, а не к его концу. Братство — это не секта. Секта порабощает. Братство освобождает. Главари сект — мошенники с лукавыми устами, они втайне содержат гаремы со шлюхами и гаражи с «роллс-ройсами». Я удостоился чести бросить взгляд на то, как живет Учитель и его ближайшее окружение. Ни одной особи женского пола в поле зрения! Его Провидчество освободился от липких пут сладострастия. Он избрал себе супругу только для того, чтобы она выносила ему детей. Младшим сыновьям членов кабинета министров и любимейшим ученикам дозволено прислуживать Учителю в его скромном быту. Из одежды на этих счастливчиках только набедренные повязки, поэтому они могут принять позу лотоса в любой момент, когда Мастер изволит благословить их для медитации. И на все Прибежище только три «кадиллака». Его Провидчество прекрасно знает, когда беса вещизма, которым одержимы нечистые, следует изгонять, а когда использовать как троянского коня, чтобы проникнуть в их прогнившую крепость.
С целью отвести подозрения от Братства Его Провидчество допустил в Прибежище кое-кого из журналистов и разрешил заснять братьев и сестер во время занятий по наращиванию альфа-потенциала. Корреспонденты осмотрели также наши химические лаборатории. Министр науки сообщил им, что мы там изготавливаем удобрения. Поскольку в Братстве все вегетарианцы, нам нужно много капусты, пошутил он. Когда репортаж показывали по телевизору, я увидел знакомых братьев и сестер. С экрана они телепатически передали своему брату Квазару привет и ободрение. Я засмеялся от радости! Эти грязные шакалы с телевидения пытаются обвинять Братство и даже не подозревают, что их поганый канал служит для связи со мной! Министр безопасности согласился дать интервью. Блестяще! Он опроверг все обвинения в причастности Братства к чистке. «Бесов возможно одолеть не иначе, как их же собственным оружием — хитростью», — учит Его Провидчество в Священном откровении номер 13.
А вот интервью с омраченными отступниками огорчили меня. Предатели. Братство приняло их в объятия любви, а они ее отвергли и, покинув Прибежище, вновь погрузились в зловонную пучину. В бесконечном своем милосердии Его Провидчество дозволил оставить этим насекомым жизнь — если их прозябание можно назвать жизнью, — но при одном условии: они не будут клеветать на Братство. Если же они нарушат это условие и начнут распространять свои грязные измышления через прессу и телевидение, то министр безопасности уполномочен подвергнуть их чистке вместе с семьями.
На экране телевизора лица омраченных закрыты сеткой, но человека с моим альфа-потенциалом не проведешь дешевыми уловками. Я узнал Маюми Аои, которая вступила в Братство вместе со мной. На словах она клялась в верности Его Провидчеству, но в одно прекрасное утро мы обнаружили, что она сбежала. Мы сразу заподозрили, что она была агентом полиции. Послушав, как она лжет про жизнь в Прибежище, я выключил телевизор и решил больше никогда его не смотреть.
Опять звоню в Прибежище — после первого звонка прошла неделя. Отвечает незнакомый голос.
— Доброе утро. Говорит Квазар.
— А, Квазар. Министр информации сегодня занят. Я его заместитель. Мы ждали твоего звонка. Ты заметил, как нарастает истерика?
— Да, господин заместитель министра.
— Вот именно. Успех твоей операции по очистке даже превзошел наши ожидания. Его Провидчество приказывает тебе затаиться еще на пару недель.
— Я во всем подчиняюсь воле Его Провидчества.
— Кроме того, тебе следует перебраться куда-нибудь подальше. Просто так, на всякий случай. Наши братья в полиции сообщили нам, что твои приметы переданы в розыск. Нужно действовать осторожно и хитро. Официально мы отрицаем нашу причастность к твоей акции. Это позволит выиграть время и укрепить ряды Братства новыми братьями и сестрами. Такая тактика дала хорошие результаты в прошлом году, когда проводилась пробная операция по очистке в префектуре Нагано. До чего же легко водить за нос этих навозных жуков!
— Вы правы, господин.
— Если тебя арестуют, ты должен взять всю ответственность на себя. Скажешь, что тебя исключили из Братства как сумасшедшего. После этого ты действовал сам, на свой страх и риск. Понял? Его Провидчество с помощью телепортации освободит тебя из тюрьмы.
— Слушаюсь, господин заместитель министра. Я во всем подчиняюсь воле Его Провидчества.
— Братство очень дорожит тобой, Квазар. Вопросы есть?
— Господин заместитель министра, я только хотел бы знать, начался ли второй этап великой чистки? Скажите, наши посланцы уже совершили телепортационный перелет? Они проникли в здания парламентов разных стран, чтобы заставить правительства всего мира принять учение Его Провидчества в качестве национальной программы? Боюсь, если мы промедлим, нечистые успеют…
— Квазар, ты забываешься! С каких пор ты уполномочен обсуждать внешнюю политику Братства?
— Простите, господин заместитель министра. Осознаю свою ошибку. Умоляю, господин заместитель министра, простите меня.
— Ты прощен, возлюбленный сын Его Провидчества! Тебе, наверное, очень одиноко вдали от семьи?
— Очень, господин заместитель министра. Но я получил альфа-послание моих братьев и сестер с экрана телевизора. А когда медитирую, Его Провидчество сам обращается ко мне с добрыми словами, поддерживает в изгнании.
— Вот и превосходно! Думаю, через две недели ты сможешь вернуться к нам. Если понадобятся деньги, свяжись с Тайной службой Братства, код тебе известен. А в остальном — веди себя как можно тише.
— Еще один вопрос, господин заместитель министра. Насчет этой отступницы, Маюми Аои…
— Министр информации уже в курсе. «А сплетники сплетен сами плетут паутину, которой будут удушены». Министр безопасности примет нужные меры, когда шумиха поутихнет. По всей видимости, до сих пор мы проявляли излишнее мягкосердечие. Но теперь вступает в силу закон военного времени.
Палит нестерпимая жара. Иду в порт посмотреть расписание движения катеров. Открываю карту. Карты я всегда любил больше, чем книги. Они не важничают и не поучают. Никогда не выбрасываю карты. Острова выглядят очень заманчиво, величественные изумруды посреди небесно-голубого моря. Мне приглянулся один островок под названием Кумидзима. До него всего полдня пути на запад, и не такой уж он маленький, чтобы приезжий бросался в глаза. Катер туда отходит раз в день — в 6.45 утра. Я купил билет на завтрашний рейс.
Остаток дня просидел на причале. Повторял про себя все Священные откровения Его Провидчества, не обращая внимания на обтекающий меня поток пропащих душ.
Солнце, багровое и дрожащее, наконец закатилось. Я даже не заметил, как наступила темнота. Вернулся в отель и сказал дежурной, что закончил свои дела и рано утром отбываю в Осаку.
Поезд в токийском метро был набит битком, как вагон для скота. Битком набит человеческими органами, запрятанными в тела, запрятанные в одежду. Трясутся. Молчат. Потеют. Я побаивался, вдруг какой-нибудь кретин раздавит сосуды раньше времени. Наш министр науки подробно объяснил, как работает устройство. После того как я отверну крышку и нажму на три кнопки разом, у меня останется только одна минута, чтобы выбраться наружу, прежде чем соленоиды разобьют сосуды и великая чистка человечества начнется.
Я положил сумку на багажную полку и стал ждать назначенной минуты. Напрягая свои телепатические способности, постарался послать сообщения поддержки братьям-очистителям в разных вагонах метро по всему Токио.
Одновременно я рассматривал людей в вагоне. Тех, кому выпала эта честь — быть первыми в великой чистке. Немые. Унылые. Уставшие. Безмозглые. Ослы, втянутые в бесконечный водоворот лжи, страдания, неведения. Рядом ребенок в вязаной шапке, сидит за спиной у матери. На шапке вышита розовая Минни-Маус. Значит, девочка. Спит, пуская пузыри изо рта, от нее влажно пахнет, как от всех малышей. Чуть подальше — пенсионеры. В будущем их не ждет ничего, кроме маразма да инвалидной коляски в доме престарелых, под сенью магнолий. А вот молодые люди из клерков. Наверное, полны надежд, в голове только одно — жажда наживы и успеха любой ценой.
Жизнь и смерть этих одноклеточных — в моих руках! Что бы они сказали, узнай об этом? Как попытались бы отговорить меня? Как эти насекомые доказывали бы свое право на жизнь? Какие слова нашли бы? На каком языке головастик может общаться с богом?
Вагон покачивался, поскрипывал. Лампы мигнули, погрузив его на мгновение в полумрак.
Еще не пробил нас.
Мне припомнились слова, которые Его Провидчество сказал нам утром: «Там, за пределами пределов, куда не простирается человеческий разум, я видел комету. Новая Земля грядет. Приближается час последнего суда над грешниками. Ускорив его чуть-чуть, мы всего лишь избавим несчастных от их жалкой участи.
Дети мои, вы избранные, вы проводники Божественной воли!»
В эти последние мгновения, когда поезд подъезжал к станции, Его Провидчество укрепил меня, послав видение Будущего. Через какие-нибудь три года Его Провидчество войдет в Иерусалим. Тогда перед ним склонится мусульманский мир, а Папа Римский и далай-лама будут искать его благоволения. Президенты России и США передадут свои государства под власть Его Провидчества.
В июле все обсерватории мира зарегистрируют приближение кометы. Пройдя рядом с Нептуном, она достигнет Земли и закроет Луну, она будет полыхать на небе даже средь бела дня — над аэродромами, вершинами гор и стогнами городов! Нечистые бросятся навстречу этому чуду. И примут от него погибель! Земля подвергнется мощному микроволновому излучению кометы, от которого будут защищены только люди с высоким альфа-потенциалом. Нечистые же станут умирать, корчась в собственной блевотине, выцарапывая себе глаза, задыхаясь от запаха собственной плоти, жарящейся прямо на костях. А выжившие станут обитателями Рая. Тогда Его Провидчество явит свою Божественную природу — она, словно бабочка, родится из куколки его тела.
Я засунул руку в спортивную сумку с дырочками и на ощупь отвинтил крышку. Теперь нужно нажать три кнопки и удерживать в течение трех секунд, чтобы запустился таймер. Один. Два. Три. Новая Земля грядет. Затикали часы истории. Задергиваю молнию на сумке, незаметно ставлю ее на пол и украдкой задвигаю ногой под сиденье. В вагоне так тесно, что зомби ничего не заметили.
Да свершится воля Его Провидчества.
Поезд въезжает на станцию и у платформы замедляет ход. Вот и все…
Внутри вагона нарастает шум, но я не желаю, не желаю вслушиваться в слова.
Если когда-нибудь этот шум обратится в слова — не сейчас, конечно, еще не сейчас, может, и никогда… Что тогда?
Я смешался с толпой, которая двигалась к эскалаторам. Прочь отсюда.
У меня за спиной поезд набирал скорость, погружаясь в удушливый мрак.
В потных ладонях покалывает. Чайка, важно прохаживаясь по подоконнику, смотрит на меня. До чего злое у нее лицо.
— Ваше имя, господин?
Старуха — хозяйка гостиницы осклабилась. С какой целью, интересно знать? Чтобы я понервничал? Черных дыр у нее во рту больше, чем желтых зубов.
— Меня зовут Токунага. Бунтаро Токунага.
— Токунага… Красивое имя. В нем есть что-то величественное.
— Никогда не задумывался.
— Чем занимаетесь, господин Токунага?
Опять вопросы. Без конца вопросы. Когда же нечистые угомонятся?
— Служу в маленькой компании. Ничем не знаменитая компания на окраине Токио. Работаю начальником компьютерного отдела.
— В Токио? Правда? А я никогда не бывала на большой земле! К нам приезжает много отдыхающих из Токио. В сезон, конечно. Сейчас почти никого, сами видите. Я только раз в году езжу на большой остров, проведать внуков. У меня четырнадцать внуков, представляете? «Большой остров» — конечно, я имею в виду Окинаву, а не Японию. Там побывать я даже не мечтаю!
— Вот как?
— Говорят, Токио ужас какой большой город! Даже больше Нахи. Значит, вы начальник отдела? Как, наверно, гордятся вами родители! Просто замечательно! Вы уж заполните эту дурацкую анкету, сделайте милость! Я бы не стала вас утруждать, но дочка с меня спросит. Такой порядок, ничего не поделаешь. Лицензия, налоги, сами знаете. Чепуха на постном масле, ей-богу. А куда деваться? И сколько времени вы проведете у нас на Кумидзиме, господин Токунага?
— Полагаю, пару недель.
— Правда? Надеюсь, вам не будет скучно. Островок-то наш невелик, сами видите. Но рыбу лови сколько влезет или серфингом занимайся, а хочешь — ныряй, хоть так, хоть с аквалангом. А в остальном жизнь у нас очень тихая, очень. Не то что в Токио, думаю. А жена, наверное, скучает без вас?
— Нет, не скучает, — отвечаю я. Пора заткнуть ей пасть, — По правде говоря, у меня траурная поездка. Жена скончалась в прошлом месяце. От рака.
Тут челюсть у старой карги отвисла.
— Боже мой, боже мой, — прошептала она, прижав ко рту ладони, — Вот ведь как… А я-то, дура, прямо по больному… Дочка сгорит со стыда за меня. Просто не знаю, что и сказать…
Старуха с виноватым видом сопит, что весьма противно — изо рта у нее разит креветками.
— Не надо переживать. Смерть избавила ее от страданий. Пусть это жестокое избавление, но избавление. Так что не упрекайте себя. Я немного устал. Вы не проводите меня в мою комнату?
— Да-да, конечно… Вот тапочки. Заодно покажу вам, где ванная. А это наша столовая. Идите за мной, ах, бедняга вы, бедняга… Подумать только, что вы пережили… Боже мой… Но вы правильно сделали, что приехали к нам… Кумидзима, знаете, лечит любые раны. Я просто убеждена в этом…
После вечернего омовения чувствую усталость, которую не смогли одолеть никакие упражнения по альфа-медитации. Проклиная собственную слабость, ложусь в постель и погружаюсь в глубокий сон, почти бездонный.
Когда я все-таки достигаю дна, то оказываюсь в туннеле. Безлюдный туннель метро, кругом только рельсы и трубы. Моя обязанность — патрулировать туннель, охранять его от дьявола, который обитает под землей. Вдруг ко мне подходит офицер и строго спрашивает:
— Что вы тут делаете?
— Выполняю приказ, господин.
— Какой приказ?
— Охранять туннель.
— В Прибежище, как всегда, неразбериха, — присвистнул он. — Появилась новая опасность. Дело в том, что дьявол может вас схватить, только если знает. Пока храните свое имя в тайне, вы недосягаемы для него. Как вас зовут, дежурный?
— Квазар, господин.
— Да нет, как вас звали в прежней жизни? Ваше настоящее имя?
— Танака. Кэйсукэ Танака.
— Ваш альфа-потенциал, Кэйсукэ Танака?
— Шестнадцать целых девять десятых.
— Место рождения?
И вдруг я понимаю, что попался. Офицер — он и есть дьявол. Он расколол меня вопросами и теперь может схватить. Последний шанс спастись — не подавать виду, что я обо всем догадался. Продолжаю кое-как барахтаться, но тут в туннеле появляется девушка. Она приближается к нам, в руках у нее футляр со скрипкой и цветы. Я видел ее где-то раньше. В моем грязном прошлом, до очищения. Дьявол в обличье офицера поворачивается к ней и начинает ту же игру.
— Разве вы не слышали о дьяволе? Кто разрешил вам пройти сюда? Назовите имя, адрес, род занятий! Немедленно!
Я хочу спасти ее. Без всякого плана в голове хватаю за руку, и мы мчимся из всех сил.
— Почему мы бежим? — спрашивает она.
Иностранка на холме, смотрит, как погружается в землю деревянный столб.
— Некогда объяснять! Офицер — он вовсе не офицер. Это оборотень. Тот самый дьявол, который живет в туннеле.
— Уверяю, вы ошибаетесь!
— Что? А вы откуда знаете?
Мы бежим, крепко держась за руки. Тут я решаю взглянуть ей в лицо и поворачиваюсь. Она искоса смотрит на меня и улыбается — ждет, когда я оценю зловещую шутку. Вот оно, подлинное лицо дьявола.
Утром выхожу пораньше, чтобы осмотреть остров. Море бирюзового цвета с молочным отливом. Ноги утопают в горячем белом песке. Встречаются птицы, которых я никогда раньше не видал, и бабочки, розовые, как лосось. Вдоль берега гуляет влюбленная парочка, а с ними — собака лайка. Юноша не переставая что-то шепчет на ухо девушке, а та не переставая смеется. Собаке очень хочется поиграть с палкой, но не хватает ума сообразить, что палку нужно принести хозяевам под ноги. Когда парочка проходит мимо, замечаю, что они без обручальных колец. В занюханном магазинишке купил пару рисовых колобков на завтрак и банку холодного чая. Поел, сидя на траве. Пытался припомнить, когда же в последний раз я чувствовал себя своим в каком-либо месте. Если не считать Прибежища, конечно. После еды иду дальше. Миновал старое камфорное дерево и поле, где пасся на привязи козел. Жара стоит такая, что крестьяне в широкополых плетеных шляпах обливаются потом. Из их приемников доносятся жестяные звуки поп-музыки. На обочине ржавеют автомобили, решетки радиаторов проросли травой. Далеко в море выдается одинокая коса, на ней стоит маяк. Я подошел к нему. На дверях — замок.
Какой-то фермер притормозил у обочины и предложил подбросить. Я стер ноги до крови, поэтому согласился. Говорит он на жутком местном диалекте, и я с трудом разбираю его слова. Он начал беседу с погоды, и я издал все междометия, какие полагаются в таком случае. Затем он перешел к моей персоне. Он знает и в какой гостинице я остановился, и на какой срок, и мое вымышленное имя, и профессию. Он даже выразил мне соболезнование по поводу смерти жены. Слово «компьютер» он произносит, как бы заключая его в кавычки.
В гостинице вовсю идет обмен сплетнями. Телевизор мигает, звук выключен. На кофейном столике — пять чашек с зеленым чаем, над ними поднимается пар. Вокруг стола расположилась компания: мужчина, с виду рыбак, женщина в синих мужских штанах, она и сидит по-мужски, тощая женщина с тонкими губами и еще один мужчина с огромной бородавкой, которая свисает у него над глазом, словно гроздь винограда.
Все внимают старухе, хозяйке гостиницы.
— У меня до сих пор перед глазами стоят эти кадры! По телевизору показывали, как все случилось. Несчастные люди бежали, прижимали платки ко рту… Кошмар! Просто кошмар! Добро пожаловать, господин Токунага. А вы в тот день были в Токио?
— Нет. Уезжал по делам в Иокогаму.
Я просканировал мозги всех присутствовавших — не шевелятся ли там подозрения на мой счет. Нет, все в порядке.
Рыбак закурил и спрашивает:
— А что там творилось на следующий день?
— Испуг, конечно. Всеобщая паника.
Женщина в штанах кивнула и сложила руки на груди.
— Одно утешает — похоже, этой банде сумасшедших скоро конец.
— Что вы имеете в виду? — спрашиваю я. Голос вроде не дрогнул.
— А вы разве не слышали? — удивляется рыбак. — Полиция захватила штаб-квартиру Братства. Давно пора. Их банковские счета заморожены. Их так называемому министру обороны предъявлено обвинение в убийстве бывших членов секты. Еще арестованы пятеро участников диверсий в метро. Двое повесились в камерах. Но в предсмертных письмах сказали достаточно, чтобы продолжить аресты. Да вот же, возьмите мою газету.
Я отдергиваю руку от пачки пропитанных ложью, ядовитых листков.
— Нет, спасибо! А что слышно про Учителя?
«И пусть даже ветви сгорят в лесном пожаре, но могучий ствол даст новые побеги!»
— Про кого, про кого? — Бородавчатый морщит нос, будто резиновый.
Мне захотелось вонзить ему в шею острые ножницы.
— Ну, про главу Братства.
— А, вы про этого мерзавца! Скрывается, как последний трус. Бежал, словно крыса. — Бородавчатый задыхается от ненависти.
Каким беспросветным зверинцем стал этот мир, если ангелов тут мешают с грязью!
— Он просто дьявол, вот он кто! Самый настоящий, из преисподней.