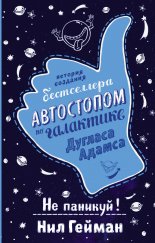Литературный призрак Митчелл Дэвид

— Социалистического предпринимательства.
— Какие-то новые громкие слова. Лучше порасспросите новых громких людей.
— Нет, госпожа, — наседал он. — Я должен выполнить задание.
Отошел назад, навел фотоаппарат на мою чайную. Щелк!
— Понимаете, вы пионер, зачинатель. Сейчас на Святой горе кто только не зарабатывает, но первой-то эту возможность открыли вы! И вы до сих пор здесь. Просто удивительный сюжет! Бабушка, которая несет золотые яички. Кстати, прекрасный подзаголовок для статьи.
И правда, в летние месяцы народ идет сплошным потоком. На каждом шагу теперь чайные, закусочные, киоски с гамбургерами — я как-то раз попробовала, ну и дерьмо! И часу не прошло — снова проголодалась. У каждого храма — множество столиков. Пакетами, бутылками, стаканчиками усеян весь путь наверх.
— Я вовсе не пионер. Я поселилась здесь, потому что деваться некуда было. Что касается денег, то партия прислала своих людей и они разрушили мою чайную за то, что я зарабатывала деньги.
— Нет, это исключено. Вам много лет, вы что-то путаете. Вам изменяет память. Партия всегда поощряла честную торговлю. Уверен, вам есть что рассказать! Вы можете развлечь наших читателей.
— Это не моя работа — развлекать ваших читателей! Моя работа — делать лапшу, заваривать чай. Если вы и правда хотите написать о чем-нибудь интересном, напишите о моем Дереве. На самом деле это пять деревьев в одном. На нем растут миндаль, фундук, хурма, айва и яблоки. «Дерево изобилия»! Так и назовите свой рассказ, чего лучше!
— Пять деревьев в одном? — пожал плечами газетный человек.
— Да. Не спорю, яблоки кисловаты. Но все равно! И еще оно умеет разговаривать!
— Да что вы?
Он быстро собрался и ушел. Свой дурацкий рассказ он все же написал, выдумав все от слова до слова. Один монах прочитал мне. Получилось, что я все время восхищалась мудрым руководством Дэн Сяопина — это главное. И хоть никогда не слышала про площадь Тяньаньмэнь, не сомневалась, что власти приняли самое правильное решение.
Пришлось добавить в список людей, которым нельзя верить, писателей. Они все сочиняют.
— Ты знаешь, кто я?
Я открываю глаза.
Тень от Дерева падает на ее прекрасное лицо.
— Помню, родная, у тебя еще была лилия в волосах. Очень тебе к лицу. Благодарю за письмо. Получила на днях. Монах мне его прочитал.
Она улыбается совсем как на фотографии.
— Это была твоя правнучка, — говорит моя племянница, как будто я обозналась.
Она сама обозналась, но у меня нет сил объяснять ей природу минувшего.
— Ты навсегда вернулась в Китай, моя родная?
— Да. Гонконг, правда, тоже теперь Китай, но не важно. Навсегда. Твоя правнучка, тетя, добилась большого успеха в жизни. — В голосе племянницы слышится гордость. — Она купила в долине отель с рестораном. На крыше прожектор крутится всю ночь до утра. Там останавливаются самые богатые люди. На прошлой неделе был знаменитый киноартист. У нее нет отбоя от самых завидных женихов. Даже партийный секретарь просил ее руки.
Мое сердце разнежилось, как горная кошка, свернувшаяся калачиком на солнышке.
Дочь почтит мою память и похоронит на Святой горе лицом к морю.
— Я никогда не видела моря. Говорят, в Гонконге мостовые из золота.
Она смеется таким милым, звонким смехом. Заслышав его, я тоже не могу удержаться, хотя смех отдается болью в груди, все сильнее и сильнее.
— На мостовых в Гонконге можно найти много чего, только не золото. Мой хозяин умер. Иностранец, юрист в большой компании. Он был ужасно богатый и оставил мне много денег. По завещанию.
Чутье старой умирающей женщины подсказывает мне, что это не вся правда.
Умудренность старой умирающей женщины подсказывает мне, что правда — это не все.
Я слышу, как моя дочь с племянницей внизу готовят чай. Я закрываю глаза и не слышу ничего, только цокают копытца из слоновой кости, цок-цок.
Струйка дыма раскручивается и тянется вверх. Вверх, все выше и выше.
Монголия
Вот уже целую вечность поезд скользит по равнине.
Иногда за окном мелькнет поселение — несколько круглых палаток, которые в путеводителе Каспара называются «юрты». Лошади щиплют траву. Старики неподвижно сидят на корточках, курят трубки. Жуткие собаки облаивают поезд, а ребятишки долго смотрят ему вслед. Они никогда не машут в ответ Каспару, только глядят, как и старики. Телеграфные столбы шагают вдоль рельсов, разветвляются и исчезают за пустынным горизонтом. Просторное небо напоминает датчанину край, где он вырос, который называется Зеландия. Каспар тоскует по дому и чувствует себя одиноким. Я не чувствую ничего, кроме нескончаемости.
Великая Китайская стена давно осталась позади.
Я в этой затерянной стране, чтобы найти себя.
В купе вместе с нами едут два великана австрийца, которые хлещут водку и обмениваются дурацкими шутками на немецком. Этот язык я услышал впервые от Каспара две недели назад. Они проигрывают друг другу охапки монгольских денег — тугриков — в карточную игру под названием криббидж, которой научил их в Шанхае один валлиец, и сопровождают этот процесс виртуозной руганью. На верхней полке сидит Шерри, девушка из Австралии. Она с головой ушла в «Войну и мир». До того как все бросить, Каспар преподавал агротехнику в университете и Толстого не читал. Сейчас он, кажется, жалеет об этом, впрочем, не из литературных соображений. Иногда к нам заглядывает швед из соседнего купе, чтобы снова попотчевать Каспара историей о том, как его ограбили в Китае. Он надоел нам обоим до смерти, так что симпатии Каспара переходят на сторону китайцев. Кроме шведа в соседнем купе едет ирландка средних лет. Она либо смотрит в окно, либо пишет в черной тетради. Дальше — компания израильтян, две девушки, двое юношей. Они обсудили с Каспаром цены на отели в Пекине и Сиане, а также новые вспышки насилия в Палестине, но, в общем, держатся особняком.
Наступил вечер, на землю опустились синие сумерки. Через каждые десять — двадцать миль темноту прорезают языки костров.
Внутренние часы Каспара отстают на семь часов, и он хочет лечь спать. Я мог бы отрегулировать его биоритмы, но решаю — пусть поспит. Он идет в туалет, плещет в лицо водой из крана, чистит зубы и полощет рот водой из бутылки, куда для дезинфекции добавлен йод. Когда Каспар выходит, Шерри стоит в тамбуре. Она приникла лицом к окну. «Какая красавица», — думает Каспар.
— Привет! — говорит он.
— Привет! — Шерри обращает взгляд на моего хозяина.
— Как «Война и мир»? Если честно, я вообще не читал русских писателей.
— Очень длинно.
— А о чем?
— О том, почему все происходит именно так, как происходит.
— А почему все происходит именно так, как происходит?
— Пока не знаю. Не дочитала. Очень длинно.
Она глядит, как затуманивается стекло от ее дыхания.
— Посмотрите! Такой простор — и ни души. Почти как у меня на родине.
Каспар встает рядом с ней и смотрит. Через милю он спрашивает:
— Почему вы поехали сюда?
Она отвечает, подумав:
— Это край света, вы не находите? Страна, затерянная в центре Азии. Не на западе, не на востоке. Затерянный, как Монголия, — вполне могла бы существовать такая идиома. А вы почему здесь?
Пьяные русские в конце коридора кричат и хохочут.
— Точно не знаю. Я собирался в Лаос, но вдруг ни с того ни с сего накатило желание поехать сюда. Я сопротивлялся, но куда там! В Монголию! — твердил внутренний голос. Никогда раньше я не думал об этой стране. Может, перебрал чего-нибудь?
Полуголый китайский карапуз бежит по коридору и гудит, изображая то ли лошадь, то ли вертолет.
— Как давно вы путешествуете? — спрашивает Каспар. Он не хочет, чтобы разговор оборвался.
— Десять месяцев. А вы?
— В мае будет три года.
— Три года! Тяжелый случай! — Шерри широко зевает. — Простите, я дошла то точки. Находиться взаперти, ничего не делая, — тяжелый труд. Как вы думаете, наши австрийские друзья прикроют свое казино на ночь?
— Хотя бы прикрыли лавочку по отливке шуток. Вам крупно повезло, что вы не понимаете по-немецки.
Когда они вернулись в купе, сверху и снизу уже раздавался храп австрийцев. Шерри защелкнула дверь на замок. Мягкое покачивание поезда убаюкивает Каспара. Засыпая, он думает о Шерри.
Шерри свешивается с верхней полки:
— Может, вы знаете какую-нибудь хорошую сказку на сон грядущий?
Каспар — плохой рассказчик, и я прихожу ему на помощь.
— Да, я знаю одну сказку. Монгольскую. Точнее, притчу.
— Замечательно! Я вся внимание, — улыбнулась Шерри, и сердце у Каспара ухнуло.
О судьбе мира думают трое.
Первый — это журавль. Видели, как осторожно он шагает по реке меж камней? Он высоко задирает ноги и резко откидывает голову назад, озираясь. Журавль уверен, что если он хоть раз сделает настоящий, большой шаг, то рухнут могучие деревья, горы сдвинутся с места, земля задрожит.
Второй — это кузнечик. Весь день напролет он сидит на камушке и размышляет о потопе. Однажды воды хлынут, вспенятся, закружатся водоворотом и поглотят весь мир вместе с живыми существами. Поэтому кузнечик не спускает глаз с неба — следит, не собирается ли там грозовая туча небывалой величины.
Третий — это летучая мышь. Она боится, что небо может упасть и разбиться вдребезги, и тогда все живые существа погибнут. Поэтому летучая мышь мечется между небом и землей, вверх-вниз, вверх-вниз, проверяет — все ли в порядке.
Вот так все было, давным-давно, в начале времен.
Шерри уже уснула, а Каспар еще какое-то время пытается понять, откуда пришла ему в голову эта история. Я усыпляю его внимание, нагоняю дрему. Некоторое время наблюдаю за тем, как наплывают и уплывают его сны. Сначала ему снится, что он бильярдным кием защищает рыцарский замок, построенный на песке. Потом снятся сестра и племянница. Вдруг в сон врывается отец, он толкает по коридору транссибирского экспресса мотоцикл с коляской, набитой купюрами, которые разлетаются в разные стороны. Как всегда, пьяный, он, как всегда, скандалит и требует от Каспара ответа: какого черта он тут делает и когда наконец вернет важные видеопленки. А Каспар — маленький мальчик в ползунках и даже слов таких не знает.
Мое собственное детство прошло у подножия Святой горы. Там было темно, и продолжалось это, как я потом понял, очень долго. Много времени мне потребовалось, чтобы научиться помнить. Я хорошо понимаю птицу, которая только-только начинает историю своего «я». Не сразу, совсем не сразу она осознает, что «я», личность, отличается от безличности, от ее скорлупы. Сначала птица воспринимает объем, замкнутость пространства. Потом ее органы чувств начинают работать, и она может отличать тьму от света, теплое от холодного. По мере того как ее чувства совершенствуются, у птицы возникает стремление к свободе. И вот в один прекрасный день она начинает рваться прочь из вязкой жидкости, из хрупкой скорлупки, пока наконец не окажется за ее пределами, одна, в головокружительной реальности, где все — изумление, страх, краски, неизвестность.
С давних пор задаюсь вопросом: почему я один?
Солнце разбудило Каспара. Он отирает слезы в уголках глаз, ремешок часов лезет в рот. Ему безумно хочется съесть на завтрак какой-нибудь сочный фрукт. Австрийцы выходят в туалет, опередив его. Он спускает ноги на пол, и мы видим Шерри: она медитирует на своей полке. Каспар осторожно натягивает джинсы и хочет тихонько выскользнуть из купе, чтобы не помешать ей.
— Доброе утро! И добро пожаловать в солнечную Монголию, — раздается голос Шерри. — Прибываем через три часа.
— Простите, что побеспокоил.
— Ничуть. Видите, на крючке для одежды мешок? Там груши. Возьмите на завтрак.
— Ну вот, — говорит Шерри спустя четыре часа. — Мы в Улан-Баторе. На центральном вокзале.
— Странно, — отвечает Каспар.
Ему хочется заговорить по-датски.
Белые стены слепят глаза в лучах первозданного висящего в зените солнца. Никогда не затихающий ветер дует над равниной в ту исчезающую вдали точку, где сходятся рельсы. Вывески написаны кириллицей. Ни Каспар, ни кто-либо из моих прежних хозяев не знал этого алфавита. Китайцы-челночники высыпают из поезда, складывают на перроне гору сумок с товаром, привезенным на продажу, звонко переговариваются на мандаринском диалекте, который я знаю. Два полусонных монгольских солдатика поглаживают автоматы, мыслями витая в других, более приятных им местах. Группа несгибаемых седых женщин ожидает посадки на поезд до Иркутска. Родные их провожают. Две фигуры в черных пиджаках и солнечных очках неподвижно зависли на флангах. Несколько парней сидят на ограде, глазея на девушек.
— Как будто из темной комнаты попала на карнавал инопланетян, — говорит Шерри.
— Шерри, я понимаю, что молодая девушка, такая как вы, в пути должна быть осторожна… Доверять первому встречному не очень-то… Но, может быть…
— Перестаньте мямлить, — прерывает Шерри. — Не бойтесь, я не трону вас, если вы не тронете меня. К делу. В вашем замечательном путеводителе «Вокруг света в одиночку» говорится, что в районе Сансар есть более-менее приличная гостиница. В конце улицы Самбу. Поехали.
Я позволяю Шерри позаботиться о моем хозяине. Мне меньше проблем. Австрийцы попрощались и направились к гостинице «Кубла-хан», причем уже с самым серьезным видом. Израильтяне помахали нам и пошли в противоположную сторону. О шведе Каспар уже забыл.
Странный народ — путешественники. У меня с ними много общего. У нас нет постоянного места жительства. Мы странники. Мы кочуем, повинуясь собственной прихоти, в надежде отыскать то, что имело бы смысл искать. Мы паразиты по сути: я, как в чужой стране, живу в теле хозяина и, исследуя его сознание, познаю мир. Люди типа Каспара живут в чужой стране, исследуя ее культуру и природу, и познают мир или погибают со скуки. С точки зрения мира мы с Каспаром невидимы, нереальны. Мы — продукты одиночества. Мои прежние недоверчивые хозяева китайцы, впервые встретив путешественников, смотрели на них как на инопланетян или выходцев с того света. Именно так люди относятся и ко мне.
Каждое сознание пульсирует в собственном ритме — как и каждый маяк имеет свой почерк. У одних прожектор постоянно включен, у других — вспыхивает время от времени. У одних луч яркий, у других еле светится. У некоторых горит на пределе возможностей, как квазар. Для меня скопление людей и животных — как скопление звезд разной степени яркости и притяжения.
Каспар в последнее время тоже воспринимает людей как вспышки на экране локатора. Каспар так же одинок, как и я.
— Я что, грежу? — спрашивает Шерри. — А где же город? Пекин — город, Шанхай — город. А здесь только тень города.
— Похоже на Восточную Германию времен «железного занавеса», — откликается Каспар.
Шеренги одинаковых серых домов. Стены в трещинах, окна закрыты ставнями. Трубопровод проложен поверху на бетонных опорах. Раздолбанные дороги, по которым тарахтят немногочисленные такие же раздолбанные автомобили. На площади козы щиплют траву. Безмолвные фабрики. Скульптуры лошадей и маленьких, будто игрушечных танков. Женщина с корзиной яиц осторожно обходит выбоины на мостовой, осколки бутылок и пошатывающихся пьяных. Фонари покосились. Устаревшая электростанция изрыгает клубы черного дыма. Вдали виднеется гигантское замершее колесо обозрения. Мы с Каспаром сомневаемся, что оно когда-либо снова придет в движение. Мимо прошли три европейца в черных костюмах. Каспар подумал, что они заблудились.
Улан-Батор гораздо больше, чем деревня у подножия Святой горы. Но все люди, которых мы встречаем, начисто лишены устремленности к какой-либо цели. Такое впечатление, что они, ничего не делая, ждут неизвестно чего: может, что-то откроется, или день закончится, или свет зажжется, или позовут есть.
Каспар поправляет лямки рюкзака.
— Да, «Тайная история Чингисхана»[43] меня к этому не подготовила.
Вечером Каспар уплетает за обе щеки баранину, тушенную с луком и специями. Они с Шерри — единственные обедающие во всей гостинице, расположенной на шестом и седьмом этажах потрескавшегося многоквартирного дома.
Женщина, которая подает еду, мрачно смотрит исподлобья. Каспар показывает на тарелку, потом приподнимает палец кверху — дескать, вкусно — и одобрительно улыбается.
Она смотрит на него как на сумасшедшего и торопливо отходит.
Шерри фыркает.
— Такая же приветливая, как таможенница.
— Опыт путешественника научил меня — чем более убогой является страна, тем грознее таможенники.
— Когда она показывала нам комнату, то смотрела на меня так, словно я переехала ее ребенка бульдозером.
Каспар выуживает клок шерсти из мясного блюда.
— Коммунизм в сфере обслуживания. Все совершенно закономерно. Пойми, она же здесь влипла крепко. А мы можем слинять отсюда в любой момент.
У него есть растворимый лимонный чай, купленный в Пекине. На прилавке стоит бутыль с горячей водой. Они пьют чай и смотрят, как над пригородом из юрт и костров восходит восковая луна.
— Расскажи-ка мне еще о своей работе в пабе, в Гонконге, — начинает Каспар. — Говоришь, он назывался «Бешеные псы»?
— Лучше ты расскажи о ненормальных, которых видел, когда торговал ювелиркой на Окинаве. Вперед, викинг, сейчас твоя очередь.
Сколько раз моим хозяевам казалось, что вот-вот начнется настоящая дружба! Все, что могу я, — только наблюдать.
Когда я подрос, то начал понимать, что в «моем» теле есть еще один обитатель. Из тумана красок и эмоций выпадали, словно роса, капельки знания. Я стал не просто смотреть, но научился различать и обозначать: сад, тропинка, собака, лай, рисовое поле, выстиранное белье на веревке под солнцем, обдуваемое ветерком. Эти образы возникали передо мной, как на экране, но почему — я не знал. Как будто включил телевизор, а там — бессюжетный фильм. Я прошел тот же путь, что проходят все люди — от великих до заурядных. В отличие от людей я помню пройденный путь.
Что-то происходило и по мою сторону экрана восприятия. Как будто радиоприемник медленно настраивался на волну, так медленно, что сначала звук был еле слышен. Вот так, еле-еле, пробивались ко мне ощущения, источником которых являлся не я. Лишь позднее я узнал их названия — любовь, верность, гнев, злоба. Я пытался определить их источник, поймать его в фокус. Я начал испытывать страх! А что, если этот другой — захватчик? Сознание своего первого хозяина я принял за яйцо кукушки, подброшенное в мое гнездо, и стал бояться, что птенец вылупится и вышвырнет меня. Я решил принять меры. Однажды ночью, когда мой хозяин уснул, я попытался проникнуть в его сущность.
Он закричал во сне, но я не позволил ему проснуться. Повинуясь защитному инстинкту, его сознание напряглось и выставило заградительные барьеры. Я не сдавался, напирал, грубее, чем следовало, — ведь я еще не знал меры своих сил. Чтобы изучить его воспоминания, я пробирался через сложные механизмы памяти и управления, выводя из строя огромные куски. Страх сделал меня агрессивным, хоть это и не входило в мои намерения. Я хотел только потеснить соперника, а не вытеснить.
Утром пришел доктор и установил, что мой хозяин не реагирует ни на какие раздражители. Внешних повреждений на теле пациента он, естественно, не обнаружил, но вынужден был констатировать коматозное состояние. В 1950-е годы в Китае не было аппаратуры для поддержания жизни таких пациентов, и спустя несколько недель мой хозяин умер, не приходя в сознание. Он унес в могилу разгадку тайны моего происхождения, которая, возможно, хранилась в его памяти. Это были мучительные дни. Я понял свою ошибку — захватчиком был я, а не он. Я пытался поправить причиненный ущерб, собрать заново разрушенные мной функции и фрагменты психики, но разрушить проще, чем восстановить. К тому же я тогда многого не знал. В результате разысканий мне удалось выяснить, что мой хозяин в свои худшие времена был разбойником на севере Китая, в лучшие — солдатом. Еще я обнаружил обрывки разговорных языков — позже идентифицировал их как монгольский и корейский, но читать и писать мой хозяин не умел. Вот и все. Определить, как я зародился и как долго пребывал в состоянии эмбриона, мне не удалось.
Я полагал, что если мой хозяин умрет, то я разделю его участь. Поэтому я сосредоточил все свои усилия на том, чтобы изобрести способ, который позже назвал переселением. За два дня до смерти моего хозяина я успешно осуществил задуманное. Моим вторым хозяином стал доктор, лечивший первого. Переселившись, я посмотрел на солдата со стороны. Мужчина средних лет лежал на грязной постели, прикованный к своему скелету. Я почувствовал вину, облегчение и могущество.
В докторе я пребывал в течение двух лет. Узнал много интересного о человеке и бесчеловечности. Научился читать воспоминания хозяина, стирать их и заменять новыми. Научился управлять хозяином. Человеческая натура сделалась моей игрушкой. Еще я понял, что в играх с ней нужно соблюдать меры предосторожности. Однажды я признался своему хозяину, что в его теле уже два года обитает бесплотный дух, и сказал, что готов ответить на его вопросы.
В результате бедняга сошел с ума, и мне снова пришлось переселяться. Человеческий разум — очень хрупкая игрушка. Хилый заморыш!
Прошло три дня. Вечером, как обычно, официантка шлепает на стол перед Каспаром горшок с бараниной, разворачивается и отходит прежде, чем он успевает выразить неудовольствие.
— Сегодня на ужин бараний жир! — лучезарно улыбается Шерри. — Какая приятная неожиданность!
Официантка трет тряпкой соседние столы. Каспар упражняет навыки самовнушения, убеждая себя, что у баранины вкус индейки. Я с трудом удерживаюсь от соблазна помочь ему. Шерри читает.
— Нет, какова советская демагогия! Это началось в сороковые, во время президентства Чойбалсана. В книге говорится: «Преимущество использования русского алфавита подтверждено практикой». А на самом деле имеется в виду — если ты используешь монгольский алфавит, тебя расстреляют. В голове не укладывается, как…
В этот момент во всем здании отключается электричество.
В окно проникает слабый свет от мутных звезд и от больших красных букв — за пустырем сияет кириллицей гигантский лозунг. Мы видим его каждый вечер, но так и не выяснили, что он значит.
Шерри рассмеялась и закурила. Огонек сигареты отражается у нее в глазах.
— Признайся, ты дал начальнику электростанции десять долларов, чтобы он устроил конец света. Теперь я останусь в темноте наедине с мужчиной, от которого по-мужски пахнет бараном.
Каспар улыбается в ответ. Я понимаю — это любовь. Любовь я воспринимаю, как воспринимаю погоду.
— Шерри, давай возьмем джип завтра утром. Мы уже осмотрели храм, осмотрели старый дворец. Я чувствую себя тупым туристом. Совершенно идиотское ощущение. Девица из немецкого посольства полагает, что завтра привезут бензин для заправки.
— Почему такая спешка?
— Эта страна катится в прошлое. Где-то там, за горами притаился в ожидании конец света. Мы должны смотаться отсюда, пока снова не наступил прошлый век.
— Но в этом — очарование Улан-Батора. В его обветшалости.
— Не знаю, что значит «обветшалость», но никакого очарования тут не вижу. Улан-Батор только доказывает, что монголы не в состоянии строить города. Здесь можно снимать фильм об обреченной колонии уцелевших в бактериологической войне. Давай уедем отсюда. Не понимаю, зачем я тут. По-моему, тут никто не понимает, зачем он тут.
Входит официантка и ставит на стол свечу. Каспар благодарит по-монгольски. Официантка отходит. «Ну, дорогая, — думает Каспар, — когда случится революция…»
Шерри раскладывает колоду карт.
— Ты хочешь сказать, что монголы созданы исключительно для дикой кочевой жизни? Их удел — разводить скот, рожать детей, мерзнуть, жить в юртах, кормить глистов, не знать грамоты?
— Я не хочу с тобой спорить. Я хочу поехать к горам Хангай, забираться на вершины, скакать на лошади, плавать голышом в озерах. Понять, зачем я живу на земле.
— Хорошо, викинг. Завтра утром едем. А сейчас давай сыграем в криббидж. По-моему, я веду в счете — тридцать семь выигрышей против девяти.
Значит, мне тоже предстоит переезд. Имея хозяином местного жителя, продолжать путешествие по стране опасно. Имея хозяином иностранца — невозможно.
Я прибыл сюда, чтобы отыскать свои корни. Истоки своего «я». Это было лет шестьдесят тому назад.
Первые слова: «О судьбе мира думают трое…»
Раза два я пытался описать процесс переселения некоторым из моих хозяев, богаче других одаренным воображением. Это невозможно. Я знаю одиннадцать языков, но есть оттенки, которые словами не передать.
Я могу переселиться только в тот момент, когда другой человек касается моего хозяина. Легко ли пройдет переселение — зависит от состояния сознания человека, в которого я переселяюсь. Еще важно, чтобы не препятствовали отрицательные эмоции. Тот факт, что для переселения необходим физический контакт между старым и новым хозяином, означает, что я существую в физическом плане, только на субмолекулярном или биоэлектрическом уровне. Есть ряд ограничений. Например, я не могу переселяться в животных, даже в приматов: они сразу погибают. Все равно как взрослый не может влезть в детскую одежду. Переселяться в кита я не пробовал.
Это техническая сторона дела. Но как описать, что при этом чувствуешь? Представьте гимнаста на трапеции, который вращается под куполом цирка. Или бильярдный шар, который закружился перед тем, как влететь в лузу. Или прибытие в незнакомый город после блужданий в тумане.
Иногда язык не в состоянии донести хотя бы благозвучность смысла.
Утренний ветер приносит холодный воздух с гор. Ганга высунулась из юрты, умыла прохладным утренним воздухом лицо и шею. В юртах на склоне холма постепенно пробуждается жизнь. В городе завыла сирена «скорой помощи». Свинцовые воды реки Туул переливаются оттенками серого. Красные неоновые буквы-гиганты «Сделаем Улан-Батор образцовым социалистическим городом» погасли.
«Дерьмо верблюжье, — думает Ганга. — Когда их наконец снимут?»
Ганга переживает из-за того, что дочь куда-то ушла. У нее на этот счет свои подозрения.
Соседка кивнула и пожелала доброго утра. Ганга ответила. Глаза стали хуже видеть, побаливает сломанная позапрошлой зимой нога, которая плохо срослась, да и ревматизм дает о себе знать. Подбегает собака, требуя, чтобы ее почесали за ушами. Ганге сегодня не по себе.
Она ныряет обратно в тепло юрты.
— Не студи, черт подери! Закрой дверь! — рявкает муж.
Хорошо, что я наконец распрощался с западным менталитетом. Как это ни прекрасно, узнавать много нового из таких, как у Каспара, без устали трудящихся мозгов, все же это вызывает у меня порой головокружение. Только что он думал о курсе обмена валют, и вот уже переключился на фильм о похитителях картин из Санкт-Петербурга, через секунду вспоминает, как мальчиком рыбачил с дядей меж двух островов, а в следующий миг у него в голове уже веб-страница приятеля или вертится популярная песенка. И так без конца.
Мысль Ганги никогда не перескакивает с одного удаленного предмета на другой. Ганга всегда думает об одном: как раздобыть еды и денег. Ее волнуют только самые близкие люди: дочь и больные родственники. Один день ее жизни как две капли воды похож на другой. Гарантированная бедность при советском господстве, борьба за существование после получения независимости. Конечно, в сознании у Ганги мне гораздо сложнее спрятаться, чем у Каспара. Одно дело затеряться в суматошном городе, и совсем другое — в малолюдной деревушке. Некоторые хозяева очень чувствительны к изменениям в своем внутреннем ландшафте, и Ганга именно из таких. Пока она спала, я освоил ее язык, но ее сны упорно ускользают от меня.
Ганга растапливает печь. Маета не проходит.
— Что-то не так, — говорит она сама себе.
В надежде отыскать причину беспокойства она оглядывает юрту — может, что-то пропало? Кровати, стол, ларец, коврики, семейная посуда, серебряный чайник, который даже в самые трудные времена она отказалась продать. Все на месте.
— Опять твое загадочное шестое чувство?
Баянт шевелится под грудой одеял. Катаракта и полумрак не дают Ганге его разглядеть. Баянт прокуренно кашляет.
— Ну, что на этот раз? Твоя задница напела тебе, что мы получим в наследство верблюда? Ушная сера шепнула, что приползет хитрый змей и похитит твою невинность?
— Хитрый змей давно сделал свое дело. Его зовут Баянт.
— Очень смешно. Что у нас на завтрак?
Попробую, попытаю счастья.
— Муженек, а, муженек, ты ничего не слышал про трех животных, которые думают о судьбе мира?
Долгое молчание. Мне даже показалось, что Баянт не расслышал вопроса.
— Ты что, женщина, спятила? О чем ты?
В этот момент влетает Оюн, дочь Ганги. Она раскраснелась, запыхалась.
— В магазине был хлеб! И еще я раздобыла несколько луковиц!
— Умница! — Ганга обнимает ее. — Ты так рано встала сегодня, я даже не слышала.
— Да закройте эту чертову дверь! — орет Баянт.
— Ты так поздно вернулась с работы, мамочка. Я не хотела беспокоить тебя.
Ганга подозревает, что это не вся правда.
— А много сейчас народу в гостинице, мама?
Оюн большая мастерица переводить разговор на другую тему.
— Нет. Все те же двое белоголовых.
— Австралию-то я нашла в школьном атласе. Но вот где эта — как ее там? — Дания, что ли?
— Какая разница! — бурчит Баянт, вылезая из-под груды одеял, одно накидывает как шаль. Когда-то он был красавчик и до сих пор себя им считает. — Вряд ли ты когда-нибудь окажешься там!
Ганга прикусывает язык, Оюн отводит глаза.
— Белоголовые сегодня уезжают, и я очень рада, — говорит Ганга. — Не понимаю, как это мать отпустила дочь одну болтаться по свету. Наверняка они не женаты, а спят в одной постели! Никаких колец, ничего. А он вообще какой-то ненормальный.
Ганга смотрит на Оюн, но Оюн смотрит в сторону.
— Конечно ненормальный, это же иностранцы. — Баянт с шумом отхлебывает и глотает чай.
— Почему он ненормальный, мама?
Оюн начинает чистить лук.
— Ну, во-первых, от него пахнет ягодами. И еще… Глаза… Глаза у него как будто чужие, не его.
— Неужто эти двое страннее тех венгров из профсоюза, помнишь? Которые летали за орхидеями во Вьетнам.
Ганга умеет не обращать внимания на мужа.
— Этот мужчина из Дании, он все время дает чаевые, и подмигивает, и улыбается, как будто у него голова не в порядке. А вчера вечером он дотронулся до моей руки.
Баянт сплюнул на пол.
— Если он дотронется до тебя еще раз, я сверну ему башку и в задницу засуну. Так и передай ему!
Ганга качает головой.
— Нет, это было так, как дети играют в пятнашки. Он слегка коснулся моей руки пальцем и тут же отошел. Как будто запятнал. Или заколдовал. И пожалуйста, не плюйся в доме.
Баянт отламывает кусок хлеба.
— Как же! Заколдовал! Да он просто хотел соблазнить тебя. Послушай, женщина, иногда мне кажется, что я женился не на тебе, а на твоей бабушке!
Женщины продолжают готовить завтрак молча.
Баянт поскреб пятерней в паху.
— Кстати, о женитьбе. Старший сын старика Гомбо приходил вчера вечером. Просит руки Оюн.
Оюн, не поднимая головы, мешает в горшке.
— Да?
— Да. Принес мне бутылку водки. Отличная вещь. Сам старина Гомбо — несерьезный мужик, не умеет держать выпивку. Зато его свояк работает на хорошей должности. А у младшего сына, говорят, большое будущее. Два года подряд становится чемпионом школы по борьбе. Это вам не понюшка табаку.
Ганга рубит лук, ей щиплет глаза и нос. Оюн молчит.
— По-моему, неплохая мысль, а? Похоже, старший по уши втюрился в Оюн. Если у нее в животе окажется внук старика Гомбо, сразу двух зайцев убьем: ясно будет, что девочка не пустоцвет, и старику Гомбо придется действовать… Бывают женихи и похуже…
— Бывают и получше, — говорит Ганга, помешивая лапшу в бараньем супе; ей вспомнилось, как Баянт лазал к ней через дыру в юрте, под боком у спавших родителей. — Может, Оюн кто-то другой нравится. И вообще, мы ведь договорились. Оюн должна закончить школу и, если судьбе будет угодно, поступить в университет. Мы же хотим успехов Оюн. Может, она купит машину. Или хотя бы мотоцикл. Из Китая привозят.
— Какой смысл учиться? Работы все равно нет, тем более для женщин. Русские ушли, предприятия позакрывали. Что осталось — захватили китайцы. Нам, монголам, чужаки не дают пробиться. Губят нас.