Останкинские истории (сборник) Орлов Владимир
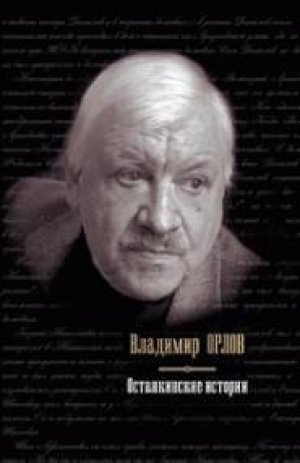
— Вас понял. Тогда Останкину нечего опасаться. Что нам какие-то Шубниковы с Бурлакиными. Или Любови Николаевны.
— Я справедливости хочу!.. — заявил вдруг дядя Валя.
И сразу же он будто бы расстроился из-за своих слов. Заерзал, засуетился, принялся оглядываться, искал в карманах двугривенные монеты и не находил…
Я вспомнил:
— Между прочим, Михаил Никифорович почти каждый день давал этой… Любови Николаевне… по рублю.
— Ну и что?
— Вы драмы Островского знаете?
— Ты еще не родился, а мы с Яшкой Протазановым думали, как переделать для Алисовой «Бесприданницу».
— Помните, как всякие негодяи у Островского скупают векселя должников?
— Ты что? — Дядя Валя задумался. — Ты считаешь, что Шубников выкупил у Любови Николаевны ее долги Михаилу Никифоровичу? Вот это поворот! — И он сокрушенно покачал головой…
— А могла быть Любовь Николаевна кленом? Или ольхой? — после паузы спросил я.
— Это ты к чему?
— Так, вспомнилось одно…
— По-твоему, она не полая, а ольха?
— Я вас спросил.
— Ладно, — сказал дядя Валя. — Пора нам с тобой разойтись.
— Такое впечатление, Валентин Федорович, что вы намерены вести партизанскую войну…
— Ничего я не намерен.
— И, видно, в одиночку. Это вы-то, сторонник общественных действий! Или вы для себя какие-то выгоды ищете? Корысть какую? И что-то задумали таинственное…
— Ты надо мной не издевайся! — возмущенно сказал дядя Валя. — Молод еще!
— Я не молод. И не издеваюсь.
А что я, собственно, пристал к дяде Вале? Что я хотел выпытать у него? И ради чего? Или ради кого? Ради себя?.. Но меня-то, похоже, отпустила Любовь Николаевна, я вспоминал о ней, но не ощущал ее ига. Из опасений, как бы не набедокурили Шубников с Бурлакиным? Возможно… Прежде дядя Валя всегда осаживал Шубникова и других вовлекал в прения с ним, сегодня же он о Шубникове с Бурлакиным ничего мне не разъяснил. А что-то знал. И можно было предположить, что Валентин Федорович принял решение, неизвестно какое и неизвестно чем вызванное, сам же затаился. Впрочем, все это было его дело, а нам и впрямь следовало разойтись… Но я напомнил дяде Вале чуть ли не с ехидством:
— Уриэрте-то все в Гондурасе.
— Это меня не касается, — холодно сказал дядя Валя. — Это их внутренние дела.
— А Шубников?
— Что Шубников? Оставь его. Он просто балбес. («Прыгающие глаза балбеса…» — вспомнилось мне.) И он — приблудный. Он жил как-то и у нас во дворе.
— Что значит — приблудный? — спросил я.
— Для Москвы приблудный. Не лимита, а так… Однако, если Шубников выкупил долги, тут ведь и кроме паев возникает анекдот… А? Но должен заметить, что и твой Михаил Никифорович хорош!
— А что?
— А ничего! — вдруг тонко, чуть ли не истерично вскрикнул дядя Валя. — А ничего! — Потом он опять успокоился. Присмирел. Сказал — Я ничего не говорил. Ни до кого из вас у меня нет дела. И я опаздываю в парк, на Лебединую площадку.
Лебединая площадка, или Лебединое игрище, или Лебединая стая, или даже Лебединое озеро, а по мнению посторонних прохожих, благополучных и семейных, склонных к тому же к банальностям, просто Плешка, была в Останкине местом знаменитым и согретым жизнью. Здесь, в Шереметевской дубраве, на аллее, тропинки к которой вели от детского пруда с лодками и каруселями, от беспечной возни и визга, мимо шашлычной, бильярдной и читальни, в сухую погоду, в милые летние дни, да и по весне и осенью, сходилось изысканное общество — все более люди бывалые и пожившие, часто и пенсионеры, бобыли и бобылихи, натуры неуемные, неспокойные и с затеями, в надежде устроить или изменить жизнь или хотя бы в компании и в беседе усладить душу мадерой, вермутом розовым и танцем. И уж точно — одолеть одиночество. Там музыка играла, магнитофон или баян, там водили хороводы или коварно сокрушали сердца расположенных к тому дам в роковых фигурах танго, там грезили в вальсах и играли в ручеек, там под гитары и мандолины басы тигриных тембров исполняли песни легендарного магаданца Вадима Козина и крымского кенара Евгения Свешникова, там чаще всего утомленное сердце нежно прощалось с морем, впрочем, без досад и после взаимных удовольствий. Однако порой возникали там и лебединые мелодии судеб. Вот туда и отправился Валентин Федорович Зотов.
Раньше к Лебединому игрищу он относился чуть ли не с презрением. Во всяком случае, высокомерно. Он и Игоря Борисовича Каштанова, не вышедшего возрастом, но залетавшего к лебедям в порывах к приключениям, стыдил при людях. Теперь же и сам поспешил в парк.
23
А Михаил Никифорович опять устроился на работу в аптеку.
Но приходилось ему посещать и учреждения, какие имели дела с бумагами о болезнях, несчастных случаях на производстве и схожих происшествиях. На химическом заводе проведали о том, что Михаил Никифорович вернулся в аптекари, и посчитали, что он не оголодает и без инвалидных денег. А потому с завода потекли поворотные бумаги во ВТЭК. Мол, желаем вывести из заблуждения. Мол, виноват Михаил Никифорович сам. И пусть выкусит.
Плуты Пигулин, начальник смены, и Безюкин, аппаратчик, вызвались быть свидетелями и, желая угодить, напрягали память. Теперь они уверяли, что в день отравления Михаил Никифорович бродил по цеху без противогаза. Он, без противогаза, «как сейчас» стоял перед их глазами. Прежде, в поспешных, сразу же после увоза Михаила Никифоровича к Склифосовскому, бумагах, именно Пигулин и Безюкин назывались разгильдяями (впрочем, не так гневно), именно они проводили промывку аппарата, и от них утек четыреххлористый углерод. Начальник смены Пигулин и не имел права допустить Михаила Никифоровича к трудам, не убедившись в присутствии на его голове противогаза. И противогаз тогда голову Михаила Никифоровича украшал, но не тот, какой мог бы противостоять большим дозам хлора в воздухе, а какой имелся в хозяйстве Пигулина. Против чего-то он, возможно, и был хорош, но не против хлора. Однако кто же полагал, что промывка аппарата выйдет нескладная? Теперь в бумагах, где Михаила Никифоровича лишили противогаза, утверждалось, что никакой промывки в тот день и не было. А Михаил Никифорович сам вроде бы белены объелся…
Михаилу Никифоровичу и в Останкине говорили, что он объелся белены, коли дал делу об аварии затухнуть. Он пожалел и своего приятеля Никитина, соблазнившего его химией, и начальство цеха, и непутевых тружеников Пигулина и Безюкина. По доброте души написал какое-то смутное объяснение. Испуганное (тогда) начальство сулило ему златые горы. И бесплатные путевки в санатории с копчеными угрями и бассейнами, и пособия в каждое полнолуние за грехи предприятия. Но при этом имелась в виду договоренность внутри завода. И на словах. Ты нас не выдашь. И мы тебя не обидим. Ты человек порядочный, сраму нам не уготовишь, под следствие, под сроки и скандалы нас не подставишь, безвинных работников из прочих смен с малыми детьми премий не лишишь. И мы люди порядочные, и мы своих долгов не забудем. Станем держать их в уме и вблизи совести. Все были так добры к Михаилу Никифоровичу, так жалели его, что и Михаил Никифорович стал испытывать ко всем на заводе чувства братские или сыновние. Какой-то неуклюжий человек из администрации для спокойствия Михаила Никифоровича и как бы в подтверждение слов о совести выдал ему справку о несчастном случае на производстве, за что теперь на писаря этого орали и топали ногами. Поначалу Михаила Никифоровича предполагали устроить у себя же на заводе. Но на конторской должности Михаил Никифорович заскучал бы. И понимал он, что существовал бы на заводе напоминанием о неприятностях, пусть и былых, а кому такие напоминания в радость? И Михаил Никифорович посчитал благоразумным вернуться в аптекари. К тому времени он был исследован ВТЭКом и получил инвалидность второй группы. На срок. Возможно, и недолгий. Но вскоре выяснилось, что в Михаиле Никифоровиче напрасно возбудились братские или сыновние чувства. Никаких пособий ни в дни полнолуний, ни в дни открытия окошек касс он не получал. В Останкине Михаилу Никифоровичу советовали писать и в профсоюзы, и в Министерство здравоохранения, и даже в Нью-Йорк, прямо в штаб-квартиру ООН, самому Пересу де Куэльяру, а уж если ничего нигде не выгорит, то на крайний случай — руководству футбольной команды «Спартак», которое никакого отношения ни к делу, ни к Михаилу Никифоровичу не имеет, но все может. Однако Михаил Никифорович уповал на то, что все само собой образуется. Не бессовестные же совсем люди. К тому же он не хотел жаловаться на завод, ведь он сам написал отступную записку и в ней туманными словами безалаберность приписал себе. Ему тогда говорили, что эта записка — так, на всякий случай, никуда не пойдет. Но нынче, видимо, пошла…
И пошли в ход исправленные и дополненные воспоминания начальника смены Пигулина и аппаратчика Безюкина. Михаил Никифорович снова, уже по приглашению, ходил во ВТЭК и, хотя не ощутил никаких перемен в своей натуре, получил новый диагноз. Вместо токсического гепатита ему был определен гепатит с хроническим воспалением желчного пузыря. И уже не инвалид стал Михаил Никифорович, а просто неспособный трудиться в тяжелых производствах, в частности — в химической промышленности. Видно, люди с завода побывали и во ВТЭКе и в чем-то убедили втэковских медиков. Один из этих медиков, понимающе улыбнувшись, даже поинтересовался, а не пил ли он, Михаил Никифорович, в свой горький день, желая отвлечься от насущных проблем, какую-либо жидкость, оставшуюся, между прочим, в цехе и показавшуюся ему похожей, скажем, на спирт. «Я был в противогазе», — мрачно ответил Михаил Никифорович.
Ну ладно, ему не подтвердили группу, но при этом, пусть и не инвалиду, а хотя бы потерявшему способность трудиться в тяжелых производствах, были обязаны платить пособие и выделять суленые путевки в санатории. А они не желали. Почему? Что они пошли на него войной? Что им вдруг стало жалко денег, не своих, а государственных, стало быть, и не денег, а знаков или чисел в ведомостях? Этому объяснений Михаил Никифорович дать не мог. То есть он мог предположить — с Никитиным он с той поры не виделся, — что на заводе, где он проработал всего ничего, возникли какие-нибудь неловкие обстоятельства, например, пришла каверзная проверка, и тут вовсе лишним оказался отравленный. Но ведь он-то их пожалел…
Михаил Никифорович мог бы прожить и без пособия (в сорок пять рублей оно) и без копченых угрей на завтрак в санатории, тем более что они теперь были не для его печени. Но он обиделся. Что же они ему руки жали, улыбались в глаза, а один даже очки снял и протер платком стекла — повлажнели они?
Конечно, своим на заводе Михаил Никифорович стать не успел. Он и фамилии помнил не всех, кто ему жал руку и улыбался. Но за недели работы нескольких людей он узнал. Скажем, начальника цеха Муромцева. И никаких поводов посчитать его скотиной у Михаила Никифоровича не возникло. Однако и Муромцев, прежде охавший и ахавший, при встрече сказал: «Пить надо меньше всякую дрянь на халяву!»
Словом, Михаил Никифорович все же из-за обиды ходил по учреждениям. Его бы скоро урезонили, а дело прекратили, но на руках у Михаила Никифоровича была нечаянно выданная ему справка о несчастном случае на производстве. Болельщиков завода в учреждениях эта справка огорчала, они разводили руками. А химические конторщики, тоже огорченные, никакого пособия Михаилу Никифоровичу не платили.
— Тебе, Михаил Никифорович, — сказали на Королева, — надо подавать на них в суд.
Михаил Никифорович позвонил мне, рассказал про пособие, напомнил, что я обещал свести его с моим приятелем — адвокатом Кошелевым.
— Пожалуйста, — сказал я.
— Завтра и зайду, — пообещал Михаил Никифорович.
Но не зашел. И неделю не давал о себе знать. Через неделю я нажал кнопку его звонка.
— Что же ты, Михаил Никифорович? — сказал я. — Я говорил с Кошелевым. Он тебя ждет.
— А-а-а! — в раздражении махнул рукой Михаил Никифорович. — Проходи.
Я прошел и, не дожидаясь распоряжений Михаила Никифоровича, сразу направился на кухню. Раскладушка, привычно сложенная, стояла у двери ванной. Михаил Никифорович вызвался приготовить чай, я отговаривать его не стал.
— Но ты сначала покажи мне бумаги, — попросил я.
— Ни к чему.
— Ты же сам звонил мне и рвался в суд.
— Пошли они подальше! — сказал Михаил Никифорович.
— Что так?
— Надоело! Да и что это я? Бился из-за какого-то пособия, из-за того, чтобы меня признали инвалидом! Стыдно! Хватит! Мужик в сорок лет выпрашивает инвалидность, суетится ради пособия! Да еще в суд… Стыдно!
— Михаил Никифорович… — начал было я.
— Все. Хватит! — сказал Михаил Никифорович. — Извини меня, если доставил хлопоты. И перед Кошелевым извинись. Бумаги рвать я не буду, но в суд не пойду. И сам я должен платить за все. Я ведь вначале написал неправду. И имею урок.
— Первый урок, надо полагать…
— Не первый! Не первый! Сотый!
— Не горячись.
— Да! Сто первый урок! — проворчал Михаил Никифорович, и как будто бы не только на себя и на обстоятельства жизни проворчал, но и на меня. — Может, и двухтысячный… И на Кадыкчане был не первый… И в Певеке…
Про Кадыкчан и про Певек Михаил Никифорович мне рассказывал. Почему сейчас он решил напомнить мне и себе о Певеке и Кадыкчане, ему было виднее. Путь к аптечным ступам и склянкам вышел у Михаила Никифоровича нескорый. Поначалу, и главным образом из-за отца, он полагал стать ортопедом. Правда, после десятого класса был у него полет в международные отношения, в институт у Крымского моста, полет сейчас же оборвался, и о нем Михаил Никифорович вспоминал с иронией. Не стал он и ортопедом, хотя и поступал в Курский мединститут. Курьезные обстоятельства на практике вызвали появление фамилии Михаила Никифоровича в списке отчисленных (он выступил заступником приятеля-шалопая). И три года Михаил Никифорович ложку опускал в миски с флотскими борщами. А когда он окончил Харьковский фармацевтический и проработал год в селе под Воронежем (отец к тому времени умер, и у Михаила Никифоровича не было поводов просить направление поближе к дому), он пожелал испытать себя на краю российской земли. Предложил услуги Магаданскому аптекоуправлению. Из Магадана его послали дальше по Колымской трассе, в Сусуманский район, в угольный поселок Кадыкчан. Михаил Никифорович прилетел в Магадан в летних ботинках, в пальтишке, сносном для черноземных сентябрей, и в кепке. За Сусуманом мороз стоял под сорок. Охлажденный Михаил Никифорович кое-как автобусом доехал до Кадыкчана, от остановки до жилья было два километра, их бы пробежать, но ледяные ноги еле переступали. Аптека, где Михаил Никифорович должен был заменить беременную заведующую, собравшуюся ехать в Россию, помещалась в деревянном домике в четыре окна. Перекошенные двери не закрывались, их укутывали верблюжьими одеялами. В шубе можно было заведовать аптекой, но Михаил Никифорович шубу в Кадыкчане не приобрел. Он и всего-то пробыл в Кадыкчане неделю. Начальник шахты Михеев, хозяин поселка, государь и игрок, не пожелал оделить Михаила Никифоровича квартирой или хотя бы комнатой, предложил ночевать в общежитии, в зале на восемь коек. Михаил Никифорович не возражал бы и против девятой койки, но в аптеке негде было хранить наркологию, беременная заведующая на ночь забирала ее домой. Даже если бы Михаилу Никифоровичу выдали сейф для содержания вблизи его койки препаратов с наркологическими свойствами, броня сейфа вряд ли уберегла бы наркологию от бичей, пребывавших в обилии тут же в общежитии. Михееву звонили из Магадана, но он не подчинялся каким-то аптекарям и здравоохранению, куражился, будто бы чего-то ждал от Михаила Никифоровича, жилья не давал. И Михаила Никифоровича отозвали в Магадан. Там его успокоили и определили на чукотский берег Ледовитого океана, в порт Певек. В Певеке он прожил полтора года, не скучал, однако обещанное в Магадане порадовало Михаила Никифоровича лишь северным сиянием надежд и отцвело. А обещан был Михаилу Никифоровичу пост заведующего городской аптекой. Тут не то что в Кадыкчане, служили пять сотрудников, и лишь Михаил Никифорович имел высшее образование. Заведующая аптекой Леденцова из-за порушенной любви опять же собиралась уехать на материк и просила замену. Заменой подоспел Михаил Никифорович. Но судьба пожалела Леденцову, сведя ее с геологом по золоту из-под Билибина, и отъезд был отменен. Присутствие в ее подчинении фармацевта с дипломом, да еще мужчины, Леденцову, естественно, нервировало. И подвигало к действиям. Год с лишним Леденцова со своей заместительницей Бекетовой (и для той Михаил Никифорович был конкурент) посылали в Магадан самолетами, а может, и с оленями, письма, живописующие образ жизни Михаила Никифоровича Стрельцова в Певеке. Михаил Никифорович о тех письмах не знал. Лишь через полтора года, когда он явился в Магадан с просьбами улучшить его мироположение и оклад, ему развернуто намекнули об этих письмах. И выходило, что он человек, которому нельзя доверить не только аптеку, но и вилку в столовой. Михаил Никифорович был удивлен. Леденцова жгла его глаголом, как Савонарола флорентийские пороки. Впрочем, насчет Савонаролы тут преувеличение. Леденцова сообщала о Михаиле Никифоровиче в деловых посланиях как бы между прочим, часто и хваля его, ложные же сведения приводила, словно бы сокрушаясь о судьбе сотрудника и испрашивая, как помочь летящему под откос, но и не погибшему еще вовсе человеку свернуть на правильную стезю. Образ Михаила Никифоровича выходил таким: он и вертопрах в компаниях чужих жен, и мот, и слушает черт-те что из-за Ледовитого океана, и гуляка, и способен горячить кровь понятно чем, может, тянется и к наркотикам. «Да что же это! Что за глупость! — возмущался Михаил Никифорович. — Вы проверьте! Вы пошлите к нам инспектора!» Конечно, Михаил Никифорович не связывал себя монашескими обетами, тем более в условиях полярного дня и особенно полярной ночи, порой действительно имел и утехи, хотя бывало в Певеке и тоскливо. Но уж вранье пришло о нем в Магадан бессовестное. «Нет, вы пошлите инспектора!» — настаивал Михаил Никифорович. «Да вы успокойтесь! — говорили ему. — Мы вам верим. Верим! И знаем мы, что за штучка эта Леденцова. И вы для нас были бы куда интереснее в Певеке, нежели она. Но ведь она, уважая вас как работника и даже жалея, пишет про вас такое… Как тут не почесать затылки… Мы вам лучше предложим марковскую аптеку. Марково — это чукотская Швейцария. Там растут помидоры…» Уговаривали, даже добавляли, что там не то чтобы чукотская Швейцария, но некоторые говорят, что и чукотская Италия. И помидоры привозили оттуда несомненно красные, и Семен Дежнев в семнадцатом веке именно там основал острог. Михаил Никифорович все же уговаривал поставить сначала на место певекскую ревнительницу нравов, а потом заводить с ним разговор о Маркове. «Ах вот вы как! — огорчались собеседники. — Вы, значит, ставите нам предварительные условия…» И давали понять в огорчении, что Леденцова, может, и права и что он, может, и недостоин марковского заведования. Михаил Никифорович не выдержал, забрал трудовую книжку и отлетел на Камчатку, благо певекские приятели снабдили его хорошим петропавловским адресом. А через год Михаил Никифорович вернулся обратно в Европу. Сначала в Крым. А потом и в Москву. Да что в Москву, в само Останкино.
Но Кадыкчан, понятно, и Певек, и другие кадыкчаны и певеки не выходили из памяти Михаила Никифоровича. Не то чтобы позванивали в нем каждый день, а так, тренькали иногда. Досадно было, что там он много не сделал, а ведь в колымском автобусе не только шевелил бесчувственными пальцами в ботинках, но и строил добродетельные планы помощи населению, чтоб оно признало аптеку добросовестной и было благодарно ей. Однако ничего не улучшил и не преобразовал. Был честным работником — и только. И это опечалило. И явилось — не в первый раз — ему: «А что ты можешь? К чему твое рвение? Что ты можешь изменить? Кто ты такой? Кто ты есть?» Михаилу Никифоровичу не раз было говорено: «И ты этой силы частица…» Спасибо. Естественно, частица. Частица, дробинка, элемент, первоначальное вещество. Можно было бы припомнить и другие подходящие слова, но остановимся пока на самом расхожем. Частица (часть, по Далю, это ведь и участь, доля, жребий, удел, достояние жизни, счастье, рок, предназначение; «Часть моя еси…»). Частица толпы, частица курской земли, пяти миллиардов существ, частица вселенной. Частица… Оно хорошо, Михаилу Никифоровичу приятно было об этом знать. Но обязательная ли частица, задумывался иногда Михаил Никифорович, именно он? Если принять во внимание позицию его магаданских коллег, то и необязательная. Но, предположим, открылась бы ему, Михаилу Никифоровичу, что и впрямь обязательная. Что, лучше бы стало? Во всех лекарственных препаратах есть обязательные составные. В таблетке триампура непременно содержится двадцать пять миллиграммов триамперена. Должно содержаться. И величина этой обязательной частицы измениться не может. Будет его больше, будет его меньше — не станет триампура, воина с давлением. Стало быть, если ты обязательная частица, знай свои пределы и свой шесток? Так, что ли? А ведь это скучно. Однако, если начнешь своевольничать и пожелаешь вырваться из определенного тебе, только испортишь что-либо и ничего не улучшишь… Такие разъяснения давал себе иногда Михаил Никифорович. Ты — частица в мироздании, все равно какая, обязательная или случайная, и в ходе событий — в аптеке ли, на поверхности ли земной или тем более во взъерошенной галактике — от твоего существования ничего не зависит. А потому повороты судьбы следует принимать со спокойствием. И печалью. Положив также, что история человечества — не в твоей компетенции и пусть все идет как идет.
Но не всегда Михаил Никифорович был в согласии со своими мыслями (понимая при этом, что в них есть и путаница или подмена понятий). Ну ладно, рассуждал он. Дон Кихот был хорош, но — как мечтание человечества. В окрестностях же Ламанчи, реализуя себя, он чаще вредил, хотя бы и пустячно, жителям и путешественникам. Однако страсть и действия, а особенно простодушная вера странного рыцаря в правоту собственных действий вызывали зависть Михаила Никифоровича. Он бы так не мог. Конечно, если бы на его глазах били слабого или рожь горела, он бы не стоял. Но в историях с самодуром из Кадыкчана или Леденцовой, даже сидя на Росинанте и будучи при копье, он бы не бросился ни на кого. И не потому, что копьем надо было разить вроде бы из-за себя, а не из-за дела. Просто не возникало порыва. А ну их к лешему… Не длжно ли так? — задумывался Михаил Никифорович. Миллионолетнюю долю человечества он мог бы и не взваливать себе на плечи, но за миг-то летящий отвечать был обязан. Когда Любовь Николаевна довела его до обострения чувств, он взъярился и отмел прежнее свое успокоение. Даже отважился вступить в сражение с горестной истиной «от смерти нет в саду трав», был намерен сейчас же принести человеческому роду облегчение. А может быть, и благоденствие вечное. Видимо, желание это всегда было в Михаиле Никифоровиче, а Любовь Николаевна вряд ли могла ошибиться и приписать ему чужие свойства…
— Михаил Никифорович, я опять тебе не судья… Но, думаю, ты не прав. И зачем тебе нужны уроки с похожими сюжетами?
— Дуракам закон не писан, — просветил меня Михаил Никифорович. — Это я про себя.
— А хотя бы и про меня, — сказал я. — Однако я, Михаил Никифорович, отчасти удивляюсь твоим шатаниям. Тебе стало стыдно оттого, что ты начал выпрашивать себе как бы незаслуженные блага… А того, что ты поощряешь проходимцев или разгильдяев, тебе не стыдно?
— Мало ли чего…
— Ладно. Прости, что полез тебе в душу. Просто меня удивила твоя непоследовательность. Кстати, про пай Каштанова ты слышал?
— Слышал.
— И что?
— А ничего.
— Ты как дядя Валя. Как Валентин Федорович Зотов… Попью я сейчас чаю с этим приятным вареньем и откланяюсь.
— Варенье из терна… Мать варила.
— Спасибо твоей матери.
— Что касается Шубникова… — начал Михаил Никифорович.
Но тут зазвенело над дверью, и сразу же — стало понятно, что звонок был не просьбой распахнуть ворота, а знаком вежливости, — чья-то рука повернула ключом задвижку замка. Через мгновение на кухню, почувствовав гостя и как бы для решения, не обременителен ли гость, не гнать ли его взашей или, напротив, не требует ли он особенных почестей, заглянула женщина. Была это Любовь Николаевна.
— А-а, это вы, — очевидно успокаиваясь, произнесла она. — Здравствуйте.
Она назвала меня по имени-отчеству, опустила на пол сумку и протянула мне руку. Я пожал ей руку как давней приятельнице, не успев вспомнить, что еще на днях я относил Любовь Николаевну к движениям воздуха. Рука Любови Николаевны была крепкая, Филимону Грачеву следовало с уважением относиться к такой руке.
— Я сейчас, — сказала Любовь Николаевна. — Только переобуюсь… У меня здесь еще сумка, — добавила она из прихожей. — Я, Михаил Никифорович, купила материал на занавески. И хватит на ламбрекен. Еще тюль…
Я взглянул на Михаила Никифоровича. Тот, поначалу не выказавший никаких удивлений, теперь не то чтобы удивился, но, похоже, искал чему-то объяснения. Может быть, платежные способности Любови Николаевны перепроверял в уме Михаил Никифорович? Но что мне было гадать…
— Я пойду… — шепнул я Михаилу Никифоровичу.
Михаил Никифорович не проявил желания удержать меня.
— Вы пройдите сюда, в комнату, — услышали мы приглашение Любови Николаевны, — я уже разложила материал, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели.
— Мне пора…
— Зайди на минуту, — попросил меня Михаил Никифорович.
— Вот, — показала нам Любовь Николаевна свои приобретения, при этом то ли стесняясь покупки, то ли радуясь ей.
Ткани лежали на столе, и нежнейший тюль, и светложелтая прозрачная ткань словно бы с камышинками или с какими иными водяными растениями, вызывающими мысли о тихих старицах и колыхании ряски.
— Это интересно… — сказал я на всякий случай.
Михаил Никифорович молчал.
— Я у Никитских ворот купила, — сказала Любовь Николаевна. — Там на углу бульвара и улицы Качалова хороший магазин. Была очередь, но я выстояла.
Объяснения она давала Михаилу Никифоровичу. Но Михаил Никифорович молчал.
Любовь Николаевна переобулась и теперь была в тапочках. Впрочем, скорее бы к ним подошло название черевички, до того нарядно и дорого они выглядели, такими когда-то в исключительных случаях могли одаривать во дворце на невских берегах в присутствии запорожских сечевиков и светлейшего князя. Знал ли Михаил Никифорович о происхождении обуви Любови Николаевны?
— Вот эти занавески, — показывала Любовь Николаевна на тюль, — для дня. Когда солнце сильно бьет в глаза. Или просто от чужого взгляда. А эти вечерние. По-моему, они будут хорошо сочетаться по цвету и рисунку. А?
Теперь она обращалась ко мне. И я, хотя и не годился в оценщики несшитых штор и занавесей, да, впрочем, и сшитых, поспешил с ответом:
— По-видимому, будут хорошо сочетаться.
— Но в доме нет швейной машинки, — сказала Любовь Николаевна.
Эти слова, видно, озадачили Михаила Никифоровича. Я решил прийти ему на помощь:
— А у соседей твоих нет швейной машинки? Если попросить на время?.. Или вот. На месте твоей аптеки, на Цандера, теперь пункт проката. Можно там взять…
— Да, конечно, — обрадовалась Любовь Николаевна, — отчего же не воспользоваться услугами проката?
— Я схожу, — согласился Михаил Никифорович.
Тут я сообразил, что когда-то рассказывал Любови Николаевне о рукодельных успехах своей жены, в частности и о швейных, Любовь Николаевна, несомненно, помнила об этом, а машинку из нашей квартиры я не предложил.
— Я могу из дома, — сказал я. — Если жена… Или вы, Любовь Николаевна, зайдите к нам с этими…
— Нет, зачем же, — мягко сказала Любовь Николаевна, — что же вас обременять. Проще будет Михаилу Никифоровичу зайти с паспортом в пункт проката. Ведь верно?
— Да, — сказал Михаил Никифорович, — проще…
Теперь я почувствовал, что вопрос решается сугубо внутренний и не мне со швейными машинками встревать в его обсуждение.
— А ведь я опаздываю, — сказал я. — Зашел-то я всего на три минуты. Разрешите откланяться. А ты, Михаил Никифорович, если изменишь мысли и опять вспомнишь о Кошелеве, позвони мне.
Любовь Николаевна словно бы огорчилась скорому моему уходу, она была намерена извлечь пакеты из второй сумки, что-то еще показать мне и о чем-то посоветоваться, тем более что я знаком с самим Зайцевым. Намерения Любови Николаевны и упоминание о Зайцеве ускорили мои откланивания.
Михаил Никифорович, пребывавший тоже в домашних тапочках — я лишь теперь обратил на это внимание, — закрыл за мной дверь. Но тапочки Михаила Никифоровича вряд ли вызвали бы восторги запорожских сечевиков и одобрение светлейшего князя. Впрочем, может быть, и раньше Михаил Никифорович имел домашнюю обувь, берег ноги и полы, а я прежде в квартире Михаила Никифоровича, куда и не часто заходил, был невнимательным?
24
На улице я пожалел, что не дослушал Любовь Николаевну и не узнал о прочих ее сегодняшних покупках. И опять я отчего-то подумал о финансовой основе ее существования… Откуда у нее, в частности, деньги на всякие тюли и черевички? Из слов Любови Николаевны выходило, что ткани она приобрела земным способом. Стояла в очереди. Слова эти были сказаны без раздражения и усталости, а как бы даже с удовольствием удачливой охотницы. Неужели Михаил Никифорович снабдил Любовь Николаевну деньгами, согласившись с поводом ее трат? Но как мне представлялось, он находился нынче в стеснениях. Или она имела право тратить казенные средства на покупку штор и ламбрекена? Впрочем, в азарте женщина может ради тюля промотать и казенные деньги!
Однако мне-то что?
Пусть и казенные, пусть и кашинские, пусть тратит! Пусть Михаилу Никифоровичу это приятно! Мне-то что? Может, ему вообще приятно терпеть у себя дома Любовь Николаевну. Скорее всего, так оно и есть. К тому же, возможно, теперь она способна избавить его от болезней, потому он и отказался от судов и встреч с адвокатом Кошелевым.
Как выяснилось позже, и Михаил Никифорович не знал тогда, откуда случались деньги у Любови Николаевны. В начальную пору ее пребывания в Москве, как помните, он сам из сострадания вызвался давать ей рубль в день. Михаил Никифорович надеялся, что, определившись в столице, она откажется от его субсидий. Однако с ходом времени выдача им денежного пособия Любови Николаевне стала казаться ему делом чуть ли не обязательным, прекратить эту выдачу было бы стыдно, не по-мужски. Хотя на кой ляд он ссужал ее? Притом чт это были за деньги для женщины! Разве таких денег ждала от него Мадам Тамара Семеновна? И все же Михаил Никифорович постановил — потерпеть, не вечно же будет являться Любовь Николаевна в его квартиру. К тому же Любовь Николаевна сразу заявила: за рубли — спасибо, она, мол, должница. Расписок, правда, не писала и позже не упоминала о долге, а Михаил Никифорович тем более. Но чтобы не вызвать кривотолков и превратных суждений среди знакомых и в Останкине, он как-то с намерением сообщил пайщикам нечаянного сосуда, что иногда дает Любови Николаевне деньги в долг.
Но если бы она их и не тратила, а копила, прятала в старом чулке на черный день, а теперь не удержалась и принялась транжирить, то и тогда расходы Любови Николаевны Михаил Никифорович своими пособиями объяснить бы не смог.
А Любовь Николаевна между тем стала вдруг Михаила Никифоровича кормить. Раньше она лишь по утрам жарила себе яичницу либо жевала бывшую французскую булку с любительской или ливерной колбасой, а обедала или ужинала неизвестно где. И ела-то что? Михаил Никифорович, если не был сердит на жиличку, воображал ее в очереди за чебуреками на Неглинной или же за столом какой-нибудь сокрушительной для желудка пельменной и сострадал ей. Попытка его угостить Любовь Николаевну мясным блюдом, как мы помним, не привела к удаче, разве что он познакомился с доктором Шполяновым. Более Михаил Никифорович и не старался проявить себя хлебосольным хозяином, и не потому, что не было желания зайти в мясницкую к Петру Ивановичу Дробному, а потому что отсутствовали поводы сидеть с Любовью Николаевной за одним столом.
Как складывались их отношения после капитуляции в доме у дяди Вали, да и накануне, разъяснять не надо. Им бы друг друга не видеть в упор, а не то чтобы вместе расставлять на кухне посуду. Они и впрямь не видели друг друга в упор. Лишь однажды Любовь Николаевна при встрече в коридоре сказала Михаилу Никифоровичу, словно бы извиняясь перед ним, но и с достоинством: «Мне ведь на самом деле некуда деться…» На что Михаил Никифорович ответил: «Что тратить слова…» Более и не тратили. Но с перетеканием песка в стеклянных сосудах обиженная и от обиды будто мраморная Любовь Николаевна потихоньку оживала и даже иногда принималась напевать. Поначалу Михаил Никифорович слышал фразы из «В низенькой светелке…» и «Колокольчики мои, цветики степные…», но потом в квартире зазвучали и иные слова и мелодии, не всегда, заметим, грустные. Любовь Николаевна напевала и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Из-за острова на стрежень», и «Мой дельтаплан», и «Кузнечик запиликает на скрипке», и «Мы с железным конем все поля обойдем», и «Златые горы». Порой Михаил Никифорович слышал слова иностранные, понять какие он не мог, кроме «феличита», «аморе», но с чего бы ей петь «феличита» и «аморе», он даже и не строил догадок. Однажды Михаилу Никифоровичу из коридора показалось, что в комнате за притворенной дверью Любовь Николаевна сама с собой водила хоровод. Выявилось у Любови Николаевны драматическое сопрано с виолончельным тембром, но во фразах из опер, в особенности Верди, Вагнера и Масканьи, она, как Каллас, могла прозвучать и Азученою. Знала она тексты песен Высоцкого и Окуджавы… Любовь Николаевна проявляла музыкальную независимость,но и не вредничала. Чувствовала, видно, что Михаил Никифорович Зыкиной предпочитает Плевицкую и Русланову, и пела в их манере, впрочем не имитируя, а по-своему. Временами, казалось Михаилу Никифоровичу, пела чудесно. Но он сразу же осаживал себя, хмурился: мало ли что, мало ли как — ради выгод или ради еще чего — можно петь казенным голосом! Однако — ради каких выгод? И отчего же — казенным голосом? А если Любовь Николаевна пела своим голосом?
И нередко при пении Любови Николаевны возникали в квартире запахи, нисколько не раздражавшие Михаила Никифоровича. Это были и запахи деревенского утра и парного молока, прочувствованные как-то и мною, и запахи сырой после грибного дождя ольхи, и молодого, только что, в конце мая, сорванного с грядки чеснока, и расцветшего в Ельховке возле дома матери куста жасмина, называемого, правда, по науке жасмином ложным, или чубушником, и овчинного полушубка, и ветра со снегом в Беринговом море у острова Карагинского, и теплой ржаной горбушки, и декабрьской проруби, и смоленой лодки… Разные возникали запахи, они Михаилу Никифоровичу были приятны.
Иногда Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки или с бесед со знакомыми, заставал Любовь Николаевну у газовой плиты. Что она там стряпала, Михаил Никифорович знать не желал. Кастрюли и сковородки она брала его, еще в марте получила на это разрешение хозяина, но теперь Михаил Никифорович наблюдал на кухне и новую посуду, металлическую, стеклянную и фаянсовую. Возникали и неловкости. Вечерами Михаил Никифорович посиживал на кухне, читал, думал, слушал «Маяк», прежде чем отправиться на ночлег в ванную и поставить там раскладушку. А сейчас он толокся в прихожей, в коридоре — но что за коридор был у них! — делал вид, что у него много занятий в ванной. Любовь Николаевна сказала ему как-то, и довольно дружелюбно: «Да проходите вы, Михаил Никифорович, или в комнату или на кухню». Но зачем было проходить в комнату? Что там делать? И зачем проходить на кухню? Общий стол у них, что ли? Не хватало этого… Да и готовились на кухне, видно, какие-то острые мясные блюда, противопоказанные печени и желчному пузырю Михаила Никифоровича. Любови Николаевне полагалось бы по крайней мере проявить такт. Но однажды она сказала: «Михаил Никифорович, сделайте наконец одолжение, присядьте к столу!» «У меня диета», — буркнул Михаил Никифорович. «Диету вы не нарушите, — сказала Любовь Николаевна. — И потом, я приготовила посинюшки. Или, если угодно, драники». Михаил Никифорович прошел на кухню. Запах был подлинный, и все же Михаил Никифорович не верил в то, что посинюшки у нее получатся. Он с войны ставил посинюшки выше всех иных блюд и полагал, что никто так не готовит их, как его мать и как он сам. Другие как будто бы и вовсе не имели права делать посинюшки. А уж эта Любовь Николаевна… «Не из новой терли? — хмуро спросил Михаил Никифорович, усевшись на табуретку. — Не из рыночной?» «Ну как вы могли подумать? — удивилась Любовь Николаевна. — Конечно, из старой. Некоторые были и проросшие». «Яйца добавляли?» — «Три яйца разбила». — «А жарили на подсолнечном?» «На подсолнечном», — подтвердила Любовь Николаевна. Михаил Никифорович подумал. «А очистки терли?» — наконец поинтересовался он. «Нет, зачем же? Очистки в мусоропроводе». «Зря, — наставительно сказал Михаил Никифорович. — Мы всегда терли и кожуру. Отмытую. И вкуснее. И полезнее. И не пропадает добро». Все-таки он выявил пороки сегодняшних кухонных трудов Любови Николаевны! Могли ли ее посинюшки сравниться с настоящими, ельховскими, коли она не терла кожуру? Нет. «Но это теперь тяжелое кушанье для меня», — сказал Михаил Никифорович. Он мог встать и уйти в коридор. Любовь Николаевна будто испугалась этого, принялась успокаивать Михаила Никифоровича: «Я вам вот что скажу, Михаил Никифорович. Я на самом деле не могу сейчас снять ваши недуги. Но средства — считайте, из трав, — какие сделают любую мою стряпню безвредной для вас, у меня есть. Поэтому не тревожьтесь…» «Вы, стало быть, со своей аптекой?» — усмехнулся Михаил Никифорович и остался сидеть. Любовь Николаевна знала, с чего начинать. Это Михаила Никифоровича отчасти насторожило.
Но посинюшки, или, если хотите, драники, или просто оладьи из тертого сырого картофеля, оказались хороши. Горячими проглатывал их Михаил Никифорович, впрочем пытаясь не уронить достоинства. Будто в Ельховке в своем доме сидел нынче Михаил Никифорович. «Ничего», — одобрил он Любовь Николаевну. «Нет, правда? — засияла она. — Вот и хорошо. А то они у меня долго не выходили. Или разваливались. Или не отлипали от сковороды. Или были недосоленные. Но я не знала, что нужно и кожуру. Я по книгам…» «Ну отчего же, — великодушно сказал Михаил Никифорович. — Можно и без кожуры. Хотя…» Он замолчал, не стал объяснять Любови Николаевне, что мать месяцами вынуждена была кормить его и других сыновей оладьями, ясно, что без добавки яиц, чуть ли не из одних очистков, но это было давно, а в поваренных книгах те очистки не стоили упоминания… Михаил Никифорович стал благодушен, что разрешило Любови Николаевне затронуть в разговоре темы недозволенные. «Я стесняю вас, Михаил Никифорович, — сказала Любовь Николаевна. — Вы из-за меня и телевизор почти не смотрите». «А там и нечего смотреть», — опять нахмурился Михаил Никифорович. «Нет, я вас стесняю, Михаил Никифорович, — продолжала Любовь Николаевна. — Мне неловко и стыдно. Я готова ночевать в ванной, а вы уж переходите в комнату. Я прошу вас…» «Все. Хватит об этом! — резко сказал Михаил Никифорович. Но, увидев, что у Любови Николаевны задрожали губы, поспешил с вопросом: — По каким книгам вы готовили? У меня нет таких книг». «Я ходила в библиотеку, — оживилась Любовь Николаевна. — Я записалась в две библиотеки. В районную, это возле метро, и в ту большую, где можно прочитать все». Какие документы Любовь Николаевна предъявляла, чтобы получить читательские билеты, она не сообщила, а Михаил Никифорович и не выказал желания узнать какие.
Ванную на комнату с телевизором он так и не поменял. Однако все же стал смотреть иные передачи. Когда программу «Время». Когда «В мире животных». Когда «В мире растений». Смотрел молча. И Любовь Николаевна, если присутствовала, деликатно молчала. А возможно, и не считала себя способной на равных с Михаилом Никифоровичем судить о тех или иных аспектах международной и внутренней жизни. Но когда показывали животных, и в особенности растения, молчать ей было нелегко, она шептала что-то или нечто говорила себе самой…
На кухню она приглашала теперь Михаила Никифоровича часто. Ее не смущали отказы, да они и не всегда следовали. Тем более что звали Михаила Никифоровича к столу и не как едока, а как дегустатора и советчика. То есть словно бы требовалась помощь его просто как постороннего человека, и тут важничать или осаживать Любовь Николаевну было неудобно. А Любовь Николаевна увлеклась поваренными книгами и кулинарными советами всерьез, готовила в охотку и ела в охотку, будто прежде ее морили голодом или вынуждали питаться концентратами из тюбиков или вообще неизвестно чем. Продукты она приносила в дом хорошие, и можно было предположить, что из нее выйдет в Москве добытчица. Правда, поначалу она обходилась картофелем, яйцами по рубль девять и вареной колбасой. Потом, жаль, лишь трижды, приносила в сетках цветную капусту. Ее, жаренную в сухарях на топленом масле, Михаил Никифорович уважал. Возбуждался у Любови Николаевны интерес и к мясным блюдам. Кулинарная эрудиция ее удивляла теперь Михаила Никифоровича. Быстро, в неделю, Любовь Николаевна будто выучила наизусть тысячи рецептов, книга Похлебкина «Национальные кухни наших народов» запомнилась ей целиком, стали ей известны и особенности кухонь заграничных, в частности она не прочь была бы приготовить петуха в вине, каким его привыкли употреблять жители исторической провинции Лангедок. Но это были знания и намерения, а на кухне Любовь Николаевна долго маялась с супом харчо. Михаил Никифорович не возражал против харчо, но разговоры Любови Николаевны об этом супе не поддерживал, давал понять, что ни посинюшки, ни цветная капуста в сухарях ничего не изменили и режим их проживания в квартире остается прежним. Однако слова Любови Николаевны о том, что она никак не может подобрать для харчо сносную говядину, Михаила Никифоровича задели. «Нужна баранина», — сказал Михаил Никифорович несколько высокомерно. «А вот и нет! — разгорячилась Любовь Николаевна. — Харчо — это суп из говядины! По-грузински „дзрохисхорци харшот“ и значит „суп из говядины“! Или даже „говяжье мясо для харчо“. Это москвичи придумали баранину!» «Не знаю, что пишет ваш Похлебкин, — обиделся за москвичей Михаил Никифорович, — а только у нас харчо делают с бараниной. Вы зайдите в кафе таксистов у Гнесинского, там харчо всегда с бараниной». Михаил Никифорович понимал, сколь зыбок его довод, построенный на вкусах московских таксистов, но продолжал стоять на своем. И убедил Любовь Николаевну. «Все! — страстно вскричала она. — Похлебкин в подметки не годится таксистам! Будем варить харчо из баранины!» Красноречие Михаила Никифоровича вызвало у Любови Николаевны игру аппетита, она тут же съела два ломтя рижского хлеба и фиолетовую луковицу.
И был сотворен в квартире на улице Королева суп харчо. Отвергнув советы Похлебкина относительно говядины, Любовь Николаевна все же согласилась с остальными составными его рецепта. Тех составных было девятнадцать. В частности, требовалось полстакана чищеных, понятно грецких, орехов. Где-то она орехи достала. Были опущены в кастрюлю и две ложки хмели-сунели, и пол-ложки семян кориандра, и две ложки зелени петрушки, и три лавровых листа, и десять раздавленных Михаилом Никифоровичем горошин черного перца. А вот со сливами ткемали или тклапи, пюре из ткемали, вышли затруднения. Не было в Москве в продаже ткемали, в прейскурантах — алычи. А харчо нуждалось в кислой основе. Михаил Никифорович предложил заменить ткемали сушеным барбарисом. Куст барбариса рос в палисаднике у его матери в Ельховке, и у Михаила Никифоровича всегда на кухне лежал пакет с рубиновыми ягодами на сухих веточках. По весне на кусте висели лимонные гроздья цветов, пахнущих странно, будто сырыми грибами, в августе же и в сентябре капли ягод горели ярче рябины и бузины. Любовь Николаевна достала банку маслин, те пошли в подмогу барбарису. Отсутствовала рекомендованная Похлебкиным щепотка имеретинского шафрана — кардобенедикта, — но и без кардобенедикта харчо удалось.
Между прочим, когда стало ясно, что харчо получилось, Любовь Николаевна опять принялась напевать. И напевала она не «Сулико», не что-либо из Брегвадзе, или Кикабидзе, или Гвердцители, а слова из репертуара Стрельченко: «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, во девичий хоровод…» Потом пошло: «Матушка родна, подай воды холодной…» При этом она взглянула на Михаила Никифоровича игриво, Михаил Никифорович игривость тут же пресек, хотя пела Любовь Николаевна приятно… Но харчо Михаил Никифорович ел с удовольствием, хвалил Любовь Николаевну. «Что вы меня-то хвалите! — сказала Любовь Николаевна. — Мы вместе готовили. Без вашего барбариса ничего бы не вышло». Любовь Николаевна сразу же поняла, что перестаралась, тут речь прямо пошла о совместном столе или о кухонном сообществе. Михаил Никифорович посерьезнел, и несколько дней отношения их с Любовью Николаевной были строгие, будто между Ливией и Тунисом. Но потом, после кабачков, фаршированных мясом и тушенных в сметане, отношения смягчились.
В те дни Михаил Никифорович и надумал отменить суды с химическим заводом. Хлопоты ему стали противны. Да и неловко было. Он мог есть вкусные и острые блюда без всяких диет, без ущерба печени и желчному пузырю, правда, дома и лишь при участии тайных приправ Любови Николаевны, но все равно — что же было ему корчить из себя инвалида?
Естественно, Михаил Никифорович задумывался: искренне ли увлечение Любови Николаевны домашними кушаньями, блюдами московских и национальных кухонь или же здесь игра и корысть? Михаил Никифорович не хотел думать о ней дурное. Любовь Николаевна не была ему противна. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну, но, когда был вынужден смотреть на нее, понимал, что она — женщина в его вкусе. А впрочем, может, все же вздумала окрутить его лукавая баба? Не хватало ему новой Мадам. Но на Мадам Тамару Семеновну Любовь Николаевна никак не была похожа. Она — теперь — была куда легче, изящнее, артистичнее, что ли, Тамары Семеновны в обращении с ним. Теперь будто все печали и заботы оставили Любовь Николаевну. С Михаилом Никифоровичем она все чаще вела себя как со старинным и доброжелательным приятелем, который ее понимает. И которого она тоже понимает и ценит. Слова произносила ласково, естественно, как будто бы без вранья и наигрыша, а если порой и кокетничала, то чуть-чуть. Михаила Никифоровича это «чуть-чуть» отчасти даже расстраивало: что же, она и за мужчину его не считает?
Положение ее в квартире Михаила Никифоровича было уже как бы установившееся. Надолго. Или навсегда. Но Михаил Никифорович решил будущего не пугаться. Убедил себя: если Любовь Николаевна станет злоупотреблять его терпением (доверием? привычкой? жалостью?) или начнет вдруг покушаться на его житейскую самостоятельность, он тут же себя отстоит, а ее вытолкает в шею из Останкина. Но пока поводов выталкивать ее в шею у Михаила Никифоровича не было. И заскучал бы он, наверное, без Любови Николаевны…
А Любови Николаевне, похоже, все более и более нравилось проживать в Москве. Возможно, бывшие пайщики, дядя Валя в частности, успокоились и не напоминали ей об условиях акта о капитуляции. Любовь же Николаевна будто никогда и не объявляла себя рабой и берегиней и тем более не выходила ни из каких бутылок. Можно было посчитать, что она на самом деле приехала из провинции и теперь попала в плен столичных прелестей и затей. И можно было предположить, что она заслужила где-то беспечный отпуск с учетом отгулов, подкрепленный к тому же финансовым листом.
Впрочем, брать у Михаила Никифоровича рубли она так и не отказалась. И когда Михаил Никифорович, подсчитав стоимость посинюшек, или драников, супа харчо на основе баранины, кабачков с мясом, цветной капусты в сухарях, слоеного пирога с вишней, протягивал ей деньги за свою долю, она и эти деньги брала без слов и жестов.
Возможно, рубли Михаила Никифоровича шли на культурную программу Любови Николаевны. Подтверждением того, что она не коренная москвичка, а с луны свалилась или и впрямь заехала из Кашина, был ее интерес к художественным и историческим ценностям столицы. После капитуляции, как только начались ее праздные дни, угомонив свои печали и недоумения, Любовь Николаевна бросилась в музеи, на выставки и в театры. Среди прочих выставок она посетила только что открывшуюся на Крымской набережной — «Сахалин и Курильские острова в произведениях московских живописцев», где на полотнах уже известной ей художницы Жигуленко увидела девушек с острова Шикотан, острыми ножами разделывающих рыбу сайру. Конечно, Любовь Николаевна побывала и в Третьяковке, и в ГМИИ, и в Музее народов Востока, и в Историческом, и в «Палатах боярина» в Зарядье, где ей понравился глобус боярина и собрание самоваров. Поддавалась она мегафонным уговорам экскурсионных бюро, ездила по Москве в просветительских автобусах. Видела хвост лошади Юрия Долгорукого, голубей на плечах Тимирязева. Однажды у Кузнецкого моста Любовь Николаевна вскочила в автобус литературного маршрута «Марина Цветаева в Москве». Выслушав истории экскурсоводши, она и сама взволновалась. Следуя этикету их с Михаилом Никифоровичем отношений, прежде она почти ничего не рассказывала ему о своих московских впечатлениях. А тут принялась говорить ему о квартире Цветаевых на улице Писемского, о картине Врубеля «Пан», о золоте инков, об актере Александре Голобородько, виденном ею в Малом театре по билету, купленному с рук. Михаил Никифорович то ли был не в настроении, то ли ничего не мог сказать о квартире Марины Цветаевой и актере Голобородько, пробурчал что-то лишь о Врубеле. И замолк. Более о своих походах по Москве Любовь Николаевна ему не говорила.
Михаил Никифорович догадывался, что Любовь Николаевна не пролетает и мимо магазинов, в каких продаются шляпки, помады, туфли, серьги и прочая бижутерия. Известно, и прежде менялись наряды Любови Николаевны, — в ту пору, мы предполагали, она искала свой московский образ. Но ранние вещи Любови Николаевны возникали как бы из воздуха, в воздухе же они и исчезали или висели там на невидимых вешалках. В шкафу и в чемодане, во всяком случае, Любовь Николаевна их не держала. Очевидно, те вещи были как бы служебной формой. Теперь же, считал Михаил Никифорович, в квартире стали появляться вещи Любови Николаевны личные. Эти-то были точно из московских магазинов. Однажды Михаил Никифорович допустил бестактность, поинтересовавшись, пусть даже без зла и укора: «Вы все по городу ходите. Вы что — в отпуске? Или на каникулах?» «Я не в отпуске. И не на каникулах, — сердито ответила Любовь Николаевна. — Я не у дел. И вы знаете почему». Михаил Никифорович тогда чуть было не спросил, долго ли Любовь Николаевна предполагает быть не у дел, в томлении натуры, но не спросил, боясь, как он понял позже, Любовь Николаевну спугнуть.
Однако испытывала ли Любовь Николаевна, будучи не у дел, томление натуры (когда-то Петр Великий уходил от сражения со шведами, дабы вызвать томление натуры сорвиголовы Карла, и притянул того к Полтаве)? Не вызывала ли она сама в ту пору томление иных личностей, скажем Михаила Никифоровича? Или дяди Вали?.. Но оставим пока эту тему.
Как-то Любовь Николаевна высказала на кухне сожаление об австрийских сапожках, о том, что не удалось купить их. Михаил Никифорович предложил ей деньги, у кого-нибудь он полагал их на время одолжить. У Добкина, например. Любовь Николаевна растрогалась, но сказала, что он не так понял, что ее сожаление вызвано не отсутствием денег, а безобразной очередью. «Что — деньги! — нервно сказала Любовь Николаевна. — С ними мы разберемся позже!» Кто «мы», Михаил Никифорович уточнять не стал.
Сапоги австрийские Любовь Николаевна не купила. Они были зимние, а холода еще не пришли. Первыми обновками стали ситцевые платья, серьги с бирюзовыми стеклышками, туфли на среднем каблуке, тапочки для дома, вызвавшие у меня мысли о черевичках. Вместе с этими черевичками она купила и тапочки для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович и при Мадам Тамаре Семеновне тапочки надевал редко, лишь когда был в чем-то виноватый и испытывая при этом утеснение. К вечерним шлепанцам, пижамам он, крестьянский сын и бывший матрос первой статьи, относился с высокомерием. Из теплого белья носил лишь тельняшку. Тапочки, преподнесенные ему, он готов был отправить в мусоропровод. Но посчитал, что они не его собственность, а Любови Николаевны, и распоряжаться ими он не волен. Вышло так, что в жаркий день Михаил Никифорович, приняв душ, сунул ноги в тапочки. И позже их надевал. Сколько они стоили, он не знал и денег Любови Николаевне за них не предложил, решив, что его вещью они стать не должны, а он будет как бы арендатором тапочек. Но чувствовал, что ни с того ни с сего покорился чуждой ему вещи…
А Любовь Николаевна вскоре принялась вслух, но как бы между прочим замечать, что в квартире Михаила Никифоровича многого не хватает. То есть и мебель бы надо иметь другую, а уж коли жить со старой, то ее следовало бы переставить по-другому, и прочее и прочее. Понятно, что замечания были пресечены Михаилом Никифоровичем. Покупки же Любови Николаевны Михаил Никифорович рассматривал, но оценку им давал по принуждению и из вежливости. Для красивой женщины все могло оказаться хорошим, дура же и страшила способна и туфли Золушки превратить в потертые калоши. Из Любови Николаевны получалась нынче красивая женщина. А потому и одобрительные оценки его («Да, ничего…», «Да, нормально…») чаще всего не были несправедливыми или фальшивыми.
Сложности случались, когда Любовь Николаевна возвращалась с пакетами из отделов нижнего белья. Когда-то весной она могла разгуливать вблизи Михаила Никифоровича чуть ли не нагишом, не видя в том ничего зазорного. Может, она и вообще не знала, что за звери такие мужчины. И Михаил Никифорович смотрел на нее тогда как на существо условное, по свойствам не лучше привидения. Теперь же Любовь Николаевна стала стыдливой. И хотелось ей похвастаться чем-то, и неловко было. Но не терпелось оглядеть себя в новом одеянии, и она просила Михаила Никифоровича не заходить в ванную и там, в ванной, вертелась подолгу перед зеркалом. Что при этом пела, Михаил Никифорович не ведал. Однажды лишь услышал: «…под роскошным небом юга сиротеет твой гарем». С этими словами, как помнил Михаил Никифорович, в опере Глинки Людмила с просьбой вернуться к делам в родные края обращалась к Ратмиру, находившемуся в любовных заблуждениях. Михаил Никифорович предположил, что Любовь Николаевна недовольна покупкой. Действительно, бангладешские шальвары оказались с порчей, Любовь Николаевна тут же понеслась менять их.
Как-то она сказала Михаилу Никифоровичу: «В очереди говорили, что в Европе не носят лифов». И тут же смутилась. И не от взгляда Михаила Никифоровича, наверное, а от мыслей тайных и желаний. Какие возникают от туманов. Или потому смутилась, что позволила себе неприличное. До отлучения от дел Любовь Николаевна виделась нам и властной, и способной воспитывать в саду и в яслях, а то и дрессировать кого следует, сила, хватка и жесткость деловых женщин, хорошо известных нам, проглядывали в ней. Такой даме в дни церемоний и служб пошли бы серые костюмы английского покроя с бостоновыми пространствами для положенных наград. Теперь Любовь Николаевна порой сама походила на тех, кого следовало дрессировать. Шаловливая становилась и легкомысленная. Или дурашливая. Михаил Никифорович имел поводы опасаться, как бы она чего не учудила. И не вызвала административных решений. Нет, не вызвала… Либо тушила в себе пожары, либо ощущала чьи-то запреты и собственные слабости. Иногда она выглядела и растерянной, чуть ли не беззащитной. Не он ли, Михаил Никифорович, должен был стать ей щитом и оплотом?.. Но случались мгновения, когда Любовь Николаевна огнем глаз своих, движениями то ли дикого зверя — рыси на морозе, или выдры в промоине, или горностая на сосне, — то ли парящего баклана, то ли пенной волны обещала вдруг стать стихией буйной и громкой, пуститься в разгул, промотать состояния и наследства, раскачать Останкинскую башню, сокрушить поднебесные горы…
Михаил Никифорович имел вечерних приятельниц, о чем было сказано. До одной из них, как помнится, он не донес цветы, отчего Любовь Николаевна обрела силу. Когда Михаил Никифорович не ленился, не уставал от бесед с останкинскими знакомыми, он иных своих приятельниц посещал. Одну чаще. Другую реже (приятельница, до которой он не донес цветы, ему более не звонила). Теперь же он стал чуть ли не домоседом. Себе удивлялся. Что это с ним? То, что он полагал стеречь Любовь Николаевну и уберегать ее от безрассудств, в объяснения не годилось. Что ее стеречь? И как бы он уберег? Тянуло теперь его быть рядом с Любовью Николаевной. Блажь какая-то, глупость, а вот тянуло. Любовь Николаевна волновала его. И будто дитя случая, игривое и забавное. И будто женщина.
Михаил Никифорович вспоминал, как он делал укол Любови Николаевне. Как вводил густую, словно желе, коричневую жидкость лешьего происхождения в ягодные ее места. Как ощутил он пальцами ее кожу, плотную и нежную, чуть шершавую… Мыслями он нередко возвращался в те мгновения и, возвратившись, корил себя за нескромные мысли. Однако мысли его не были нескромными. Скорее они были возвышенными…
Понимала ли его состояние Любовь Николаевна? Порой Михаилу Никифоровичу казалось, что понимала. Иногда же она, несмотря на свою стыдливость, вела себя так, словно бы и впрямь не знала, зачем в мироздании мужчины и женщины. А как-то, вся сияющая, принесла из Петровского пассажа купальник, будто завтра ее ждали пески и гальки морских побережий. И купальник, а значит, и Любовь Николаевну в купальнике Михаил Никифорович должен был рассматривать. Каково ему приходилось…
Любовь Николаевна успела загореть. Где и как — ее было дело. Наблюдая ее в бикини, Михаил Никифорович мог понять, что белых пятен на теле Любови Николаевны не осталось. Не проглядывались и белые полоски. Загар был ровный, светло-бронзовый, для антикварных магазинов. Тело Любови Николаевны нельзя было признать худым, видимо, сказались ее аппетиты и кулинарные успехи. Но Любовь Николаевна и не располнела, была спортивна. При этом линии ее тела казались мягкими, овальными, как бы ленивыми, словно бы Любовь Николаевна всерьез занималась синхронным плаванием. И дядя Валя засомневался бы сейчас в том, что она полая. Но если бы, скажем, он подумал, что Любовь Николаевна была где-то отлита, оттерпела прессформу и вышла изделием массовой продукции (рост — 170 см, вес — 72 кг, ясно, не тощая), то он бы ошибся. Явно выказывалось теперь в ней свое, противное стандарту. И Михаил Никифорович это видел. Чуть широки были ее бедра, с подбором джинсов могли возникнуть у нее и затруднения. А грудь Любови Николаевны не только вызывала мысли о кипении страстей, но опять же давала основания полагать: выкормит близнецов. А при поддержке профсоюзов и государства — и четверых. Михаил Никифорович видел теперь в Любови Николаевне женщину особенную. Родинки углядел он и на ее спине над левой лопаткой. Прежде их будто бы не было. И на руке ее открылись ему две оспинки, словно следы от школьных прививок. От каких прививок?.. Но эти две детские оспины Михаила Никифоровича растрогали. Ближе и земнее, казалось, стала ему Любовь Николаевна…
Словом, нелегкими выдались для Михаила Никифоровича примерка и показ купальника. Любовь Николаевна на его глазах вставала и под душ, желая провести испытание ткани, ахала в струях от удовольствия. «Что она, издевается, что ли, надо мной? — думал Михаил Никифорович. — Или устраивает искушение, посчитав меня каким-нибудь Антонием или Иеронимом?» Антония и Иеронима Михаил Никифорович знал по картинам и репродукциям, там они сидели немощными старцами. Ветхими деньми. Искушать таких можно было долгое время. Все равно что раскачивать водосточную трубу с намерением натрясти груш. Михаилу же Никифоровичу следовало усмирять плоть.
Михаил Никифорович закрыл тогда дверь в ванную, достал сигареты. «Куда же вы?» — услышал он. Голос у Любови Николаевны был охрипший, смешной, а потому и особенно волнующий. В день укола Любовь Николаевна кушала пломбир будто из-под палки, потом ей понравилось московское мороженое. Накануне она его переела и охрипла. «Нет, это не женщина, — решил Михаил Никифорович. — Это — чучело женщины. Или макет. В натуральную величину». Но хорош был он, рот разинув на это чудо природы! Михаил Никифорович ушел тогда из дома и до ночи бродил аллеями Останкинского парка.
Два дня Любовь Николаевна холодно и небрежно здоровалась в коридоре с Михаилом Никифоровичем. Потом отошла. А когда купила махровое платье, голубое, с молниями, не смогла не познакомить с ним Михаила Никифоровича. «Смотрите, махра какая плотная. И недорого. Всего сорок пять рублей!»
А потом принесла ткани для занавесей и ламбрекенов. И еще что-то в пакетах. Я уже рассказывал…
Я ушел. Любовь Николаевна хлопотала над тюлями и льном. А Михаил Никифорович пребывал в недоумениях.
Украшать квартиру он Любовь Николаевну не просил. Покупать себе сарафаны, колготы, серьги Любовь Николаевна была вольна. Тут — ее дело. Но тащить в дом без спроса какие-то занавеси, да еще вынуждать его плестись в ателье проката за швейной машинкой, это уж… Впрочем, Михаил Никифорович вспомнил о тапочках, какие были на его ногах, и его коммунальная позиция показалась ему зыбкой.
— Вы, Михаил Никифорович, извините меня, — сказала Любовь Николаевна, — что я купила, не посоветовавшись с вами…
— Да нет, почему же, — неуверенно сказал Михаил Никифорович, — наверное, с ними комната будет выглядеть лучше…
— Конечно лучше! Конечно! — быстро согласилась с ним Любовь Николаевна. — И лучше будет, и наряднее, и приветливее! Вы сами увидите! И на кухне мы с вами устроим занавески. Может, и с вышивками. Или с кружевами.
— С какими еще кружевами… — напрягся было Михаил Никифорович, и кружева и в особенности украшения на кухне подтолкнули его к умеренному протесту, но Любовь Николаевна договорить ему не дала.
— Необязательно с вологодскими, — с пылом стала она просвещать Михаила Никифоровича. — Есть еще калужские кружева, у них крупный рисунок, и потому они скорее подойдут к окнам. И есть елецкие кружева. И есть закарпатские…
Любовь Николаевна, видно, торопилась домой от Никитских ворот, ехала в горячих троллейбусах с пересадкою на Трубной площади и сама была теперь жаркая, словно распаренная, капельки пота поблескивали на ее щеках и над верхней губой, и Михаил Никифорович подумал, что сейчас она определенно не чучело и не макет. В присутствии такой женщины он готов был примириться с кружевами, ламбрекенами, швейной машинкой и переустройством квартиры… А Любовь Николаевна тем временем занялась пакетами.
Стояла она теперь спиной к Михаилу Никифоровичу. По Москве из-за теплыни Любовь Николаевна сегодня гуляла в васильковой блузке, называемой ею топ. Спина и грудь этой блузой были почти открыты, лишь две бретельки проходили возле трепетной шеи. И родинки над лопаткой Любови Николаевны были видны Михаилу Никифоровичу, и две оспины от прививок на левой ее руке. Михаилу Никифоровичу захотелось погладить эти оспины словно бы с намерением уберечь, охранить от чего-то Любовь Николаевну. Он шагнул к ней и коснулся пальцами ее руки. Любовь Николаевна будто не поняла, что случилось, до того она была занята пакетами, она лишь слегка повернула голову, сказала в удивлении: «Что вы, Михаил Никифорович? Что это с вами?» Михаил Никифорович тут же отпустил руку, отступил от Любови Николаевны, хотел было опять уйти на кухню, а потом в дубравы и кущи Останкинского парка, но Любовь Николаевна теперь совсем повернулась к нему, она словно бы забыла о тюлях и пакетах… В глазах ее высвечивались интерес к Михаилу Никифоровичу и его порыву, бесшабашная решимость и нестерпимость желания…
— Что же вы отошли, Михаил Никифорович? — спросила она.
Теперь она шагнула к Михаилу Никифоровичу. И он шагнул к ней. Он обнял Любовь Николаевну и встретил ее губы. Язык ее коснулся языка Михаила Никифоровича. Нет, не чучело была Любовь Николаевна…
— Погодите, — вдруг вынырнула она из его рук. — Я ведь с улицы. Из очереди и троллейбусов. Я сейчас…
Дверь в ванную она за собой защелкнула, воду же, как стало казаться Михаилу Никифоровичу, включать не спешила, может, вообще решила спрятаться от него, превратить ванную в крепость — в Нарву какую-нибудь или в Седан, — способную выдержать его осаду и штурм. Михаил Никифорович ходил по коридору в досаде, надеясь, что желание его пропадет. Оно не пропадало. И когда зашумела, заплескалась за дверью вода, досада Михаила Никифоровича не прошла. Он уважал женщин-чистюль. Но все равно, если бы была страсть, обо всем можно было бы и забыть, что тут церемонии, привычки, правила! Что тут теплынь и запахи от очередей и троллейбусов!.. Стихла вода, но Любовь Николаевна не выходила еще минут двадцать. Теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Зачем ему все это? Зачем? Но когда дверь приоткрылась и возникла Любовь Николаевна, приветливая, душистая, при всех своих красотах, досада и сомнения покинули Михаила Никифоровича.
25
В конце сентября в Останкине на столбах и стенах, отнимая место у робких бумажек с пятью или шестью телефонными хвостами: «Меняю квартиру», «Продаю стиральную машину…» — появились написанные от руки приглашения присутствовать — кто пожелает — на играх в пруду под башней дрессированного ротана Мардария о четырех лапах. Под приглашениями стояла подпись: «Д-р Шубников». А приглашения, надо полагать, клеил названный на бумажке консультантом кандидат физико-математических наук Бурлакин.
В назначенный час публика притекла к пруду под башней. К зрелищам здесь привыкли. То станут доставать утопленника из останкинских вод. То пройдет регата ребячьих яхт, и родители на берегах возрадуются. То явятся к пруду, а это уже не пруд, а река Миссисипи, или голубой Дунай, или Венский лес, или отроги Карпатских гор, ковбои, мечтающие о Роз-Мари, либо красотки кабаре, либо драгуны, либо цыгане при бароне-путешественнике, либо хлопцы с гуцульскими трубами в руках, и засуетятся операторы, готовя угощения для цветных экранов.
Ничего странного не было и в играх на пруду воспитанного Шубниковым ротана Мардария.
Я помнил, что Шубников бранил и Бурлакина и ротана, тот и жрал много, и не рос, и не оправдывал надежд Шубникова. Что же, стал теперь оправдывать? Правда, говорили, что как-то Шубников похвалялся, будто ротан статями догоняет сенбернара, но в Останкине преувеличениям Шубникова мало кто верил.
В публике я не увидел ни Михаила Никифоровича, ни Любови Николаевны. А дядя Валя и Каштанов присутствовали.
Над Останкином, как, впрочем, и над всей серединной Россией, происходило сражение стихий. Сражения эти случались в последние годы часто. Нынче уныло двигался к югу циклон с Ямала, гнал с собой студеные воздухи и ветры от карских льдин, намерен был выжать, проморозить теплые слои и потоки, четыре дня радовавшие московских жителей. Но и никак не мог одолеть южанина. А потому то открывалось голубоватое, как бы намазанное сметаной небо, то проносились низкие, с хмурью и придурью облака, на клумбах вблизи пруда гнулись лиловые, розовые и белые астры, теряли лепестки, сгибались стебли георгинов, находила тоска поздней прощальной осени. И ряби возникали на серой воде Останкинского пруда. Тревожно в те минуты было.
Но южный антициклон пятнадцатикилометровым добродушным толстяком все еще стоял над Москвой и погибать или уходить не собирался. Однако и при нем возникали тревоги…
Шубников с Бурлакиным принесли к пруду ящик, сбитый из фанеры, на носилках… Меня однажды угощали вяленым ротаном предельных, по уверению знающих рыбаков, форм. Рыбаки эти относились к ротанам с ненавистью. И кляли дураков, которые ради развлечения привезли с Дальнего Востока эту окунеобразную головешку. Ротан, по их рассказам, мог зимовать в подледных условиях чуть ли не совсем без кислорода. А потом, бодрый, поедал мальков всех пород, освобождая для себя жизненное пространство. Потому-то во многих московских и подмосковных водоемах и остался один ротан с башкой, наглыми глазами и более ничем. Помню, что вяленый ротан оказался плохой закуской к пиву. Игры же ротана, пусть и дрессированного, на мой взгляд, уместнее было бы показывать либо в ванной, либо во дворе — в тазу или в ведре. А Шубников и Бурлакин вели себя так, будто были намерены предъявить публике ботик Петра.
Купальщиков в пруду было немного, их попросили плавать у южного берега, лицом к Марьиной роще и Садовому кольцу. Там же стояли и юные рыболовы. Из воды они в моменты удач вытаскивали исключительно ротанов, предназначенных для поощрения домашних животных. В публике стали предполагать, что и ротан Шубникова скоро будет адресован какой-нибудь свирепой кошке черной масти. Шубников с Бурлакиным молчали, было в их лицах высокомерие.
Они держали паузу. Создавали напряжение. Или ждали кого-нибудь важного.
Видимо, не дождались. И не вызвали напряжения. Но вызвали нетерпение публики. Стали раздаваться реплики, нелестные для Шубникова и Бурлакина. Реплики эти Шубникова и Бурлакина, несдержанных прежде бузотеров, не тронули. Возможно, их высокомерие и спокойствие были чем-то обеспечены. Не завладели ли нынче Шубников с Бурлакиным секретным оружием?
Но вот Бурлакин посмотрел на солнце, послюнявил палец и, подняв руку, изучил силу и направление ветра. Ветры, наверное, были те, что надо. Бурлакин кивнул Шубникову. Шубников подошел к ящику на носилках, откинув одну из стенок.
— Алле! — приказал Шубников.
Из ящика выпрыгнуло животное, поклонилось публике и башне и смиренно отнесло в пасти поводок Шубникову. Поводок тянулся к металлическому ошейнику.
— Халтура! — закричали. — Это псина! Это эрдель!
Мне тоже в первые мгновения показалось, что из ящика явилась собака, возможно, и эрдельтерьер, а возможно, и пудель. Лапы животного по длине, во всяком случае, подошли бы и эрдельтерьеру и пуделю. Однако шкура животного была странно гладкая. И блестящая. Я вспомнил о недавних связях Шубникова со скорняками. Возможно, он предназначил для дрессуры, а потом и для обмана останкинской публики явно выморочного эрдельтерьера или пуделя. Но это были мысли первых мгновений. А скоро стало ясно, что перед нами рыба на лысых песьих лапах. И имя ей несомненно Мардарий. И это была рыба ротан.
Шубников без суеты привязал к поводку конец альпинистской веревки. Понятно, не ошейник был на рыбе, шеи она, как положено, не имела. Не суетился и ротан Мардарий. Степенно ждал команды укротителя. А когда команда («Алле! Отдать швартовы!») последовала, ротан оживился и с радостью бросился в серые воды. Юные рыболовы на южном берегу тут же повыдергивали удочки из водоема. Ротан и сейчас показал, что уважает Шубникова, и принялся подражать дельфинам батумской школы. Он выпрыгивал из воды, прижимая передние лапы к брюху, создавал хвостом волну, принимал носом подбрасываемый Бурлакиным резиновый мяч — то есть какой у него нос! острием своей примечательной головы, — высоко подкидывал его, тут же открывал для приема мяча пасть, но не проглатывал и не раскрамсывал, а крутил его чем-то, возможно зубами и губами, и после серии упражнений отправлял мяч метров на шесть вперед в руки к Бурлакину. В публике кто-то пожалел дрессированное животное, младшего братишку, посчитал его утомившимся, попросил:
— Дайте ему просто поплавать! Искупаться дайте!
Ротан высунул морду, с одобрением посмотрел на просителя и с надеждой на Шубникова. Но укротитель был строг. Покачал головой.
— Ну хоть рыбешкой его наградите! — не унимался впечатлительный зритель. Это был финансист Моховский, известный своей привязанностью к невидимым миру бегемотикам. — Чтоб он ластой по пузу похлопал. Как морской лев!
— У него не ласты. У него длани, — сказал Шубников.
Поняв, что в просьбе заступнику отказано, ротан утонул.
Бурлакин тут же стал дергать веревку, напоминая ротану об его исполнительском долге. Ученая рыба, восприняв сигнал, показалась и продолжила игру с мячом. Многие подумали, что дрессированный-то ротан дрессированный, но, видно, еще озорник, молод и глуп, может надерзить укротителю и консультанту, а то и проявить неразумную пылкость самостоятельности. И как тут без веревки? Однако дальнейший ход выступлений ротана показал нам, что веревка в руках Бурлакина орудие символическое. Или имеет смысл, нам не открытый.
Но пока ротан играл с мячом. Он повернулся на спину, поднял мокрые лапы, получил от Бурлакина еще два мяча, голубой и зеленый, стал жонглировать тремя предметами. Кое-кто на берегу принялся поддерживать его аплодисментами. По лицу Шубникова можно было понять, что все это пока пустяки и нечему удивляться. А Мардарий исполнял для нас упражнения с булавой, лентой, обручем и квасной бочкой. Бочку он крутил и подбрасывал задними лапами. Или нижними конечностями, кто знает. Делал он и номера из водяного цирка. Садился и на деревянный велосипед. Держал лапами зонтик. Наконец после секундной паузы подплыл к берегу и, получив из рук Бурлакина губную гармонику, прижал ее к пасти.
— Алле! — уже и не приказал, а попросил Шубников.
Ротан дернулся, возмутив воду. И возник звук.
— Алле! — закричал Шубников.
Мардарий опять подул в гармонику. Следовали новые «алле» Шубникова и новые звуки. Впрочем, одни и те же. Ожидаемого разнообразия не получалось. Может, Шубников не смог дать ротану приличное музыкальное образование, может, способности его как педагога были
сомнительными, что же он теперь кричал на рыбу? Но тут Мардарий заиграл, и мы услышали музыкальную фразу, вернее, отрывок из нее. Однако и отрывка этого было достаточно, чтобы понять: ротану или его учителю была хорошо известна мелодия песнопения «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе…». Или же другого: «Соловей российский, звонкий птах…»
— Браво, Мардарий! Браво! — закричал Шубников.
— Во дает! — шумели в публике.
Надо сказать, что ценители разошлись в определении мелодической основы исполненной на гармонике пьесы. Некоторые считали, что тут чувствуются темы Аедоницкого. Другие говорили, нет, это Журбин. Называли и Людмилу Лядову, и Эдуарда Ханка, и Паулса. Выкрикивали и названия на английском языке. Серьезные же люди утверждали, что рыбу определенно вдохновил композитор Шаинский. Вспоминали даже полонез Шаинского. Одним словом, все были довольны, и пришло время для поощрений ротана Мардария.
Тут обнаружилось, что помимо фанерного ящика к пруду был принесен заранее и упрятан до времен в кусты крупный мешок с угощениями. Жестами ротана подозвали к берегу. Ротан подплыл и открыл пасть. И мы увидели, какие у него челюсти и зубы. Бурлакин развязал мешок, а Шубников стал бросать угощения ротану. Кидал он металлические предметы из тех, что могли порадовать заготовителей вторичного сырья. Какие-то ржавые и гнутые ломы, цепи, сковороды, ободы автомобильных колес, листы кровельного железа. Ротан ловил угощения пастью, как раньше мячи, кромсал, дробил их зубами и проглатывал. Потом из хозяйственной сумки Бурлакин начал доставать стеклянные банки, бутылки из-под вин, кефира и растительного масла.
— Их же сдавать можно! — возмутился таксист Тарабанько.
— У горлышек отбитые края, — успокоил его Бурлакин.
Стекло ротан жевал с хрустом, вызывавшим у многих зависть и ощущение голода. Мешок и сумка обмякли. Бурлакин перестал повторять:
— Ай, браво, Мардарий! Ай, браво!
Шубников задумался.
— Алле! — сказал он, вскинул руку и повелел ротану плыть в южную сторону, опять в направлении Марьиной рощи. Следовало ожидать особенного номера.
Может, требовался барабанщик, чтобы дробью сопроводить искусство Мардария. (Мне при этом вспомнилось: «Ни в Брабанте, ни в Трабанте нет барабанщиков таких, как у нас».)






