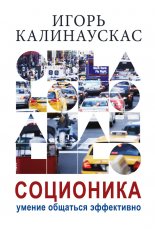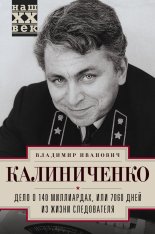Все вечеринки завтрашнего дня Гибсон Уильям

– Это я и имею в виду. Ты же из Орегона, верно?
– В каком-то смысле, — сказала Шеветта.
– Ты когда-нибудь думала об актерской профессии? — Тесса перевернула бутылку вверх дном. Раздавленный ломтик лайма попал в горлышко. Несколько капель пива упало на исцарапанный черный пластик стола. Тесса засунула в бутылку мизинец правой руки и попыталась выудить ломтик.
– Нет.
– Ты нравишься камере. У тебя такое тело, что тебя парни лизать готовы.
– Отстань, — сказала Шеветта.
– Как ты думаешь, почему они поместили на веб-сайт твои фотографии с вечеринки 18 — там, в Малибу?
– Потому что напились, — сказала Шеветта. — Потому что у них просто нет занятия получше. Потому что они — студенты и изучают медиа.
Тесса выудила из бутылки остатки лайма.
– Все три ответа верны, — сказала она, — но все-таки главная из причин — твоя внешность.
За спиной Тессы, на одном из стенных экранов "Грязного Господа", сделанных из вторсырья, появилась очень красивая молодая японка.
– Посмотри на нее, — сказала Шеветта, — вот это внешность, верно?
Тесса глянула через плечо.
– Это Рэи Тоэи, — сказала она.
– Ну, так вот, она красива. Она.
– Шеветта, — сказала Тесса, — она же не существует. Такой девушки нет на самом деле. Это код. Пакет программ.
– Не может быть, — сказала Шеветта.
– Ты что, не знала об этом?
– Но она же сделана с кого-то, верно? Что-то типа обработки живой киносъемки.
– Ни с кого, — сказала Тесса, — из ничего. Она — это настоящий обман. Нереальна на сто процентов.
– Тогда это то, чего хотят люди, — сказала Шеветта, глядя, как Рэи Тоэи грациозно плывет по какому-то ретро-азиатскому ночному клубу, — а не какую-то экс-курьершу на велосипеде из Сан-Франциско.
– Нет, — сказала Тесса, — ты все понимаешь в точности наоборот. Люди не знают, чего хотят, пока не увидят. Каждый объект желания — это найденный объект. Традиционно, во всяком случае.
Шеветта взглянула на Тессу поверх пустых пивных бутылок.
– К чему ты клонишь, а, Тесса?
– Документалка. Она должна быть про тебя.
– Забудь об этом.
– Нет. Я уже вижу все в голове, грандиозный успех. Ты мне нужна для фокусировки. Мне нужно то, что сцементирует рассказ. Мне нужна Шеветта Вашингтон.
Шеветта уже начала потихоньку пугаться. И от этого разозлилась.
– Разве ты не получила грант на конкретный проект, о котором рассказывала? Про все эти штуки с промежуточными…
– Слушай, — сказала Тесса, — если проблема в этом, а я этого не говорю, то это моя проблема. И это — совсем не проблема, это — возможность. Это — шанс. Мой шанс.
– Тесса, ты меня ни за что не заманишь играть в твоем кино. Ни за что. Понятно?
– "Игра" здесь не при чем, Шеветта. Все, что тебе нужно делать — это быть собой. И для этого потребуется выяснить, кто же ты на самом деле. Я сниму фильм о том, как ты выясняешь, кто ты на самом деле.
– Не снимешь, — сказала Шеветта, встав и чувствительно стукнувшись о платформу камеры, которая, стало быть, спустилась до уровня ее головы, пока они разговаривали. — Останови ее! — она яростно шлепнула "Маленькую Игрушку Бога".
Четыре других клиента забегаловки "Грязен Господь" просто скользнули по ним взглядом.
16. ПОДПРОГРАММЫ
Эта дыра в сердцевине личности Лэйни, это подспудное отсутствие, как он начинает подозревать, есть не столько отсутствие части его Я, сколько отсутствие Я как такового.
Что-то случилось с ним после спуска в картонный город. Он начал понимать, что раньше у него не было в каком-то немыслимом и буквальном смысле никакого Я.
Но что же там тогда было? — недоумевает он.
Подпрограммы: неадаптированные поведенческие подпрограммы выживания, отчаянно стремящиеся сконструировать существо, которое будет бесконечно приближаться, — но никогда им не станет, — к настоящему Лэйни. Раньше он этого не знал, хотя уверен, что всю свою жизнь подозревал, что с ним происходит что-то безнадежно и в корне не то.
Что-то упорно твердит ему об этом. Кажется, это что-то — в самом центре монолита "Дейтамерики". Возможно ли это?
Но вот он, сегодняшний, лежит в куче спальных мешков, в темноте, как будто в самом сердце земли, и за картонными стенами — стены из бетона, покрытые керамической плиткой, а за ними — опорная основа этой страны, Японии, и дрожь поездов как напоминание о тектонических силах, о смещении платформ континентов.
Где-то глубоко внутри Лэйни тоже что-то смещается. В нем присутствует движение и потенциал еще более великого движения, и он удивляется, почему это его больше не пугает.
И все это в некоем смысле есть дар болезни. Не кашля, не лихорадки, но того, другого, подспудного не-здоровья, которое он считает результатом действия 5-SB, проглоченного им полжизни назад в сиротском приюте Гейнс-вилля.
Мы все были добровольцами, думает он, намертво вцепляясь в шлем и прыгая вслед за своим взглядом с края утеса данных, ныряя все глубже рядом с плоскогорьем кода, его поверхность состоит из фрактальных полей информации, которые, как он начал подозревать, скрывают некую мощь или даже разум, превосходящий его понимание.
Что-то — существительное и глагол одновременно.
Тогда как Лэйни, ныряльщик, широко раскрывший глаза от давления информации, воспринимает себя как просто прилагательное: мазок "цвета Лэйни", абсолютно бессмысленный вне контекста. Микроскопический винтик в каком-то катастрофическом замысле. Но ввинченный, как он чувствует, в самый центр.
Решающий.
Это и есть та причина, по которой "спать" — неприменимая более опция.
17. ЗОДИАК
Они — черный мужчина с длинным лицом и белый толстый мужчина с огненной бородой — отводят Силенцио, голого, в комнату с мокрыми деревянными стенами. Оставляют его одного. Горячий дождь хлещет сверху из дырочек в черных трубках из пластика. Хлещет еще сильнее, жалит.
Они унесли его одежду и обувь в пластиковом мешке, затем толстяк приходит обратно, дает ему мыло. Он знает про мыло. Он помнит и теплый дождь, который хлестал из трубки тогда, в Лос-Прожектосе, но этот дождь лучше, и он здесь один в большой комнате, обитой деревом.
Силенцио с полным брюхом еды, он трет себя мылом снова и снова, потому что они так хотят. Он яростно намыливает голову.
Он закрывает глаза от жгучего мыла, и перед его внутренним взором в боевом порядке построились часы под зеленоватым, кое-где поврежденным стеклом, будто рыбы, вмерзшие в озерный лед. Яркие блики стали и золота.
Его захватил непостижимый порядок — многозначный факт присутствия этих волшебных предметов, их нескончаемые различия, их специфические особенности. Бесконечное разнообразие, воплощенное в циферблатах, стрелках, циферках часовой разметки… Ему нравится теплый дождь, но ему отчаянно хочется вернуться, увидеть больше, услышать слова.
Он стал словами, тем, что они означают.
Стрелки "брегет". Расписной циферблат. Ушки "бомбей". Оригинальная головка. С дарственной надписью.
Дождь стихает и прекращается совсем. Толстяк, обутый в пластиковые сандалии, приносит Силенцио большую сухую тряпку.
Толстяк пялится на него.
– Часы, говоришь, ему по нраву? — спрашивает он у черного.
– Да, — отвечает чернокожий, — кажется, он любит часы.
Бородатый и толстый обертывает Силенцио полотенцем.
– А он умеет по часам узнавать время?
– Не знаю, — отвечает черный мужчина.
– Ну, — говорит бородатый толстяк, — пользоваться полотенцем он, похоже, не умеет.
Силенцио чувствует замешательство, стыд. Он смотрит в пол.
– Оставь парня в покое, Энди, — говорит черный. — Дай мне те шмотки, что я принес.
Имя чернокожего Фонтейн. Точно слово на языке Лос-Прожектоса, означающее "вода". Теплый дождь в деревянной комнате.
Вот Фонтейн ведет его по верхнему уровню, где одни люди кричат, потому что торгуют фруктами, мимо других, продающих старые вещи, разложенные на одеялах, туда, где другой тощий черный мужчина стоит и кого-то ждет рядом с пластиковой корзиной. Корзина перевернута, дно залатано пеной и драной серебряной пленкой, а этот мужчина одет в полосатую штуку из ткани, с карманами спереди, из карманов высовываются ножницы и еще штуки, похожие на ту штуку, которой Крысук любил без конца чесать свои волосы, когда ему удавалось добиться правильного баланса между черным и белым.
На Силенцио одежда, которую ему дал Фонтейн: она велика, болтается, она чужая и она вкусно пахнет. Фонтейн дал ему ботинки из белой ткани. Слишком уж белой. От них глазам больно.
От мыла и теплого дождика волосы у Силенцио стали тоже какие-то странные. Фонтейн приказывает Силенцио сесть на корзину, а этот мужчина начинает стричь ему волосы.
Силенцио дрожит, а черный тем временем чиркает по его волосам одной из штук Крысука, которую достал из кармана, и что-то бормочет сквозь зубы.
Силенцио поднимает глаза на Фонтейна.
– Все о'кей, — говорит Фонтейн, снимая обертку с маленькой острой палочки и засовывая ее в угол рта, — ничего не почувствуешь.
Силенцио интересно, как действует палочка, как черное или как белое, но Фонтейн не меняется. Он стоит, где стоял, с этой палочкой у себя во рту, и глядит, как тощий черный мужчина ножницами снимает с Силенцио волосы. Силенцио глядит на Фонтейна, слушая, как лязгают ножницы и как звучит в его голове новый язык.
"Зодиак Морской Волк". Очень чистый корпус. Ввинчивающаяся головка. Оригинальный желобок для стекла.
– "Зодиак Морской Волк", — говорит Силенцио.
– Ну, мужик, — говорит тощий черный мужчина, — да ты не прост!
18. СЕЛВИН ТОНГ
У Райделла была своя теория насчет виртуальной недвижимости. Чем меньше и дешевле реальный офис фирмы, тем больше и помпезнее ее веб-сайт. В соответствии с этой теорией, Селвин Ф. К. Тонг, нотариус из Коулуна, вероятней всего вел дела из свернутой в домик газетки.
Райделл не смог придумать, как перескочить через входную заставку, по-настоящему монолитную, с отдаленным египетским колоритом, который напомнил Райделлу о том, что его приятель Саблетт, кинофанат, называл "метафизикой коридоров". Заставка была вытянутым в перспективу сплошным коридором, и если бы коридор был реальным, в него можно было бы въехать на мощном трейлере. Горели барочные канделябры, заливая пространство кроваво-алым виртуальным светом, текстура стен была странновато-липкой на вид и смахивала на мрамор с золотыми прожилками.
И где это Лэйни откопал подобного типа?
Каким-то образом Райделл сумел вырубить музыку — подобие классики, с непрерывным крещендо, — но все равно ему пришлось минуты три ползти до дверей офиса Селвина Ф. К. Тонга. Двери были высокие, просто высоченные, текстура их намекала на чье-то весьма абстрактное представление о ценной древесине.
– Тоже мне, тик, — сказал Райделл.
– Добро пожаловать, — произнес с придыханием гиперженственный голос, — в контору Селвина Ф. К. Тонга, нотариуса!
Двери широко распахнулись. Райделл смекнул, что, не выруби он вовремя музыку, она бы сейчас зашкалила.
Виртуально офис нотариуса был размером с олимпийский плавательный бассейн, но насчет деталей здесь явно поскупились. Райделл нажал клавишу на очках и приблизил картинку прямо к столу, размером примерно с бильярдный стол, и с той же, что у дверей, имитацией плохо обструганного дерева. На столе лежала парочка не поддающихся описанию металлических с виду вещей и стопка листов виртуальной бумаги.
– Что означает "Ф. К."? — спросил Райделл.
– Фрэнсис-Ксавье, — сказал Тонг, похожий на лишенную юмора карикатуру на маленького китайца в белой рубашке, черном костюме и черном галстуке. Его черные волосы и черный костюм имели одну и ту же текстуру, эффект был странный, но, как решил Райделл, не преднамеренный.
– Я думал, вы будете сняты на видео, — сказал Райделл, — ну, вроде как это у вас такой ник — "Ф. К.", "эффекты камеры", вы понимаете?
– Я католик, — сказал Тонг, сохраняя нейтральность тона.
– Без обид, — сказал Райделл.
– Никто и не обижался, — сказал Тонг, его пластиковое на вид личико сияло, как и его пластиковые глаза.
Все время забываешь, отметил про себя Райделл, как отвратительно все это может выглядеть, если это делать левой пяткой.
– Чем могу быть полезен вам, мистер Райделл?
– Разве Лэйни вам не сказал?
– Лэйни?
– Колин, — сказал Райделл. — Пробел. Лэйни.
– И?..
– Шесть, — сказал Райделл. — Ноль. Два. Четыре.
Пластиковые глаза Тонга сузились.
– Берри.
Тонг поджал губы. Позади него в широком окне с другим уровнем разрешения Райделлу открывался вид на Гонконг.
– Берри, — повторил Райделл.
– Благодарю, мистер Райделл, — сказал нотариус. — Мой клиент уполномочил меня сообщить вам следующий семизначный номер идентификации. — В правой руке Тонга вдруг возникла золотая пишущая ручка, будто монтажный ляп в студенческом фильме. Ручка была огромная, с тщательной текстурой, с завитыми драконами, их чешуя отсканирована с таким высоким разрешением, что затмевала собой все остальное на сайте. Должно быть, подарок на память, решил Райделл. Тонг написал семь цифр на листке виртуальной бумаги, после чего повернул листок так, чтобы Райделл мог их прочесть. Ручка исчезла так же ненатурально, как и появилась. — Пожалуйста, не читайте этого номера вслух, — сказал Тонг.
– Почему?
– В целях шифровки, — не очень понятно ответил Тонг. — У вас неограниченный запас времени для заучивания номера.
Райделл уставился на семь цифр и начал придумывать мнемонический код. В конце концов, он остановился на дате своего рождения, количестве штатов в стране, когда он родился, возрасте, в котором умер его отец, и мысленном образе двух банок "7-Up". Когда он уверился в том, что сможет припомнить номер, он посмотрел на Тонга.
– Куда мне идти за кредитным чипом?
– Подойдет любой автоматический банкомат. У вас есть удостоверение личности с фотографией?
– Конечно, — сказал Райделл.
– Тогда наши дела закончены.
– Один момент, — сказал Райделл.
– В чем дело?
– Скажите, как убраться отсюда, минуя этот ваш… коридор? Мне нужен просто прямой выход, понятно?
Тонг вежливо взглянул на него.
– Кликните на моем лице.
Райделл щелкнул, вызвав с помощью клавиши на очках курсор в виде карикатурной неоново-зеленой руки-указателя.
– Спасибо, — сказал он, когда офис Тонга начал сворачиваться.
Он снова стоял в коридоре, спиной к дверям офиса.
– Черт, — сказал Райделл.
Опять заиграла музыка. Он завозился с крутящейся клавишей, пытаясь припомнить, как в первый раз убил звук. Впрочем, он хотел найти через GPS ближайший АБМ, поэтому не стал отключать очки.
Он кликнул на конце коридора.
Этот клик, похоже, и вызвал волну осыпания битов, все аккуратные текстурные карты будто по новой составила рука какого-то извращенца: красный ковер стал серо-зеленым, на нем появились странные бугры и клочкастый мех, похожий на донышко месяц не мытой кофейной чашки, стены тем временем прошли все градации от бордельного мрамора до влажной бледности брюха протухшей рыбы, огни канделябров померкли, как свечи. Тонговская псевдоклассическая мелодия треснула, стала полой, жуткие басовые ноты рокотали где-то над самым порогом инфразвука.
Все это произошло за какую-нибудь секунду, и еще примерно через секунду до Райделла дошло, что кто-то, похоже, желает его безраздельного внимания.
– Райделл!!!
Это был голос, который монтируется из найденных случайно аудиофайлов: речь, состряпанная из воя ветра в каньонах между небоскребами, треска льда на Великих Озерах, ора древесных лягушек в южной ночи. Райделл слышал подобные голоса. Они действовали на нервы, для чего, собственно, и предназначались, и служили удобной маскировкой для голоса говорящего. Если говорящий, конечно, имел голос.
– Эй, — сказал Райделл, — я кликнул, чтобы просто убраться отсюда.
Перед ним появился виртуальный экран, ромб с закругленными углами, пропорции явно заимствованы из культурной парадигмы видеоэкранов двадцатого века. На экране, под странным углом — монохромный вид огромной темной долины, тускло подсвеченной сверху. Детали отсутствовали. Ощущение распада, глубокой древности.
– Хочу сообщить вам важную информацию. — Последняя гласная последнего слова напоминала завыванье сирены, промчавшейся мимо со всеми последствиями эффекта Доплера.
– Ну, — сказал Райделл, — если в вашем имени есть буквы "Ф. К.", то у вас, несомненно, скоро будут проблемы.
Последовала пауза; Райделлу оставалось лишь глядеть на мертвую пустую долину, изображенную, а может, воспроизведенную на экране. Он ожидал, что там сейчас что-нибудь произойдет; возможно, весь смысл был в том, что ничего не произошло.
– Вам лучше как можно серьезнее отнестись к полученной информации, мистер Райделл.
– Я серьезен, как раковая опухоль, — ответил Райделл. — Валяйте.
– Используйте банкомат АБМ в "Счастливом драконе", у входа на мост. Потом предъявите свое удостоверение в филиале "ГлобЭкс" у заднего выхода из магазина.
– Зачем так сложно?
– Там для вас кое-что припасено.
– Тонг, — сказал Райделл, — это вы?
Но ответа он не услышал. Экран пропал, а коридор вернулся в прежнее состояние.
Райделл протянул руку и выдрал арендованный кабель из бразильских очков.
Поморгал.
Кафешка около Юнион-сквер, особого типа, с цветами в горшках и интернет-деками. Утренняя офисная толпа начала образовывать очередь за сандвичами.
Он встал, сложил очки, запихал их во внутренний карман куртки и поднял сумку с земли.
19. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МЕСТА
Шеветта движется мимо бесцветного пламени костра торговца каштанами, серый порошок древесного угля спекается в перевернутом V-образном капоте двигателя какой-то древней машины.
Она видит иное пламя, горящее в памяти: сияние кокса в кузнечном горне, который работает на выхлопе пылесоса. Старик кузнец стоит рядом с ней и держит в руке приводную цепь какого-то допотопного мотоцикла, тщательно свернутую в компактную массу и закрепленную куском ржавого провода. Держит, чтобы взять щипцами и сунуть в плавильный горн. И чтобы в конце концов отковать из нее, добела раскаленной, странно-зернистое лезвие дамасского кинжала, призраки звеньев становятся явственно видны, когда клинок выкован, погашен водой, выправлен и отполирован на точильном круге.
Куда же делся тот клинок, размышляет она.
Она наблюдала, как мастер искусно вытачивает и тушит, как мясо, медную рукоять, ломает пласты ламинированной печатной платы и придает им нужную форму шлифовальным ремнем. Жесткая, ломкая на вид плата, слоистая ткань, попавшая, как насекомое, в ловушку фенольной смолы, на мосту была буквально повсюду — единая валюта мусорных ям. Каждый пласт это и платы — как карта с тусклым металлическим узором, похожим на улицы и города. Когда их приносили мусорщики, платы были усеяны мелкими деталями, которые с легкостью снимала горелка, плавя серый припой. Детали летели на землю, и получались обожженные зеленые доски с утонувшими в них станиолевыми картами воображаемых городов, останками второй эры электроники. Скиннер говорил ей, что эти доски вечны и инертны, как камень, что их не берут ни влажность, ни ультрафиолет, никакие другие силы распада; что их назначение — заполонить всю планету, а поэтому стоит их использовать снова, объединять, по возможности, с материей других вещей, что они — бесценный ресурс, если хочешь построить что-нибудь долговечное.
Она знает, что сейчас ей нужно побыть одной, поэтому она бросила Тессу на нижнем уровне, пусть собирает наглядный материал со своей "Маленькой Игрушкой Бога". Шеветта не хочет слышать ни слова о том, что фильм Тессы должен быть более личностным, связанным с ней, с Шеветтой, и Тесса, видимо, не способна заткнуться или принять в качестве ответа слово "нет". Шеветта помнит Банни Малатесту, он был ее диспетчером, когда она работала здесь курьером, помнит, как он любил повторять: "Какой слог слова "нет" до тебя не доходит?" Но у Банни была способность выдавать подобные штучки с видом грозной силы природы, а Шеветта знает, что лишена подобной способности, что ей не хватает жесткости Банни, того напора, без которого никогда ничего никому не вдолбить.
В общем, она добралась эскалатором, которого напрочь не помнит, до верхнего уровня, и теперь бредет, сама того не сознавая, к подножию их со Скиннером башни. Водянистый свет превратился в редкий порывистый дождь, бьющий о ветхую надстройку моста. Люди втаскивают в дома постиранное белье, висящее там, где они его обычно развешивают, прямо на тросах, и кругом царит обыденная предштормовая неразбериха, которая, как она знает, тут же сойдет на нет, стоит лишь проясниться погоде.
И ведь до сих пор, размышляет она, я не видела ни одного лица, знакомого по прошлой жизни, и никто не сказал мне "привет", и она уже ловит себя на мысли, что все население моста подменили в ее отсутствие. Нет, вот прошла женщина, владелица книжного лотка, та самая, костяные палочки для еды торчат из крашенного черной краской узла волос, и еще Шеветта узнает того мальчика-корейца с больной ногой, он тащит куда-то отцовскую суповую тележку с таким лязгом, будто на ней стоят тормоза.
Башня, по которой она каждый день взбиралась наверх, в фанерную лачугу Скиннера, вся облеплена пристройками, ее железный остов погребен в сердцевине органического комплекса помещений, приспособленных для особых нужд. На туго натянутые, бьющиеся на ветру листы молочно-белого пластика падают огромные тени от листьев, отброшенные неземным светом устройств гидропоники. Она слышит рычанье электропилы из крохотной мастерской мебельщика, его помощник терпеливо сидит, натирая воском маленькую скамейку, коллаж из наборных дубовых досок с облупленной краской, растасканных мусорщиками с облицовки старых домов. А еще кто-то варит джем, большой медный чайник кипит над пропановой конфоркой.
Вот то, что нужно Тессе, думает она: люди с моста, занявшие свои промежуточные места. Занятые своими нехитрыми делами. Но Шеветта видела, как они пьют по-черному. Видела накачанных наркотой, видела сумасшедших, навеки исчезающих в серой безжалостной зыби. Видела, как мужчины режут друг друга насмерть ножами. Видела окаменевшую мать, бредущую на рассвете с задушенным младенцем на руках. Мост не туристическая фантазия. Мост абсолютно реален, и жить здесь — значит платить за это твердую цену.
Это мир внутри мира, и раз уж есть промежутки между вещами мира, пространства, построенные в промежутках, то в них обязательно есть свои вещи, и между ними — свои промежутки, а в тех промежутках — снова вещи, и так без конца.
Тесса этого не знает, и не дело Шеветты ей это объяснять.
Она пригибается, проходя, мимо съехавшего листа пластика, во влажное тепло и свет гидропонных ламп. Вонь химикалий. Черная вода побулькивает среди обнаженных корней. Это лекарственные растения, предполагает она, но, наверное, не наркотические, в уличном смысле слова. Те выращивают поближе к Окленду, в особом секторе, специально для этого отведенном, и в теплые дни дурман смолистого душка повисает там в воздухе, отчего почти ощутимо звенит в ушах, незаметно меняется восприятие.
– Эй, есть здесь кто-нибудь?
Бульканье жидкости в системе прозрачных трубок. Пара измазанных илом разбитых желтых болотных сапог болтается рядом, но нет и намека на присутствие их хозяина. Она движется быстро, ноги сами помнят — туда, где виднеются изъеденные коррозией алюминиевые ступеньки в зарослях больших, словно кулаки, пузырей суперэпоксидки.
Когда она начинает карабкаться, застежка старой Скиннеровой куртки, массивный шарик на цепи, цепляется и позвякивает. Эти ступеньки — пожарная лестница, запасной выход на случай опасности.
Миновав тошнотворно-зеленое солнце главного гидропонного фонаря, помещенного в ржавую строительную арматуру, она подтягивается на последней алюминиевой ступеньке и пролезает в узкое треугольное отверстие.
За ширмами стен из разбухшего от дождей композита темно. Одни лишь неясные тени там, где она помнит яркий свет, и она замечает, что верхнюю лампочку в этом глухом помещении кто-то выкрутил. Это нижний конец фуникулера Скиннера — маленькая подъемная тележка, взятая у мусорщиков. Фуникулер соорудил для старика чернокожий мужчина по имени Фонтейн, и именно здесь она пристегивала велосипед в свои курьерские дни, втаскивая его на плече по другой, не потайной лестнице.
Она рассматривает зубчатый трос фуникулера, от скопившейся пыли смазка на нем стала тусклой. "Гондола", желтый муниципальный ящик для вторсырья, достаточно глубокий, чтобы стоять в нем, держась за край, ждет, где и положено. Но если "гондола" находится здесь, это скорей всего значит, что нынешнего жителя кабельной башни нет дома. Если, конечно, тачку не спустили вниз в ожидании гостя, а в этом Шеветта сомневается. Когда находишься наверху, лучше, чтобы тачка была под боком. Шеветте знакомо это чувство.
Она начинает карабкаться по деревянным ступенькам кое-как сбитой стремянки, и карабкается, пока не ударяется головой о трос, и вот уже щурится от ветра и серебристого света. Видит чайку, неподвижно зависшую в воздухе в каких-нибудь двадцати футах на фоне городской башни.
Ветер треплет волосы Шеветты, изрядно отросшие с тех пор, пока ее здесь не было, и в ней возникает чувство, которому не найти названия, но которое всегда было с ней, и она не видит смысла забираться дальше, потому что теперь она знает, что дома, который живет в ее памяти, больше нет. Лишь пустая скорлупка, дребезжащая на ветру, — там, где она лежала когда-то, закутавшись в одеяла, чувствуя запах машинного масла, кофе и свежих опилок.
И где, вдруг она понимает, была порой счастлива от полноты бытия и готовности встретить завтрашний день.
И она сознает, что стала другой и что, когда была счастлива, вряд ли осознавала это.
Она, сутулясь, втягивает голову в спасительный панцирь куртки и представляет себе, как плачет, хотя знает, что этому не бывать, и начинает спускаться вниз.
20. БУМЗИЛЛА
Бумзилла сидит себе на поребрике, рядом с фургоном, эти две сучки сказали, заплатим, если присмотришь. Еще полчаса не придут, он найдет подмогу и разденет фургон. Хочется заиметь того надувного робота, который был у сучки блондинки. Вот это круто. Гонять эту летучую говешку.
Вторая сучка, типа как байкерша, на ней старая куртка, очень крутая, посмотришь — так снята с какого бандюги. Напинаю в задницу, такая вот куртка.
Куда они смылись? Голодно что-то, ветер с опилками в рожу, дождь накрапывает.
– Ты не видел вот эту девчонку? — белый мужик, с виду киноактер, рожа вся в темном гриме, как у этих, с южного побережья. Вон как выпендриваются, когда надумают сюда сунуться, шмотки заношены на хрен, типа как все путем. Кожан такой, типа только что припарковал за углом свой раздолбанный самолет. Синие джинсы. Черная фуфайка.
Бумзилла точно бы блеванул, попробуй кто запихать его в такое дерьмо. Бумзилла, — он знает, чего напялить, когда со своим дерьмом тут разгребется.
Бумзилла таращится на снимок, мужик его сует прямо под нос. Видит ту сучку, которая типа как байкерша, только шмотки покруче.
Бумзилла смотрит на харю в гриме. Видит белесые голубые буркалы на фоне грима. Типа: сиди, где сидишь. Типа: не рыпайся, башню разворочу.
Бумзилла смекает: мужик не в понятии, что это ихний фургон.
– Она потерялась, — говорит мужик.
"Сам ты, мудак, потерялся", — думает Бумзилла.
– Никогда не видал. Буркалы смотрят пристальнее.
– Пропала без вести, понял? Хочу ей помочь. Сбежавший ребенок.
Мысленно: ну и ребенок, бля; сучка-то старше моей мамаши.
Бумзилла качает головой. Еще как серьезно качает, самый децл, туда-сюда. В смысле "нет".
Голубые буркалы шарят вокруг, ищут кого другого, чтобы засветить свой снимок; шарят мимо фургона. Ясно, в непонятках мудила.
Мудила отваливает налево, туда, где тусуется народ у кафешки, сует им свой долбаный снимок.
Бумзилла смотрит, как мудила сваливает.
Бумзилла сам сбежавший ребенок и собирается им оставаться, пока не сдохнет.
21. "ПАРАГОН-АЗИЯ"
Сан-Франциско и Лос-Анджелес больше походили на две разные планеты, чем на два разных города. И дело было не в трениях между Северной Калифорнией и Южной Калифорнией, а в более глубоких корнях. Райделл помнил, как много лет назад сидел где-то с пивом, смотрел "церемонию отсоединения" по Си-эн-эн и даже тогда не проникся всей этой заморочкой. Но вот сама разница — это было.
Жесткий порыв ветра швырнул ему в лицо дождь, когда он шел вниз по Стоктон, чтобы выйти на Маркет. Девицы из офисов придерживали руками юбки и хохотали, и Райделлу тоже захотелось смеяться, впрочем, это прошло еще до того, как он пересек Маркет и двинулся вниз по Четвертой.
Именно здесь он встретил Шеветту, здесь она когда-то жила.
Они с Райделлом ввязались в этих местах в одну авантюру, потом встретились, а уж окончание этой авантюры занесло их в Эл-Эй.
Ей просто не понравился Эл-Эй, постоянно твердил он себе, хотя знал, что совсем не по этой причине все вышло так, как вышло.
Они приехали на Юг настоящей парой, а Райделл зачем-то решил превратить в телешоу то, через что им вместе пришлось пройти. "Копы влипли", конечно, заинтересовались, так как "Копы" уже проявляли к Райделлу интерес давно, еще в Ноксвилле.
Свеженький после Академии Райделл с ходу применил смертоносное оружие при задержании удолбанного "плясуном" психа, который пытался прикончить детей своей собственной подружки. Подружка впоследствии пыталась судиться с округом, городом и самим Райделлом, так что "Копы влипли" решили, что с Райделлом может выйти неплохой эпизод. И они его дернули самолетом в Южную Калифорнию, где у них была база. Он получил личного агента и все такое, но сделка не состоялась, и его взяли в "Интенсекьюр" водителем броневика, выезжать по вызовам. Как только он умудрился устроить так, что его уволили, случилась поездка в Северную Калифорнию, для временной и сугубо неофициальной работы — участия в местной операции "Интенсекьюр". Тут-то он и влип в заваруху, которая "подарила" ему Шеветту Вашингтон. В общем, когда он вернулся в Эл-Эй с готовым сюжетом и под ручку с Шеветтой, "Копы влипли" уже делали стойку. Они как раз раскручивали свой бизнес, превращая каждый эпизод в сериал для укрепления своих позиций на рынке, и отделу демографии понравилось, что Райделл — мужчина, что он не слишком молод, не слишком образован и, кроме того, — южанин. Еще им понравилось, что он не расист и уж конечно то, что при нем была эта смазливая, альтернативного типа деваха, такая крепенькая, будто может легко колоть грецкие орехи, зажав их между ляжек.
"Копы влипли" засунули их в сомнительный маленький отель неподалеку от Сансет, и они с Шеветтой были там так счастливы — первые две недели, что Райделл едва мог вынести одни лишь воспоминания.
Каждый раз, когда они ложились в кровать, ему начинало казаться, что они творят историю, а не просто занимаются любовью. Номер был похож на небольшую квартирку, с отдельной кухней и газовым камином, и по ночам они кувыркались перед камином на одеяле, брошенном на пол, все окна открыты, весь свет погашен, синее пламя чуть мерцает, боевые вертолеты ДПЛА гудят над головой, и когда он оказывался в ее объятиях или она ложилась, повернувшись к нему лицом, он понимал, что это — хорошая история, самая лучшая и что все теперь выйдет просто замечательно.
Не вышло.
Райделл никогда особо не задумывался о своей внешности. Ему казалось, с этим все в порядке. Женщинам он, похоже, вполне нравился, ему даже говорили, что он похож на молодого Томми Ли Джонса, а Томми Ли Джонс был кинозвездой в двадцатом веке. И потому, что ему так сказали, Райделл однажды взял и посмотрел пару фильмов с этим парнем; фильмы ему понравились, хотя никакого сходства он не увидел и слегка озадачился.
Однако он начал беспокоиться, когда "Копы влипли" назначили к нему костлявую белобрысую стажерку по имени Тара-Мэй Аленби, которая ходила за ним как привязанная и набирала метраж установленной на плече неподвижной камерой.
Тара-Мэй жевала жвачку, мудрила с фильтрами и, в общем и целом, бесила Райделла до зубовного скрежета. Он знал, что сигнал с ее камеры идет напрямую к "Копам влипли", и стал подозревать, что они не слишком довольны тем, что видят. Тара-Мэй не развеяла его опасений, объяснив Райделлу, что камера добавляет верные двадцать фунтов к любой внешности, но, дескать, подумаешь, ей самой Райделл нравится вот таким, натуральным, в самом соку. В то же время она постоянно намекала, что он мог бы и подкачаться. Почему бы не последовать примеру этой вашей подружки, говорила она, вот так крепышка, даже зависть берет.
Но Шеветта ни разу в жизни не была в гимнастическом зале; крепышкой ее сделали родительские гены да еще те несколько лет, что она гоняла вверх-вниз по холмам Сан-Франциско на горном гоночном велосипеде с рамой из пропитанной эпоксидкой японской строительной бумаги.