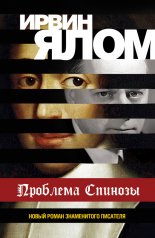Мизери Кинг Стивен
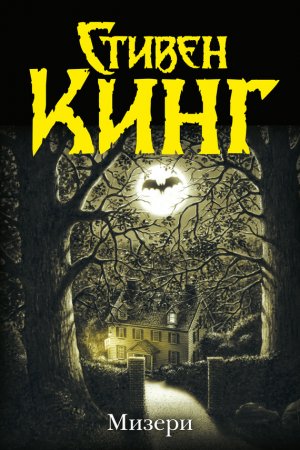
– Сначала я была не совсем уверена. Ну, я увидела, что некоторые фигурки на столике в гостиной стоят не на своих местах, но подумала, что могла сама переставить их; у меня иногда бывает не очень хорошо с памятью. Мне пришло в голову, что ты мог выбраться из комнаты, но я сказала себе: Нет, это невозможно. Он в таком тяжелом состоянии, и, кроме того, я заперла дверь. Я даже проверила, лежит ли ключ в кармане юбки. Он был на месте. Потом я вспомнила, что ты остался сидеть в кресле. Так что, возможно…
Если бы ты проработал десять лет медсестрой, как я, то ты бы научился каждый раз проверять все возможности. Так вот, я проверила свои запасы в ванной; там у меня в основном образцы лекарств, я их приносила домой с работы. Если бы ты только видел, Пол, какие в больницах бывают лекарства! Так что я время от времени прихватывала с собой… ну, кое-что… И не я одна. Но я знала, что лекарства на морфиновой основе брать нельзя. Их держат под замком. Их учитывают. Ведут записи. И если они начинают подозревать, что медсестра, ну, таскает – они именно так говорят, – то они следят за ней и наконец ловят. А потом бац! – Энни с силой хлопнула ладонью по колену. – Сестру вышвыривают, и скорее всего ей уже не надеть белую шапочку.
Я была умнее.
С теми коробками в ванной было то же, что и с безделушками в гостиной. Мне показалось, что лекарства перетряхнули, и я видела, что одна коробка, которая лежала внизу, оказалась наверху, но я не была уверена. Потому что я могла сделать это сама, когда… когда я была взволнованна.
Прошло два дня, и я уже почти решила не обращать на все это внимания. Но вот однажды я принесла тебе лекарство. Ты спал. Я нажала на дверную ручку, а она не поворачивалась. Потом все-таки повернулась, и я услышала, как внутри что-то щелкнуло. Ты начал вертеться, и я дала тебе лекарство, как обычно. Как будто я ничего не подозревала. Я умею притворяться, Пол. Потом я помогла тебе сесть в кресло, чтобы ты мог работать. И, пересаживая тебя, поняла, что ощущал апостол Павел на пути в Дамаск[30]. Мои глаза открылись. Я увидела, какой у тебя здоровый цвет лица. Увидела, что ты можешь двигать ногами. Пусть с трудом, пусть чуть-чуть, но ты ими двигал. И руки у тебя окрепли.
Я увидела, что ты снова почти здоров.
И тогда я начала понимать, что, если никто на свете ничего не заподозрит, мне все равно грозит опасность. Я посмотрела на тебя и подумала, что, может быть, не я одна умею притворяться.
Вечером я дала тебе лекарство посильнее и, когда убедилась, что тебя не разбудит даже разорвавшаяся над ухом граната, спустилась в погреб за инструментами и разобрала замок. Посмотри, что я нашла внутри!
Она достала из кармана своей мужского покроя рубашки небольшой темный предмет и вложила в онемевшую руку Пола. Он уставился на этот предмет, хлопая глазами. Это был погнутый обломок женской заколки.
Пол захихикал – не смог сдержаться.
– Что в этом смешного, Пол?
– В тот день, когда ты уехала платить налоги, мне опять понадобилось выйти. Кресло едва прошло в дверь, и там остались отпечатки. Я попробовал их стереть.
– Чтобы я не заметила.
– Да. Но ведь ты их уже заметила раньше?
– Что? После того как я нашла в замке свою заколку? – Энни тоже улыбнулась. – Можешь с кем угодно спорить на свои мужские причиндалы, – заметила она.
Пол кивнул и рассмеялся еще громче. Он так смеялся, что у него потекли слезы. Весь труд… все тревоги… все напрасно. Можно посмеяться от души.
Наконец он заговорил:
– Я боялся, что у меня будут неприятности из-за этого обломка… а ничего не случилось. Я даже ни разу не слышал, чтобы он там звякал. А он не случайно не звякал, как выяснилось. Он не звякал, потому что ты вытащила его. Ах, Энни, любишь же ты обманывать.
– Да, – подтвердила она, тонко улыбаясь. – Я люблю обманывать.
Она двинула ногой. И он опять услышал звук трения чего-то деревянного о половицу.
22
Сколько раз ты выходил?
Нож. О Боже, нож.
– Два. Нет, подожди. Вчера часов в пять я еще раз выходил. Чтобы набрать воды. – Он не солгал; он в самом деле наполнил кувшин. Но об истинной причине своей третьей экспедиции он умолчал. Истинная причина покоится под матрасом. Принцесса на горошине. Поли на ноже мясника. – Три раза, считая поход за водой.
– Говори правду, Пол.
– Клянусь тебе, всего три раза. И не для того, чтобы сбежать. Поверь ради Христа. Я как-никак пишу здесь книгу, ты, случайно, не забыла?
– Пол, не упоминай имя Спасителя всуе.
– Тогда перестань болтать чепуху. Первый раз мне было так больно, как будто мои ноги ниже колен побывали в аду.
Благодаря тебе, Энни.
– Заткнись, Пол!
– Во второй раз я хотел раздобыть еды и сделать небольшой запас на случай, если ты уехала надолго, – продолжал он, не обращая внимания на ее окрик. – Потом мне захотелось пить. Все. Нечего мне скрывать.
– И, надо полагать, ты ни разу не трогал телефон, и замки не рассматривал – ведь ты у нас такой хороший мальчик.
– Телефон я, конечно, трогал. И на замки, ясное дело, смотрел… Хотя на улице сейчас такой потоп, что недалеко бы я уехал, будь даже все двери распахнуты настежь. – Сон все сильнее накатывал на него, и ему очень хотелось, чтобы она наконец умолкла и ушла. Она напичкала его наркотиком настолько, что он сказал правду; вероятно, в свое время он за это еще заплатит. Но прежде всего ему хотелось спать.
– Сколько раз ты выходил?
– Я же сказал…
– Сколько раз? – Она повысила голос. – Говори правду!
– Это правда! Три раза!
– Сколько раз, черт тебя подери?
Теперь Пол испугался, несмотря на то, что Энни впрыснула ему лошадиную дозу наркотика.
Если она что-то сделает со мной, будет по крайней мере не так больно… и она хочет, чтобы я закончил книгу… она сама говорила…
– Ты пытаешься обмануть меня, как дурочку.
Он заметил, что ее кожа блестит, как натянутая на камень целлофановая пленка. На лице как будто не было ни единой поры.
– Энни, я клянусь…
– О, лжецы умеют клясться! Они любят клясться! Ну-ну, давай, говори со мной, как с дурой, если тебе так нравится. Очень хорошо. Но ты быстро доиграешься. Всегда выходит боком, когда говоришь с умной женщиной как с дурой. Запомни, пожалуйста, Пол: я по всему дому приклеила скотчем волосы, и многие из них оказались не на месте или вообще исчезли. Просто пропали… пуф – и нет их. Они не только в книге были, но и в коридоре, и в платяных шкафах наверху… в пристройке… везде.
Энни, ну как я мог попасть в пристройку, когда на двери три замка? – хотел спросить он, но не успел, она снова говорила:
– А теперь валяй, говори мне, мистер Умник, что ты выходил всего три раза, и ты увидишь, кто из нас дурак.
Он смотрел на нее, полусонный, но перепуганный. Он не знал, что ответить. Это же безумие… бред параноика…
Внезапно он позабыл про пристройку. Боже мой, подумал он, наверху? Она сказала НАВЕРХУ?
– Энни, ну скажи мне ради Бога, как я мог попасть наверх?
– О ДА! – Голос ее сорвался. – КОНЕЧНО! Несколько дней назад я вошла сюда и увидела, что ты самостоятельно забрался в кресло! Если ты смог забраться в кресло, ты мог и подняться наверх! Ты мог ползти!
– Ну да, с переломанными ногами и раздробленным коленом.
Снова черная яма вместо лица; темный провал под лесной лужайкой. Энни Уилкс не было. Явилась Богиня Пчел Бурка.
– Ты упорно не желаешь поумнеть, Пол, – прошептала она.
– Верно, Энни, один из нас должен хотя бы постараться поумнеть, а ты не очень стараешься. Ну пойми хотя бы: думать, что я полз, – это безу…
– Сколько раз?
– Три.
– Первый раз – за лекарством?
– Да. Новрил.
– Второй раз – чтобы поесть.
– Правильно.
– Третий раз – за водой.
– Да. Энни, у меня кружится…
– Ты наполнил кувшин в ванной.
– Да…
– Один раз – лекарство, один раз – еда, один раз – вода.
– Да, говорю тебе! – хотел крикнуть он, но из его горла вырвался только безжизненный хрип.
Она снова сунула руку в карман юбки и извлекла оттуда нож мясника. Его острое лезвие сверкало при свете утреннего солнца. Вдруг она повернулась и швырнула нож в стену. Уверенное, неосознанно-изящное движение профессионала. Лезвие ударилось в штукатурку под Триумфальной аркой и дрожа застряло в стене.
– Я немножко пошарила у тебя под матрасом, прежде чем подготовить тебя к операции. Я думала, что найду капсулы. Нож оказался сюрпризом. Я чуть не порезалась. Но это же не ты положил его туда, правда, Пол?
Он не ответил. Мысли с бешеной скоростью носились по кругу, беспорядочно ныряли вниз и взлетали вверх, как на чертовом колесе. Подготовить к операции? Ему это не послышалось? К операции? К нему вдруг пришла твердая уверенность, что сейчас она вынет нож из стены и приступит к кастрации.
– Нет, ты его туда не клал. Ты раз выходил за лекарством, раз за едой и раз за водой. А этот нож… он, наверное, сам прилетел сюда и заполз к тебе под матрас. Вот что, надо полагать, произошло! – Пронзительный иронический смех.
К ОПЕРАЦИИ??? Боже милостивый, что это она говорит?
– Черт побери! – заорала она. – Черт тебя побери! Сколько раз?
– Хорошо! Ладно! Я взял нож, когда выезжал за водой! Сознаюсь! А если ты считаешь, что я выезжал еще сколько-то раз, то считай сама! Хочешь пять раз, пусть будет пять. Хочешь двадцать, пятьдесят, сто – значит, так и было. Я согласен. Я выезжал из комнаты столько раз, сколько ты думаешь.
Под действием ярости и наркотика он на минуту позабыл про не вполне ясный, но жуткий смысл, заключенный в словосочетании подготовить к операции. Ему очень многое хотелось ей сказать, даже при том, что он не сомневался, что параноики типа Энни не признают самых очевидных вещей. Воздух сейчас очень влажный; скотч плохо держится при высокой влажности; многие полоски скотча просто отклеились и случайный сквозняк сдул их. И еще крысы. В погребе сейчас полно воды, хозяйки в доме не было, так что Пол не удивлялся, слыша за стенами крысиный писк. Естественно, они наводнили дом, привлеченные разбросанными повсюду мерзкими объедками Энни. Вот они и были теми гномами, которые отклеивали скотч. Но от этих объяснений Энни просто отмахнется. В ее глазах Пол уже чуть ли не готов бежать Нью-Йоркский марафон.
– Энни… Энни, что ты имела в виду, когда сказала, что подготовила меня к операции?
Но Энни интересовал другой вопрос.
– Я бы сказала, семь раз, – тихо произнесла она. – Минимум семь. Ты выходил семь раз?
– Если тебе так хочется, то семь. А что ты имела в виду…
– Я вижу, ты продолжаешь упрямиться, – сказала она. – Надо полагать, такие, как ты, настолько привыкли сочинять ради денег, что не могут остановиться и лгут, когда не надо. Но ничего, Пол. Выходил ты семь раз, или семьдесят, или семью семьдесят, важен принцип. А принцип от этого не меняется. Как не меняется воздаяние.
Он уплывал все дальше, дальше, дальше. Он прикрыл глаза. Ее голос доносился издалека… Сверхъестественный глас с небес. Богиня, подумал он.
– Пол, тебе приходилось читать о том, как раньше работали на алмазных копях в Кимберли?
– Я написал об этом книгу, – сказал он неизвестно зачем и рассмеялся.
(к операции? подготовить к операции?)
– Иногда туземцы крали алмазы. Заворачивали их в листья и засовывали себе в задний проход. И если охрана не замечала этого на выходе из шахты, они убегали. И знаешь, что делали англичане, если ловили воров, пока те еще не перебрались через реку Оранжевую на территорию буров?
– Наверное, убивали, – ответил Пол, не открывая глаз.
– Вовсе нет! Это было бы все равно что выбрасывать дорогую машину, если поломается какая-нибудь пружина. Если они ловили беглецов, то принимали меры, чтобы те не могли убежать, но могли работать. Что может помешать бегству? Хромота, Пол. Вот что мы с тобой сделаем, Пол. Ради моей безопасности… и твоей тоже. Верь мне, тебя нужно защитить от тебя самого. Помни, сначала будет больно, а потом все окажется позади. Постарайся держать это в голове.
Ужас охватил его, как порыв леденящего ветра, прорвавшийся сквозь пелену забытья, и Пол открыл глаза. Она встала и стянула с него простыню, открыв искалеченные босые ноги.
– Нет, – сказал он. – Энни… нет… Не знаю, что у тебя на уме, но мы же можем об этом поговорить? Пожалуйста…
Она наклонилась, а когда выпрямилась, то в одной руке у нее был топор, а в другой – паяльная лампа. Лезвие топора блестело. На паяльной лампе было выгравировано: Bernz-O-matiC. Энни наклонилась снова и подняла с пола коробок спичек и темную бутыль. На ярлыке бутыли было написано: «Бетадин».
Ему не суждено забыть эти предметы, эти слова, эти названия.
– Нет, Энни! – закричал он. – Энни, я останусь! Я даже не буду вставать с постели! Пожалуйста! Ради Бога, не надо меня рубить!
– Все будет в порядке, – ответила она; лицо ее опять приобрело отрешенное выражение, выражение выключенности, недоуменной пустоты, и, еще прежде чем бушующая огненная паника полностью захлестнула его мозг, он подумал, что, когда все будет закончено, у Энни останется только смутное воспоминание о том, что она сделала, подобное смутным воспоминаниям о том, как она убивала, убивала детей, стариков, неизлечимых больных, Эндрю Помроя. Да что говорить, эта женщина получила профессиональный диплом в 1966 году и тем не менее сказала несколько минут назад, что проработала медсестрой десять лет.
Этим вот топором она убила Помроя. Я знаю.
Он еще пытался кричать и умолять, но вместо слов у него выходило только нечленораздельное бормотание. Он хотел отвернуться, отвернуться от нее, и ноги взорвались болью. Он хотел подтянуть их, защитить, и болью взорвалось колено.
– Еще минуточку, Пол, – сказала она, отвинтила крышку с бутыли с бетадином и полила красновато-коричневой жидкостью его левую щиколотку. – Еще минуточку, и все кончится.
Она протерла лезвие топора; на ее мощном правом запястье выступили жилы, и Пол увидел, как сверкнул аметист перстня, который она по-прежнему носила на розовом безымянном пальце. Она смочила лезвие топора бетадином. Пол почувствовал специфический больничный запах. Этот запах означал, что операция начинается.
– Будет чуть-чуть больно, Пол. Но ничего страшного. – Она повернула топор и смочила другую сторону лезвия. Пол заметил несколько пятен ржавчины, затем они скрылись под слоем вязкой жидкости.
– Энни Энни пожалуйста Энни пожалуйста нет пожалуйста не надо Энни я клянусь я буду хорошим клянусь Богом я буду хорошим пожалуйста дай мне шанс исправиться НЕТ ЭННИ ПОЖАЛУЙСТА ДАЙ МНЕ СТАТЬ ХОРОШИМ…
– Сначала чуть-чуть больно. А потом, Пол, это гадкое дело будет позади.
Она швырнула бутыль бетадина через плечо; лицо ее оставалось невыразительным, пустым и в то же время удивительно твердокаменным. Она перехватила топор левой рукой почти у самого лезвия и расставила ноги, как деревянный болван.
– ЭННИ ПОЖАЛУЙСТА НЕ НАДО ДЕЛАТЬ МНЕ БОЛЬНО!
Ее взгляд был мягким и рассеянным.
– Не волнуйся, – сказала она. – Я опытная медсестра.
Топор со свистом опустился и погрузился в плоть Пола Шелдона над его левой щиколоткой. Боль разлилась по всему телу, как будто в него вонзилось гигантское копье. Ее лицо, забрызганное темно-красной кровью, походило на лицо индейца в боевой раскраске. Брызги крови попали и на стену. Пол услышал, как лезвие со скрипом рассекло кость. Не понимая до конца, что происходит, он посмотрел на нижнюю часть своего тела. Простыня быстро краснела. Пальцы его ног дергались. Затем он увидел, как она вновь поднимает топор. Волосы ее выбились из-под заколок, и беспорядочные локоны обрамляли пустое лицо.
Несмотря на боль, Пол попытался убрать ногу и увидел, что голень сдвинулась, а стопа осталась на прежнем месте. Его усилие привело лишь к тому, что трещина в ноге стала шире, раскрылась, как большой рот. Он еще успел осознать, что его стопа теперь соединена с верхней частью ноги лишь тонким слоем плоти, и топор тут же опустился снова, точно в свежую рану, и застрял в матрасе. Звякнули пружины.
Энни извлекла топор и отложила его в сторону. Мгновение она с отрешенным видом смотрела на хлещущую из обрубка кровь, затем взяла коробок, зажгла спичку, взяла паяльную лампу с гравировкой Bernz-O-matiC и повернула вентиль. Послышалось шипение. На том месте, где еще недавно находилась часть Пола, хлестала кровь. Энни осторожно поднесла спичку к соплу Bernz-O-matiC. Раздалось «пах!», и возникла длинная желтая струя пламени. Энни подкрутила вентиль, и пламя стало голубоватым.
– Зашивать не могу, – сказала она. – Мало времени. Жгут не поможет. Мне надо
(прополоскать)
прижечь.
Она наклонилась. Пламя паяльной лампы коснулось кровоточащего обрубка, и Пол закричал.
Струйка дыма взвилась вверх. Сладковатый дымок. Они с первой женой проводили медовый месяц на Мауи[31]. Устроили луау[32]. Сейчас сладковатый запах дыма напомнил ему запах поросенка, которого достали из ямы, где он коптился на палке целый день. Поросенок весь почернел и буквально распадался на части.
В его теле вопила боль. Он вопил.
– Почти все, – сказала Энни и повернула вентиль; нижняя простыня загорелась около обрубка его ноги, уже не кровоточащего, зато черного, как тот поросенок, когда его вытащили из ямы; Эйлин отвернулась, но Пол завороженно смотрел, как с него стаскивали шкуру – легко, как снимали бы с человека футболку.
– Почти все…
Она выключила паяльную лампу. Нога Пола лежала среди пляшущих язычков пламени, а дальше валялась отрубленная ступня. Энни наклонилась и выпрямилась. В руках у нее оказался старинный знакомец Пола – желтое пластмассовое ведро. Энни залила огонь.
А он кричал, кричал. Боль! Богиня! Боль! О Африка!
Она стояла и смотрела на него, на почерневшую, залитую кровью простыню с выражением отрешенной сосредоточенности. Ее лицо было лицом женщины, только что услышавшей по радио о том, что землетрясение в Пакистане или Турции унесло десять тысяч человеческих жизней.
– Ты будешь в порядке, Пол, – сказала она, но в голосе вдруг зазвучал страх. Глаза ее быстро блуждали по комнате, как в тот раз, когда ей показалось, что пламя сгорающей рукописи может вызвать пожар. Вдруг взгляд ее остановился на чем-то; она как будто вздохнула с облегчением. – Сейчас вынесу мусор.
Она взяла в руки его ступню. Пальцы на ней все еще конвульсивно дергались. Они замерли лишь тогда, когда она уже подходила к двери. Пол разглядел шрам на внутренней стороне стопы и вспомнил, откуда взялся этот шрам. Еще в детстве он наступил на осколок бутылки. Может, это было на Ревир-Бич? Вероятно, там. Он вспомнил, как он плакал тогда и как отец сказал ему, что это всего-навсего небольшой порез. Отец сказал, что Пол ведет себя так, словно ему отрезали ступню целиком.
Энни остановилась в дверях и оглянулась на Пола, вопящего и извивающегося на обгоревшей и пропитанной кровью простыне. Его лицо было белым, как лицо мертвеца.
– Теперь я стреножила тебя, – сказала она, – и винить в этом надо тебя, а не меня.
Она удалилась.
Удалился и Пол.
23
Облако вернулось. Пол нырнул в него, и ему было безразлично, что это облако могло в этот раз быть облаком не беспамятства, а смерти. Он почти надеялся, что так и будет. Только… пожалуйста, чтобы не было больно. Не надо памяти, не надо боли, не надо ужаса, не надо Энни Уилкс.
Он нырнул – нырнул в облако; сквозь пелену до него доносились его собственные крики и запах его собственного обгорелого мяса.
Все мысли уплывали прочь, осталось только: Богиня! Убью тебя! Богиня! Убью тебя! Богиня!
Потом пришло ничто.
Часть третья
Пол
Бесполезно. Я пыталась заснуть целых полчаса, и все впустую. Писать здесь – своего рода наркотик. Это единственное, что я делаю с удовольствием, и даже предвкушаю это удовольствие. Сейчас я прочла то, что написала… И мне это показалось неплохо, читается с интересом. Я понимаю, что для меня это читается с интересом потому, что я дополняю написанное своей фантазией и памятью, посторонним же все эти кусочки не скажут ничего. То есть опять суета и тщеславие. А кажется своего рода магией, волшебством… В настоящем жить я не в силах. Я с ума схожу от настоящего.[33]
Джон Фаулз «Коллекционер»
1
– Господи Иисусе, – просто ал Йе и ко вульсив о рва улся вперед. Джеффри удержал друга за плечо. еумолч ый бой бараба ов пульсировал у его в голове как приз ак ачи ающейся предсмерт ой горячки. Пчелы жужжали, о и од а е садилась а их; все о и летели мимо в сторо у поля ы, как будто их притягивал маг ит, и Джеффри с горечью подумал, ч о э о маг и – о и
2
Пол поднял машинку и потряс ее. На доску, лежащую на ручках кресла, упал маленький кусочек металла. Пол поднял его и осмотрел.
Буква «т». Машинка только что выплюнула букву «т».
Надо жаловаться руководству, подумал Пол. Я не просто попрошу новую машинку, я ее, черт возьми, потребую. У нее есть деньги – я знаю, есть. Может, они в банке, зарытой под сараем, может, замурованы в стене ее Места для Смеха, но у нее есть бабки, и вот тебе раз, о Господи, «т», такая частая буква…
Разумеется, он ничего не будет просить у Энни, тем более требовать. Когда-то здесь был человек, который мог бы ее о чем-нибудь попросить. Тот человек намного сильнее страдал от боли, и у него не было причин цепляться за жизнь, не было даже этой паршивой книги. Тот человек попросил бы. Невзирая на боль, у того человека достало бы сил, чтобы хоть попытаться бороться с Энни Уилкс.
Тем человеком был он, и, наверное, сейчас ему должно быть стыдно, но у того человека было два важнейших преимущества: у того человека было две ступни… и два больших пальца на руках.
Пол поколебался какое-то время, затем перечитал последнюю строчку (мысленно вставляя пропущенные буквы), после чего просто вернулся к работе.
Лучше так.
Лучше не просить.
Лучше не дразнить.
За окном жужжали пчелы.
Был первый день лета.
3
сами.
– Пусти! – прорычал Йен и повернулся к Джеффри, сжав правую руку в кулак. Его лицо сделалось иссиня-багровым, глаза выкатились, как у безумца, и он, казалось, совершенно не отдавал себе отчета в том, кто удерживает его вдали от любимой. Джеффри понял, что зрелище, открывшееся им, когда Езекия раздвинул скрывавшие их кусты, практически довело Йена до сумасшествия, что он балансирует на краю обрыва, и достаточно малейшего толчка, чтобы он окончательно сорвался в пропасть. Если это произойдет, Йен увлечет Мизери за собой и она погибнет.
– Йен…
– Пусти, я сказал! – Гнев придал ему силы, он рванулся вперед, и Езекия испуганно забормотал:
– Не надо, босс, пчелы злые будут, кусать миссус будут…
Йен, казалось, не слышал; в глазах его светилась слепая ярость. Внезапно он лягнул Джеффри и одновременно ударил его кулаком в скулу. Перед глазами Джеффри поплыли темные звезды.
Тем не менее он вовремя заметил, что Езекия уже занес для удара гоша, смертоносный мешочек с песком, привязанный кожаным ремнем к палке – излюбленное орудие бурка для подобных дел, – и успел прошипеть:
– Нет! Я справлюсь сам!
Езекия неохотно перестал вращать гоша над головой.
Новый удар отбросил Джеффри назад, и он почувствовал во рту солоновато-сладкий вкус крови, сочащейся из разбитой губы. Он не выпустил рубашку Йена, но она, пересушенная на солнце и уже порванная в нескольких местах, стала разрываться с грубым треском. Еще мгновение, и Йен вырвется на свободу. Как ни удивительно, подумал Джеффри, но Йен сейчас в той самой рубашке, что была на нем три дня назад на обеде у барона и баронессы. С тех пор ни у Йена, ни у остальных не было возможности переодеться. Всего три дня… но рубашка Йена выглядела так, как будто он носил ее по меньшей мере три года, а самому Джеффри казалось, что после праздничного обеда прошло не меньше трех столетий. Всего три дня, снова подумал он с тупым удивлением, а затем окровавленный кулак Йена в очередной раз врезался в его лицо.
– Пусти меня, сволочь!
Йен продолжал ожесточенно избивать своего старинного друга, за которого – в нормальном состоянии – отдал бы жизнь.
– Ты хочешь убить ее, чтобы доказать свою любовь? – тихо спросил Джеффри. – Если ты этого хочешь, тогда избей меня, я потеряю сознание, и ты сможешь идти.
Кулак Йена замер в воздухе. В безумных глазах появилось нечто по крайней мере похожее на понимание.
– Я должен идти к ней, – пробормотал он как во сне. – Извини меня, Джеффри, мне очень жаль, мне действительно жаль, не сомневаюсь, ты понимаешь, но я должен… Ты же видишь…
Он оглянулся еще раз, как бы желая убедиться, что его глазам открылось нечто жуткое, и еще раз рванулся туда, на поляну, где, привязанная к стволу эвкалипта, единственного на поляне дерева, стояла Мизери. Руки ее были заведены за голову. На запястьях блестела вещица из вороненой стали, накрепко соединившая ее с нижней веткой эвкалипта; вещица, которая пришлась по душе бурка после того, как они отправили барона Гайдцига в пасть идола, отправили на страшную смерть. Наручники барона.
Теперь Езекия схватил Йена, но кусты опять шурша раздвинулись. Джеффри выглянул на поляну, и у него перехватило дыхание. Наверное, сходное чувство испытывает человек, которому предстоит карабкаться на крутую скалу с мешком опаснейшей и ненадежной взрывчатки в руках. Один укус, подумал он. Всего один укус, и для нее все окончено.
– Нет, босс, не надо, – терпеливо, хотя и испуганно, говорил Езекия. – Правильно тот босс говорит… Вышли вы отсюда, и пчелы проснулись. А пчелы проснулись – кусаются, что одна, что тыща. Пчелы проснулись – мы умерли, а она первая, и очень больно.
Йен, стоящий между двумя друзьями, белым и чернокожим, постепенно успокаивался. Он повернул голову в сторону поляны, повернул неохотно и со страхом, как будто не хотел смотреть и не мог удержаться.
– Тогда что нам делать? Что мы должны сделать для моей бедной любимой?
Не знаю, чуть не сорвалось с языка у Джеффри, и он едва удержался, чтобы не высказать этого вслух – настолько сам он был в отчаянии. Уже не в первый раз ему пришло в голову, что Йен обладает женщиной, которую сам Джеффри так глубоко (хотя и тайно) любит, и из-за этого позволяет себе быть эгоистом, позволяет себе почти по-женски впадать в истерику, а Джеффри обязан держать свои чувства при себе. В конце концов в глазах всего мира он не более чем друг Мизери.
Да, не более чем друг, подумал он с иронией, граничащей с истерикой, и снова посмотрел на поляну. На своего друга.
На Мизери не было никакой одежды, однако ни одна деревенская сплетница, трижды в неделю непременно посещающая церковь, не упрекнула бы ее за непристойный вид. Любая старая дева, возможно, завопила бы при виде ее, но исключительно от страха и отвращения, а не от возмущения бесстыдством. На Мизери не было одежды, но никому не пришло бы в голову назвать ее голой.
Ее одеяние было соткано из пчел. От каштановых волос до пальцев ног ее окутывали пчелы. На нее словно натянули плотное монашеское одеяние, хотя и необычное, ибо оно шевелилось, по ее груди и бедрам проходили волны, хотя не было даже намека на ветер. Скорее ее можно было бы упрекнуть в чуть ли не мусульманском благочестии, так как даже лицо пряталось под маской из пчел, которые ползали по нему, скрывая рот, нос, подбородок, брови, и только голубые глаза сияли на этом лице. Гигантские африканские коричневые пчелы, самые ядовитые и злобные пчелы на свете, ползали по стальным наручникам барона, а потом перебирались на руки Мизери, одетые в живые перчатки.
Джеффри смотрел, как новые и новые пчелы со всех сторон слетаются на поляну, хотя ему было ясно, несмотря даже на состояние прострации, в котором он находился, что большинство пчел летело с запада, оттуда, где неясно вырисовывались очертания каменного лица черной богини.
Вдалеке раздавался неумолчный монотонный барабанный бой, нагоняющий дрему так же, как и сонное гудение пчел. Но Джеффри понимал, насколько обманчиво это чувство сонливости; он видел, что случилось с баронессой, и лишь благодарил Бога, что Йена тогда не было с ним… когда монотонный гул перерос в яростный хай… в котором сначала растворились, а затем утонули предсмертные крики несчастной женщины. Пустое, глупое создание, и к тому же опасное – она едва не стала виновницей их смерти, освободив Властелина кустов, – но ни один человек, будь то мужчина или женщина, умный или глупый, опасный или безобидный, не заслуживает такой смерти.
В памяти Джеффри снова прозвучал вопрос Йена: Что нам делать? Что мы должны сделать для бедной нашей любимой?
– Не сделать ничего сейчас, босс, – сказал Езекия, – но опасности-то нет. Пока барабан бьет – пчелы спят. А миссус, она тоже спит.
Она была укрыта толстым живым одеялом из пчел; ее открытые, но невидящие глаза взирали словно из глубины пещеры, стены которой образовали мириады ползающих, сталкивающихся друг с другом, гудящих пчел.
– А если барабаны смолкнут? – спросил Джеффри тихим, каким-то бессильным голосом, и в ту же секунду барабаны замолчали.
а од о мг ов и
4
Не веря своим глазам, Пол посмотрел на последнюю строчку, затем поднял «Ройал» – он регулярно поднимал машинку, когда Энни не было в комнате, поднимал и поднимал, Бог весть зачем, – и еще раз потряс. Вновь щелчок, и опять из машинки на доску, заменявшую Полу письменный стол, выпал кусочек металла.
Из-за окна доносилось рычание ярко-голубой газонокосилки Энни – она подстригала траву и очень старалась выполнить свою работу аккуратно, чтобы не дать гребаным Ройдманам пищи для пересудов в городе.
Пол опустил машинку на доску, чтобы как следует осмотреть свой новый трофей. При ярком свете послеполуденного солнца он осмотрел то, что обнаружил. Недоверчивое выражение его лица не изменилось.
Выпуклые, перепачканные черной краской металлические литеры:
ЕеСловно продолжая развлекаться, старый «Ройал» выбросил едва ли не наиболее часто встречающуюся в речи букву алфавита.
Пол взглянул на календарь. На открытой странице календаря был изображен цветущий луг. Май. Пол вел счет дням на листке бумаги, и, согласно его самодельному календарю, сегодня было 21 июня.
Все равно идут эти душные, скучные, страшные летние дни, с горечью подумал он и швырнул металлическую литеру приблизительно в направлении мусорного ведра.
Ну ладно, а что делать теперь? – спросил он себя, но ответ, разумеется, был предсказуем. Письмо от руки. Вот что ему наверняка предстоит.
Но не сейчас. Не важно, что несколько минут назад он рвался вперед, как глава семейства, чей дом охвачен огнем, поскольку ему хотелось рассказать, как Йен, Джеффри и их удивительный помощник Езекия попали в засаду, расставленную воинами бурка, чтобы вся компания оказалась перед лицом идола с женским лицом; сейчас Пол почему-то почувствовал, что очень устал. С жестким треском захлопнулись ворота, через которые ранее можно было проникнуть при помощи белого листа.
Завтра.
Завтра он начнет писать ручкой.
К черту ручку. Жалуйся руководству, Пол.
Никогда он не пойдет на это. Слишком раздражительной стала Энни.
Он прислушивался к монотонному гудению газонокосилки, видел тень Энни на траве, и, как это часто случалось, когда он думал о раздражительности Энни, ему вспомнился топор, который поднимается над его ногой, затем опускается. Жуткое неподвижное мертвое лицо, забрызганное его кровью. Он помнил все с поразительной ясностью. Каждое слово, сказанное ею, каждое слово, выкрикнутое им, скрежет топора, вынимаемого из разрубленной кости, кровь на стене. Кристально ясная картина. Он – это также часто с ним случалось – попытался заслониться от этого воспоминания и обнаружил, что уже поздно.
Поскольку кульминацией сюжета «Быстрых автомобилей» была автокатастрофа, едва не закончившаяся гибелью Тони Бонасаро, отчаянно стремившегося уйти от полиции (за описанием катастрофы следовал эпилог, в котором коллега покойного лейтенанта Грея проводил допрос с пристрастием в больничной палате Тони), Пол беседовал со многими жертвами катастроф. И от них он слышал кое-что любопытное. Конечно, разные люди говорили по-разному, но все их воспоминания, в сущности, сводились к одному и тому же: Я помню, как сел в машину, и помню, как очнулся здесь. Между этими событиями – провал.
Почему ничего подобного не случилось с ним?
Потому, Пол, что писатели запоминают все. Особенно все, что связано со страданиями. Раздень писателя догола, укажи на любой крошечный шрам, и ты услышишь историю о том, как он появился. Большие повреждения порождают романы, а не амнезию. Талант – полезная вещь для писателя, но единственное непременное условие – это способность помнить историю каждого шрама.
Искусство – это упорство памяти.
Кто это сказал? Томас Сас? Уильям Фолкнер? Синди Лопер?
Это последнее имя вызвало у него одно воспоминание, в данных обстоятельствах довольно горькое. Он почти услышал характерный икающий голос Синди Лопер, весело распевающей «Девчонки всегда веселиться хотят»: Папочка, знаешь, чего все девчонки хотят?/Девчонки всегда веселиться хотят. /Когда не работают или не спят, /девчонки всегда веселиться хотят.
Вдруг он ощутил такую настоятельную потребность послушать рок-н-ролл, что даже потребность закурить не могла с ней сравниться. Не обязательно Синди Лопер. Любой певец сойдет. Господи, да сойдет и Тэд Ньюджент.
Топор опускается вниз.