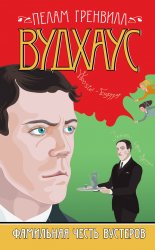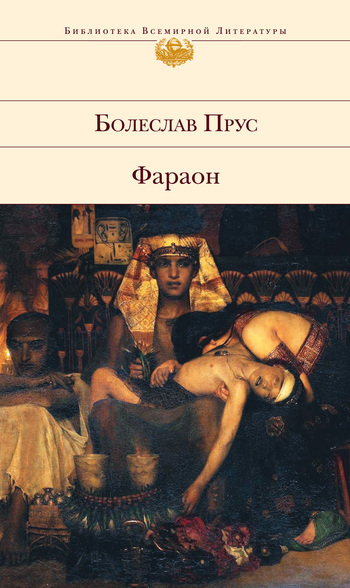Сибирская жуть Бушков Александр
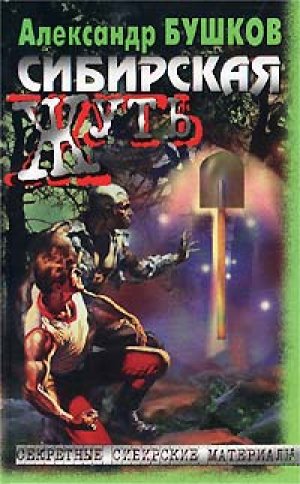
В 1623 году сильно подозреваемый в ереси доминиканский монах Томмазо Кампанелла выпустил в свет книгу «Город Солнца» и тем самым заложил основу нового направления и в литературе, и в общественной жизни — европейской коммунистической утопии. Сам он относился к своей выдумке со зверской серьезностью и изо всех сил пытался уговорить Папу Римского и европейских государей построить Город Солнца по его проекту. Строить город, в котором власть будет принадлежать жрецам-ученым, а специальные надзиратели будут определять, правильно ли ведут себя жители, не захотел, к счастью, никто. Сказал ли это Томмазо Кампанелла Папе Римскому, история умалчивает — но вот что наверняка известно, что благодаря решению Папы, помер он своей смертью, а не от разочарования и тоски, и не был разорван на части людьми, павшими жертвами подлых и страшных экспериментов.
Потом выдумщиков Городов Солнца было много — и оставшихся в рамках чистой теории, и пытавшихся переходить к практике.
В числе пытавшихся строить Города Солнца, один причудливей другого, оказался и самый прозаический тип: Николай Семенович Прорабов, начальник Горлестрансрубпрубдопмом… и еще много всяких сокращений, не так и просто все их вспомнить. Дело в том, что среди всего прочего, любил Николай Семенович охоту, рыбалку и приятную жизнь на лоне природы, без груза всего, что несет с собой цивилизация.
А поскольку возможности у Николая Семеновича, скажем так, превышали средние возможности среднего советского человека, то и удовлетворять свои потребности он имел возможность нестандартную. А из множества мест больше всего любил Николай Семенович одно: где Малая Речка впадала в другую речку, в Ой. Красота покрытых лесом гор, сияние солнца, гул реки поражали, и начальник искренне предпочитал отдыхать здесь, а не в Ялте и не в Коктебеле.
К 1959 году сама память о лагере, стоявшем когда-то всего в тридцати верстах от впадения в Ой Малой Речки, давно и прочно исчезла. Он сгинул бесследно, это проклятое место, да и знали-то о нем немногие. Еще в тридцати километрах ниже по реке стояло когда-то большое село Лиственка. Называлось оно так по речке Лиственке, впадавшей в этом месте в Ой, и находилось как раз там, где Ой вырывался из теснин на Плюсинскую равнину, становясь равнинной рекой и удобряя своими мутными водами тучные земли, покрытые сосновыми лесами.
В Лиственке удобно было вести обычное крестьянское хозяйство, а Саяны с охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод тоже были совсем рядом.
Но начальство замыслило вовсе не восстановить умиравшую Лиственку, из которой давно разбежалось почти все население. На уме было совсем другое… Не говоря ни о чем другом восстанавливать Лиственку значило восстановить что-то такое, что существовало и до тебя. И вовсе не ты создал это восстановленное… А вот если построить новый поселок. Совсем новый, с иголочки. Поселок, которого раньше никогда не было на свете — это вот да! Это значит поступить, как Петр Великий, выливающий болотную воду из ботфорта. Сидит, значит, Петр Великий на кочке, на стрелке Васильевского острова, выливает воду из ботфорта, и кричит Меншикову:
— Слышь, Алексашка?
— Чего, мин херц?
— Город строить будем!
— Ага!
— Я т-те покажу «ага»! Здесь город строить будем!
— Так здесь же болота, мин херц!
— Без болот любой дурак тебе выстроит! А мы — и на болотах можем!
— Так вода же плохая… От болезней в животах помрет сколько!
— Нечо, Алексашка, не горюй, эти дураки помрут — а бабы новых нарожают! Строить будем! Где я сижу, куда воду болотную вылил — там и центр города будет!
Не будем утверждать, что разговор был именно таким, тем паче, что историки передают его очень по-разному. Их версии очень расходятся в зависимости от того, как они относятся к Петру, Меншикову, Российской империи, Петербургу, а главное — к самой возможности строить где попало, без плана, без серьезного расчета, по одной только воле первого и главного лица.
Отметим и то, что совсем еще неизвестно, строился ли Петербург на голом месте и так ли уж без плана и без толку? Совершенно точно, что на месте Петербурга и до Петра очень даже жили русские люди, да и план как будто был… Но так уж вошла эта история в русскую культуру на века: как легенда про основание города на пустом месте; там, где захотел царь. Где вылил воду из ботфорта, там и основал он город. Проникайтесь, чувствуйте, если можете, то подражайте.
Николай Семенович на легенде был воспитан и привык очень хорошо относиться ко всему этому: Великий царь, ботфорт, грязная вода, громадная империя, монаршая воля, миллионы мужиков, сотни тысяч смертей, а зато вон как хорошо все получилось! Николай Семенович имел возможность подражать Петру, пусть в самой малости, и уж случая не упустил. И на пустом месте развернулось строительство — там, где Малая Речка сливалась с большой рекой со странным названием Ой.
Сначала люди приняли решение, люди в кабинетах в Карске и даже в Москве; почти все они никогда на видали Саян и даже не очень представляли, как они выглядят и где находятся. Это были упитанные люди в галстуках и светлых рубашках, одетые так, чтобы никто не заподозрил их принадлежности к тем, кто работает руками. Большинство из них тоже были воспитаны на легенде про Петра, выливавшего воду из ботфорта.
Эти люди дали полномочия и материальные ресурсы Николаю Семеновичу, и закипела работа. Основали новый леспромхоз и стали разбивать лесосеки, нанимать рабочих и перегонять технику. Основали промхоз, чтобы собирать десятками тонн растущие грибы и ягоды, а зимой охотиться на пушного зверя и медведя.
Всех, кто еще не сбежал из Лиственки в Карск и в другие, более благополучные города и поселки, переселили в Малую Речку. Много людей из других деревень и сел привлекли высокими окладами, новыми домами и возможностью строить то, чего еще никогда не было.
Минул какой-нибудь год, а Николай Семенович уже гордо стоял в месте впадения одной речки в другую, позировал то ли в позе Наполеона, то ли в позе Петра. Как он понимал эти позы, так и позировал, разумеется.
В том, что сделали Петр Алексеевич и Николай Семенович, оказалось неожиданно много общего. Петр Алексеевич мечтал построить рай — он по-иностранному называл его парадиз, а построил город — столицу крепостнической империи, по улицам которой каждый день с рассветом шли солдаты, надсадно колотили в барабаны. «Вздуть огонь!».
На закате опять шли солдаты: «Туши огонь!». Вместо парадиза встал город, треть населения которого составляли крепостные мужики и бабы, а другая треть — солдаты (причем тоже из крепостных и те же самые рабы). Город, в котором регулярно справлялись «торговые» казни — публичные порки кнутом (да-да, то самое из Некрасова: «Здесь били женщину кнутом», все правильно). А идея-то была ведь про парадиз.
Так же и Николай Семенович в воображении рисовал себе нечто потрясающее, исключительное, а получился просто леспромхоз — с лесовозами, рычащими по разбитым донельзя дорогам, с покосившимися заборами, обшарпанным донельзя клубом, ароматами скотного двора и свалкой брошенной техники за околицей. Леспромхоз как леспромхоз. Как говорят разлюбившие дамы: «Такой же, как все».
Николай Семенович ждал, что жить и работать в Малой Речке будет так же хорошо, как ему было хорошо ловить рыбу и стрелять глухарей на месте будущей деревни. Что будет… он сам определенно не мог бы сказать, что именно будет и чем Малая Речка должна отличаться от других деревень, но точно знал: будет что-то необычное и очень, ну очень хорошее! А после получки треть рабочих не являлась на работу (как везде); и молодежь так же била морды и безобразно тискала подружек на танцульках; и так же возвращалось стадо; и так же парни после армии прилагали все усилия, чтобы не вернуться в леспромхоз, кроме самых тупых разве что.
Разница же между замыслом Петра Алексеевича и замыслом Николая Семеновича состояла в том, что Петр Алексеевич все-таки хоть немного думал, что он делает, слушал хоть чьи-то советы и руководствовался все-таки не только собственной блажью — и получился все-таки город необычный, интересный, способный жить уже своей собственной жизнью.
А Николай Семенович никого не слушал, кроме советского начальства, и не руководствовался ничем, кроме мнения и воли людей этого круга. Ну, и построил деревню, которая отличалась от остальных только одним: необычайной красотой места расположения и всех окрестностей деревни. А сама была… Ну да, как все.
И вообще он был как все, наш основатель нового парадиза. Очень он был невыразительный, неинтересный, наш Николай Семенович, как и подобает представителю советской номенклатуры — так сказать, плоть от плоти, кость от кости.
То есть он обладал, конечно, необходимыми причудами и блажью, как и подобает уважаемому, солидному, ценимому всеми представителю этой самой номенклатуры. Например, очень не любил длинных тостов, и случалось, грубо обрывал тамаду, если он затягивал процесс… если, конечно, тамада был такой человек, которого можно прервать. И если за столом не было того, кто важнее Николая Семеновича и кто как раз любил длинные тосты.
Еще он любил оперетту, любил охоту и рыбалку. И не любил, неизвестно почему, париться в бане. Мыться любил, а вот париться — нет. Пожалуй, все особенности Николая Семеновича перечислены… Да, как будто уже все. И во всех остальных отношениях ничем не выделялось его лицо из всех остальных номенклатурных лиц — такое же невыразительное, мягкое, пожалуй даже, и ничтожное. В чем, конечно же, Николай Семенович совершенно не был виноват. И понять суть своей жизненной ошибки он тоже не был и тоже виноват в этом не был совершенно.
Загрустивший Николай Семенович стал употреблять водки чуть больше, чем следует ее употреблять руководителю, и все чаще и под разными предлогами выбирался в Малую Речку. И рыбачить, и охотиться, и просто так, посидеть под высокими ивами на берегу Малой Речки, стремительно вливающейся в Ой.
«Не то, не то…», «Совсем сдал Николай Семенович», — шептались сотрудники Управления, и в зависимости от того, как они относились к начальнику, в их шепоте было больше то злорадства, то сочувствия.
А Николай Семенович так и помер на своей любимой лавочке в месте слияния речек, и даже неизвестно, когда именно. Сел с утра, закинул удочки, сидел. Он и раньше часто не проверял удочки. Так просто закинет и сидит; в свои шестьдесят с небольшим он стал уже совсем, совсем старенький. Подошли к Николаю Семеновичу, чтобы позвать его обедать, а он уже холодный.
На поминках, среди всего прочего, прозвучало и то, что был он человек очень русский… И мало кому пришло в голову, что и помер-то он так рано, едва за шестьдесят потому, что был он очень русским человеком. Выдумать свой парадиз, воплотить его в жизнь, убедиться, что реальность не похожа на сказку и помереть от разочарования — разве это не по-русски?! Ни на Востоке, ни на Западе так не умеют… Но эта мысль совсем не прозвучала ни в официальном некрологе, ни на поминках.
Вторая попытка построить Город Солнца в одной отдельно взятой деревне Малая Речка относится к совсем другой эпохе и связана с совсем другими людьми. Интересно только, что поползновение возводить Город Солнца опять связано с той же деревней.
Все дело в том, что в Малой Речке часто появлялись туристы. Время для праздного шатания у интеллигенции хватало, денег тоже, а место было красивое, интересное. И не всем же ехать отдыхать к теплому морю или в дежурные туристские места, в старые города Европейской России, Грузии или Прибалтики?! Тем более — Саяны, есть скалы, и на эти скалы можно лазить. А ведь лазить на скалы — одна из традиций Карской интеллигенции!
Дело в том, что на правом берегу Енисея торчат огромные останцы исключительно твердых пород. Вода и ветер унесли остальное, оставив эти свидетельства времен, когда не было еще современной долины Енисея. Скалы древние, красивые, их прекрасно видно и с левого берега Енисея, с территории города. А впечатлительные люди легко могут заметить, что скалы похожи — одна на голову старика, другая — на сидящего орла, третья еще на что-то. Их так и стали называть — Дед, Беркут, Перья и так далее. Столбы считаются памятником природы, про них пишут даже в справочниках и в энциклопедиях. Есть названия и непристойные, но их-то не упоминают в справочниках.
Лазить на Столбы — занятие нелегкое, опасное, и занятие это на любителя — тем более, что никакого нет смысла в этом залезании, кроме чисто спортивного. Лезть по страшной крутизне, висеть на страховке, рисковать слететь на десятки метров вниз, на камни, — и все это ради удовольствия «пройти участок» или «сделать стенку» на несколько секунд быстрее предшественников… Да, это очень на любителя! Причем в основном на такого любителя, которому больше особенно нечем заняться.
На Столбы лазили еще в прошлом столетии. На одном Столбе некий студент написал даже огромными буквами крамольное слово «СВОБОДА», и жандармы не могли его стереть, потому что не умели лазить. Это было очень назидательная победа революционных сил над реакционным жандармским корпусом. А что особенно удивительно — так это как раз стремление жандармов залезть и стереть надпись. Интересно, что сделали бы студенты, если бы жандармы просто пожали плечами и не стали бы бесноваться под крамольной надписью, у подножия недоступных реакционным силам Столбов? Трудно сказать… По крайней мере, трудно представить себе лучшую антиреволюционную агитацию. Революционеры прыгают, стараются изо всех сил, а реакционные силы их попросту игнорируют… Старушку переводят через улицу, ищут деток, потерявшихся у нерадивой мамаши, ловят карманника…
Но увы! Жандармы, как оказалось, мыслили так же, как студенты, и стереть надпись стало у них идеей фикс. Впрочем, быстро выяснилось, что верна и другая закономерность. Не успели бывшие студенты вкусить власти, как стало очевидно — и они мыслят в точности так же, как самые тупые и злобные жандармы Российской империи.
Столбы хорошо видны из города, но долго, очень долго надо ехать до них — несколько часов. Через Енисей плыли на лодках, или шли через понтонный мост. До деревни Бузинной добирались часа за четыре пешком, часа два на лошадях. Ну и оттуда еще столько же до Деда и до Первого Пера. На Столбах стали строить избы. Первые избы построили еще до I Мировой войны, последние — где-то в 1960-е годы. Собиралась группа любителей лазить и вообще пожить не в городе, и они строили — для себя, для коллектива друзей. Каждый «свой» мог прийти в избу в любое время суток и провести в ней столько времени, сколько он сочтет удобным для себя.
В каждой избе были свои традиции, а все столбисты подчинялись неким общим правилам. Традиции записывались в большую черную тетрадь самого зловещего вида, и всегда находились хранители — и тетрадей, и традиций в целом.
Часть этих правил была крайне проста, разумна и объяснялась самой жизнью. Нельзя было лазить одному на скалы или в одиночку ходить в лес. Нельзя было приводить в избу незнакомых людей, не спросив остальных. Нельзя было держать в избе заряженное ружье.
Другие традиции были скорее забавны, но по крайней мере, вреда от них тоже не было никакого. Нельзя было плевать в костер или заливать огонь водой. Нельзя было есть чужой ложкой. Нельзя было пить в избе сухое вино и шампанское — только водку.
Были традиции и, скажем так, несколько странные. Например, за пределами изб и вообще Столбов, оставался весь остальной мир, и ни во что не ставился опыт, полученный вне изб и Столбов. Новичок должен был или уйти, или принять весь комплекс традиций, переделать себя под то, что создали другие. По таким законам живут армии во многих государствах. По таким правилам живет весь уголовный мир во всех странах мира, на всех континентах. Так жили испанские конкистадоры, китайские «триады», японские «якудза», индусские члены касты душителей, итальянские представители «почтенного сообщества», а также русские разбойники.
Другой странной традицией было непременное давание кличек. И традиция грубости, бытового свинячества. Считалось, например, совершенно необходимым дать кличку крупной девушке типа Тетя Лошадь, а стеснительному юноше — Заика.
Избы строились для того, чтобы заниматься альпинизмом, это факт. Но с самого начала на одного, кто достиг чего-то в альпинизме, приходилось десять тех, кто вообще лазил на скалы, и сто тех, кто гордился тем, как он хорошо лазит, этот единственный альпинист на избу.
Столбисты умели держаться друг друга, образовывая клан, поддерживавший своих. В годы засилья советского блата это было весьма, весьма важно. Обитатели одной избы работали в разных местах, и доставали друг другу необходимое — например, напрочь исчезнувшее из продажи мыло или «синюю птицу счастья» — страшенную пупырчатую курицу, скончавшуюся то ли от старости, то ли от тоски при чтении партийных документов о развитии советского птицеводства.
Столбисты были людьми, проводившими часть жизни в выдуманном мире романтики. Зрелые дядьки продолжали играть — любой психолог сразу скажет — играть в то, чего не получили в реальности.
Многое объясняет тот факт, что Город Солнца в 1991 году затеяли строить люди, воспитанные на столбизме. Люди из избы, называвшейся то ли «кунаки», то ли «абреки», то ли «белые слоны»… За давностью лет это уже трудно распознать.
Компашка была крайне пестрая, как и большинство таких компашек, тусовавшихся вокруг каменных столбов и деревянных избушек: биолог Костя Хрипатков, в годы перестройки пошедший в торговцы; счетовод Сашка Хлынов, в те же годы пошедший в мануальные врачеватели и хорошо, что хоть не в экстрасенсы; эротический массаж в исполнении Хлынова приводил в ажиотаж одиноких дам, а сам он так зазнался, что уверял о своем происхождении от персонажа Островского. Были в компашке геологи — Сергей Динихтис и Айнар Алибеков; эти, после развала Большой Геологии, сами не знали, куда идти и чем бы вообще им подзаняться.
Компашка столбистов не раз отдыхала не только на Столбах, но и в Малой Речке, и там в нее вошел Маралов, хотя и на особых основаниях, чтобы стать вполне своим, он был слишком состоятелен, уверен в себе, да и попросту психически нормален. Но нужен был Маралов, очень нужен… Компашка понимала, что без него не будет у нее ну совершенно ничего.
Компашка была высокого мнения о кишащем дичью лесе, красивых скалах, о грибах, которые можно действительно собирать. Не искать, как обычно ищут грибы, а собирать в буквальном смысле слова: когда рвешь один гриб, уже видишь еще с полдюжины и идешь не разгибаясь, пока не окажется, что не в силах вынести из леса уже набранное. А грибов совсем и не уменьшилось.
Компашка считала, что Малая Речка — место исключительно богатое и пропадает только по вине идиотов, не умеющих богатствами распорядиться.
Тогда, в конце 80-х, в Малую Речку из Ермаков каждый день ходил ГАЗ-66 со здоровенной будкой наверху, и можно было сколько угодно рассказывать друг другу, что вот в цивилизованных странах ездят на комфортабельных автобусах, а не в таких таратайках. Намекая тем самым, что вот возьмутся за дела в Малой Речке настоящие люди, закрутят крутые дела, и будет тут тоже как во всех цивилизованных.
В деревне действовал леспромхоз и промхоз. Если рабочий в леспромхозе получал меньше трехсот рублей в месяц, можно было смело говорить, что он пьяница и бездельник. А если охотники не ели на золоте, то в основном потому, что это было им совершенно ни к какому месту.
Компашка тоннами вывозила лисички, исподтишка скупала пушнину, а на хлебах Маралова вела жизнь привольную и интересную и искренне полагала, что конца этому не будет потому, что этого не может быть никогда.
Если сравнивать с чем-то планы Хрипаткова, то разве что с самыми горячечными из мечтаний Наполеона Бонапарта. Даже Динихтису и Покойнику было далеко до грандиозности его намерений. Маралов же демонстрировал прискорбную бескрылость духа и примитивизм сознания, не вполне понимая величие замысла и его возможные последствия.
Планы захвата Малой Речки и построения в ней Города Солнца были разработаны в Карской квартире Хрипаткова и включали 18 пунктов в одной редакции и 29 — в другой. Согласно этим планам надлежало в первую очередь захватить в Малой Речке все командные высоты в виде местных предприятий, производств и экономических учреждений. Предполагалось, что промхоз захватывать не надо, потому что он и так свой — директором его был Маралов. Для начала же исполнения плана надлежало захватить местный леспромхоз, и тогда в руках заговорщиков окажутся все командные высоты уже существующей экономики. И тогда все и в Малой Речке, и во всем Карском крае никто не сможет ничего сделать в Малой Речке, если этого не захочет компашка. А компашка, наоборот, сможет делать все, то только захочет.
Следующим ходом должно было стать создание новых предприятий: плодового сада, фермы кроликов, фермы шиншилл, ювелирного заводика, цеха по производству мебели, производства дамских манто из местной пушнины.
Про ювелирный заводик придумал, конечно, Динихтис, облазивший все местные пещеры и натаскавший из них много всякого.
Про кроликов и шиншилл — Хрипатков, который в детстве ходил в кружок юных любителей кролиководства, а про шиншилл слыхал, что у них ценная шкурка, и что каждая самка шиншиллы приносит каждый год по три помета, а в каждом по десять детенышей. «Если взять десять самок… Значит, к концу года из будет уже триста штук… То есть… Тьфу! Их будет сто пятьдесят потому что половина-то — самцы. Значит, сто пятьдесят… Стоп! А первые-то десять куда девались?! Итого, сто шестьдесят самок… А на второй год… С ума сойти! На второй год — уже…» Тут Хрипатков хватал микрокалькулятор, и выяснял, что на второй год он станет владельцем 2400 драгоценных самок шиншиллы, а на третий — 36 тысяч зверьков. «На лето будем выпускать их в сады…» — блаженно думал Хипатков и начинал подсчитывать, какую сумму он получит от продажи 2400 шкурок самцов во второе лето и 36 тысяч — в третье… Учитывая, что шуба из 300 шкурок стоит столько же, сколько ванна из чистого золота. Хрипатков взвешивал ванну, подсчитывал стоимость золота и приходил в страшное неистовство — потому что уже подсчитав, соображал, что считать надо не вес, а объем — сколько будет весить золото, если из него сделать ванну.
Так считал своих шиншилл Хрипатков, потратил на это занятие несколько дней, и сердце его замирало все более радостно.
Следующим этапом построения Города Солнца должно было явиться создание местной школы… вернее, вытеснение в ней местных кадров своими людьми, привоз в Малую Речку необходимых людей и подъем местного образования на недосягаемую высоту.
Уже сам переезд компашки из Карска в Малую Речку невероятно обогатит местный генофонд и интеллектуальный фон (про улучшение местного генофонда жена Хрипаткова слушала с особенным интересом, но пока что помалкивала). А поскольку они не только облагодетельствуют Малую Речку самими собой, но еще и привлекут множество других, почти таких же умных людей, то в ближайшее время Малая Речка станет не только центром различных производств и ремесел и местом исключительно богатым, но еще и местом очень умным, в которое потянется интеллигенция. Наступит неслыханное процветание, и писк шиншилл в яблочных и грушевых садах и отдаленные звуки трехсменной работы в цеху заглушат только умные речи, ведомые интеллектуалами. Хрипатков буквально видел уже берега Малой Речки, вдоль которых прогуливаются такие… в белых тогах… или нет, не в тогах… Но в белых одеждах, вроде индийских дхоти. Такие одежды Хрипатков видел по телевизору, и именно в них представлялись ему те, кто будет прогуливаться вдоль берегов.
Зрелище Нью-Малой Речки вызывало покалывание в носу и умиленное воспарение в переливающиеся выси теории. Остановка была за реализацией, и осенью 1992 года компашка ринулась на штурм, на слом.
Как уже было сказано, Маралов оказался самым тупым и бескрылым из строителей Города Солнца. Впрочем, и взяли его в компанию больше как нужного человека, чем как своего, разделяющего идеологию компашки.
Впрочем, всеми заметными успехами компашка оказалась обязана в первую очередь Маралову… И во вторую очередь. И в третью. Именно он способствовал тому, что Динихтис стал директором леспромхоза. Без помощи Маралова хрен получил бы он должность. Динихтис моментально прихватизировал леспромхоз, да так ловко, что даже кот Базилио и лиса Алиса должны были считаться лишь самыми жалкими учениками его учеников.
Беда же состояла в прискорбном недопонимании сей акции остальными участниками предприятия. Согласно гениальным планам, Динихтис должен был получать прямо-таки несметные сокровища. В реальной жизни рабочие разбегались, а остальные все больше били баклуши, ожидая в приступе скотской жадности, когда же выплатят зарплату. Главный бухгалтер уволилась пока не поздно, а на реализацию планов громадья не хватало ни денег, ни кадров, ни четкого понимания, что же именно хочется сделать. Спустя год процветавший когда-то леспромхоз благополучно лежал на боку, и что с ним делать, становилось совершенно непонятно.
А про цех по изготовлению мебели говорить стало просто смешно. Разведение кроликов начиналось совершенно замечательно, но Хрипатков быстро столкнулся с самой грубой, приземленной прозой жизни в виде отсутствия клеток, кормов, денег, умелых людей и даже, увы, самих кроликов.
И даже те кролики, которых удалось раздобыть и рассадить, вместо клеток, в старые железные бочки, попались неправильные. Они невероятно много жрали, оставаясь при этом тощими и противными, совсем не товарного вида. Кролики не желали понять, что срывают этим планы Хрипаткова, и плодились в сто раз медленнее, чем обещали, да еще норовили все время сбежать из бочек и начать вольную жизнь. Малореченские собаки были положительно очарованы кроликами, но тоже преследовали какие-то свои цели, крайне далекие от создания материальной базы Города Солнца.
Жуткого вида тощие синие тушки и плохо выделанные шкурки с потертостями и кровяными пятнами вызывали слезы у жителей всех сел, в которые Хрипатков довозил свой товар.
— Это у тебя не кролики… Это жертвы фашизма, — серьезно сообщили Хрипаткову и даже обещали побить за истязания животных.
Какие-то завистники пустили слух, что Хрипатков торгует никакими не кроликами, а пойманными в поселке кошками. Одна старушка на рынке в Ермаках кричала даже, что кролики такими не бывают. Тут в Малой Речке некстати пропало несколько котов, на Хрипаткова стали поглядывать и вовсе косо, и никто его уже не слушал. Стоит ли добавлять, что жители Малой Речки никогда так и не увидели ни одной шиншиллы? Да и как могло быть иначе, если денег не хватило даже на прокорм племенных кроликов.
Скупка пушнины и поставки спирта охотникам могли бы приносить доход. Тем более, заниматься этим стало можно вполне легально, не то что раньше.
Но тут за свой, уже легальный кусок вступился страшный конкурент — прихватизатор местного магазина, Федька Бздыхов. Он тоже приторговывал спиртиком и обладал еще по крайней мере еще двумя инструментами воздействия на рыночные отношения: мог выдавать авансы под будущую пушнину — и продуктами, и снаряжением, и большинство охотников скоро стали у него в долгу как в шелку, и при всем желании не могли унести пушнину налево, то есть вот ни одной шкурки.
А вторым способом воздействия на рынок стала шайка из трех мордоворотов, впервые в истории Малой Речки попытавшихся сколотить что-то вроде мафии местного розлива. Начали эти трое сверх всякой меры неудачно, попытавшись рэкетировать Маралова. Тот, по природе человек предельно миролюбивый, долгое время не мог сообразить, что его сейчас начнут убивать и грабить, но уж когда все-таки вник…
Главный рэкетир Панкратыч отделался все же легче всех — сразу лег на землю и громко закричал:
— Я больше не буду!
И Маралов его больше не бил, тем более — уха у Панкратыча все равно уже не было. Киллер Колька пострадал сильнее, но ведь и он только перелетел через сарай и приземлился посреди свинарника, сломав всего лишь два ребра.
Вот мафиози Валька Филимонов… Вот ему стало очень неладно, потому что он пытался сопротивляться Маралову и даже затеял стрелять. И Валька не только пробил собой дощатое сооружение и с плюхом свалился в его ароматные недра, но еще назавтра чинил необходимое сооружение, сопровождая сей процесс оханьями, аханьями, стонами и причитаниями.
С тех пор страшные пираты местных морей и крестные отцы всея Карского края при встрече с Мараловым первыми сдергивали шапочку, а он когда кивал, когда и нет… уже смотря по настроению.
Но вот для общения с конкурентами прихватизатора Федора Бздыхова шайка пришлась как нельзя лучше. Неукоснительно проводя политику монополизации, централизации и суммирования авуаров, Федор Бздыхов просто не мог пройти мимо стрекулиста, нахально спаивавших охотников помимо монополистов. Ни коммодор Вандербильдт, ни Морган, ни Рокфеллер не потерпели бы такого, и Бздыхов тоже не терпел.
Гиганты бизнеса сошлись в жесточайшей конкурентной борьбе, и самодеятельным конкурентам был преподан урок со стороны могучего монополиста. Преимущества монополизации, централизации и строго планомерного спаивания населения явились Хрипаткову в виде трех местных бичей (Хрипатков сильно подозревал, что именно они сожрали кошек). Самое ужасное, что самого-то Хрипаткова они не трогали — приятель Маралова как-никак… Занимались они охотниками — вот кем!
Тем, кто продолжал продавать Хрипаткову пушнину, просто били морду по пьяной лавочке и угрожали вообще не продавать спирта. С этой ужасной угрозой совладать не мог ни один, даже самый трезвенный охотник, и доходы падали катастрофически.
Когда же Хрипатков намеревался вывезти в Карск немногое добытое, его «жигуль» оказался вдруг с проколотыми шинами, а домкрат, канистры и зеркала у машины благополучно исчезли. Хрипатков попал в Карск, конечно же, но рынок уже был насыщен, и почти все, кому надо, малореченских соболей уже купили.
По поводу «жигуля» Хрипатков подал заявление участковому в Ермаках… На свою голову! Известно, что в мире нет ни счастья, ни справедливости — об этом свидетельствуют уже пророки древней Иудеи.
Известно также, что все современные монополии тесно срослись с государственным аппаратом, и государственно-монополистическая система торпедировала свободу либеральной экономики. Между прочим, Хрипатков слыхал об этом тысячу раз и только по невежеству не верил.
Милиционер же, Прохор Лишкин, теории толком не знал, но на практике так тесно сросся с интересами Бздыхова, что даже обвинил самого Хрипаткова в хищении тридцати свечей, двух килограммов карамели и розового чупа-чупса непосредственно с витрины магазина. Дело было липовое, хилое, но несколько месяцев Хрипатков не выращивал кроликов и не ваял мебель, которую только в Париж. Кляня все на свете, мотался он по судам, доказывая свою невиновность.
Надежда была и на сад, но быстро оказалось, что рассуждать у костерка о сортах яблок и груш, вегетационном периоде и калораже, пожиная своей ученостью умиление дам — это одно. А копать ямы, выбирать саженцы, поливать эти подлые ростки, норовящие засохнуть — совсем другое. Хлынов даже вынужден был стеречь будущий сад по ночам, отгоняя от него свиней, а когда не уследил — всего лишь раз! — малореченские хавроньи были ему очень благодарны, а вот зародыша чудо-сада уже не было в помине… так, остатки.
Огорчению Хлынова не было никакого предела, и утешало одно — хоть что-то удавалось все-таки, а именно: лечение населения мануальными телодвижениями. Восторгу дам, в основном климактерического возраста, не было конца и края, Хлынова звали в разные дома, его клиентура и доходы возрастали.
…Что, впрочем, имело весьма косвенное отношение к построению Города Солнца.
Даже жена главного конкурента, Матрена Бздыхова, пользовалась его услугами и была в полном авантаже. Своего имени Матрена не любила как имени простонародного, достойного только деревенской бабы. Что она таковой и была, к делу отношения не имеет — в основе комплекса Матрены Бздыховой и лежало желание быть не тем, чем являешься на самом деле. Матрена Бздыхова любила, чтобы к ней обращались цивилизованно — мадам, и несколько изменила фамилию…
— Мадам Вздохова, — именовал ее Хлынов, жадно лобзая огромную красную лапу, перекопавшую и прополовшую огород площадью примерно в полгектара.
И пожинал сладкие плоды успеха… Настолько сладкие, что в один прекрасный день вынужден был поспешно слинять в Карск, и виновата была Бздыхова-Вздохова. Что самое обидное, греха-то и не приключилось… очень может быть, гораздо проще было бы жить на свете Саше Хлынову, вступи он с Матреной и впрямь в неприличную связь. А тут…
Многолетний опыт общения с определенным контингентом подвел Хлынова. Заведение глазок, лобызание ручек и подрагивания всем телом были необходимы для его многоприбыльной деятельности, а дамами воспринимались адекватно — как часть приятного ощупывания, потягивания и нажимания. Но то были дамы светские и искушенные, а деревенская баба Матрена воспринимала все иначе. Для нее-то, для дуры, все было очень даже всерьез, — иначе она не умела. А влюбившись нешутейно в Сашку Хлынова, Матрена была органически не способна скрыть этого обстоятельства — как неспособна, скажем, река, потечь вверх, втягиваясь в горы, или как волк не может перейти на вегетарианский способ питания.
Матрена расточала Хлынову знаки внимания в виде мелких подарков разного рода: корзины ранних помидоров, копченого свиного бока, а как-то попыталась подарить ему живую козу — по ее словам, очень удойную. При появлении Хлынова Матрена багровела и краснела, издавая идиотское хихиканье и кокетливо поводя плечами. Матрена забывала подоить корову и постирать рубашку Федору. Матрена готовила похожий на помои суп и пережаривала мясо так, что им можно было забивать гвозди.
— Ну чего тебе, дурища, не хватает?! — дико орал Федор Бздыхов, украшая мать своих детей очередным фонарем. — Я тебе холодильник! Я тебе чиливизир! Я тебе этот… как его… видеомагнитофон! Я тебе тряпок вагон!
— Да ничего я не хочу! — орала Матрена еще страшней, еще пронзительней. — Все равно ты пальца евоного не стоишь!
После этого, естественно, Матрена получала очередную затрещину, а очень часто — не одну. Федор уходил пить водку и тем самым утешаться, а Матрена валялась на полу, жутко рыдая и ухая.
Устав колотить Матрену, Федор переставал выяснять отношения и надолго уходил в запой; а в этом состоянии он начинал искать по всей деревне Хлынова. Хлынов прятался у друзей, на охотничьих базах Маралова или попросту убегал в лес. Однажды он часа два пролежал под перевернутой лодкой, сидя на которой Федя Бздыхов разливал сочувствующим водку, изливал свое горе и подробно рассказывал, что он сделает с Хлыновым.
Честно говоря, Хлынову и так это все начало несколько надоедать… А тут Федор повадился лупить Матрену проводом, и Хлынов все ворочался по ночам от ее воплей — вроде хоть и косвенно, а оказывался виноват. Для Хлынова же Федя завел двустволку 12 калибра и как выпьет — тут же громко пристреливал ее на задворках деревни.
И настала ночь, в которую Федя препоясался патронташем, избил Матрену и отправился искать Сашу Хлынова, а Саша Хлынов уже не сторожил остатки драгоценных саженцев. От злости плача мутными слезами, Саша принимал знаки внимания и верности от остальных отцов-основателей Города Солнца, скрипел зубами, бил себя в грудь и умолял помочь, не выдать, простить, не поминать его лихом.
— Да понимаем мы… — сипели собутыльники-подельщики. После чего Хлынов был тайно вывезен Хрипатковым в багажнике до Ермаков и оттуда уехал в Карск — уже пассажиром в автобусе.
Конец истории плохой — спустя какой-нибудь месяц Федя излупил шумно тосковавшую Матрену до рубцов, допился до зеленых чертиков и, устроив с зелеными свару, свалился с моста в Малую Речку. Заметили добрые люди, что долго не всплывает Федя, подбежали… А поднимать-то его уже поздно.
Матрена, как уехал Хлынов, натянула черный платок на глаза, а помер Федя — еще и черное тесное платье. Так и ходила — то ли по Феде, то ли по несбывшейся любви к Хлынову, но дела после Феди вела торовато и строго, нечего было надеяться потеснить фирму после смерти мужа.
…А свиньи дочавкали последние чахлые саженцы, и этот сожранный свиньями несостоявшийся сад ознаменовал полное поражение компашки на экономическом фронте. Больше всего огорчало Хлынова, что план пострадал из-за могучей, как сама мать сыра земля, щедрой, как природа Саянских гор, но совершенно ненужной ему Матрены.
Единственным же успехом компашки в строительстве Города Солнца была, пожалуй, малореченская школа… и то успех был не настоящий, потому что непонятно, чей он был, этот успех — компашки или все того же низкого духом, примитивного, но почему-то очень успешного Маралова.
Дело в том, что все финансовые вливания в школу осуществлял именно Маралов и только Маралов.
А кроме того… Кроме того, у Маралова была жена — учитель русского языка и литературы. И именно она стала неформальным лидером тех, кто хотел сделать малореченскую школу чем-то более-менее цивилизованным. Здесь надо сказать, что в школе стали работать жены многих представителей компашки — и Юлия Сергеевна Динихтис под заполошные вопли супруга, и Светлана Петровна Алибекова, и Маргарита Покойник. Именно они привлекли к работе и еще двух других дам, изначально никак не связанных с компашкой.
Дамы расписали школу красивыми и назидательными картинками. Дамы стали вести курсы, которых не было порой и в московских школах. Дамы создали для школьников клубы по интересам и работали ярко и увлеченно. Малореченская школа стала очень даже заметна и в Карске, и во всем крае, и это, как ни странно, вызывало раздражение компашки.
Вроде бы они этого и хотели… Но хотели-то они совсем иначе! Компашка хотела, чтобы школа развивалась под их чутким руководством и окормлялась бы их интеллектом. А тут не оказывалось ни их руководства, ни… М-да, ну и положение… Но придется договорить — их интеллект оказывался тут совершенно не при чем. Даже если предположить, что был у них этот самый… Все равно к школе он не имел решительно никакого отношения, а сама школа формировалась как какое-то сомнительное, неправильное и вообще бабское дело. Да притом еще и успешное! Ну никак не должно было быть никакого такого успеха у баб, да еще и без всякого духовного окормления со стороны компашки.
Тем паче, дело строительства Города Солнца как-то хирело на глазах; да и переезд компашки в Малую Речку не состоялся. Жена Хрипаткова быстро обнаружила, что она, оказывается, имеет прекрасную квартиру в Карске, и что эту квартиру совсем не резон ни менять на деревенский дом в дикой глуши, ни забрасывать во имя каких-то мужниных мечтаний. И Хрипатков ездил сюда так же, как раньше на короткие сроки, — скупать пушнину, собирать грибы, прирабатывать в хозяйстве Маралова.
Хлынов панически бежал. Алибеков пытался работать в леспромхозе, и как ни тянул с этим Маралов, а все же вынужден был расстаться с неимоверным бездельником. Динихтис пытался пригреть Айнара на поисках камней в пещерах, но в пещерах ему было страшно, и он оттуда убегал.
Позже Айнар Алибеков уехал в город Могарычинск, переменил там много родов занятий и в конце концов нанялся вышибалой в пивбар, где закрепился надолго.
Из всей компашки в Малой Речке прижился разве что Динихтис, но и тот, после всех приключений, в скромной роли частника, как говаривали в советские времена, единоличника. Динихтис искал полудрагоценные камни в пещерах, делал из них ювелирные украшения и продавал их в Карске. Тем он и кормился, с божьей помощью, а Город Солнца, Нью-Малая Речка, так и оставался непостроенным.
ГЛАВА 8
Самая древняя и самая короткая глава
1861 год
Свою редкую, необычную фамилию Динихтис получил от прапрадеда, а прапрадед, Григорий Григорьевич, получил свою фамилию тоже способом редким и необычным. О своем прапрадеде, давшем фамилию, кстати, Динихтис не имел совершенно никакого представления. И к лучшему, что не имел! Потому что умный человек не стал бы испытывать смущения от того, что происходит от крепостного мужика… тем более, от мужика, который задолго до реформ Александра-освободителя ухитрился сбежать из своей замордованной деревушки, затерянной где-то меж высоких хлебов, березок и сосновых перелесков средней полосы Великороссии. Но некуда правду деть… Не был Сережка Динихтис умным человеком… По крайней мере, достаточно умным, чтобы гордиться своим редким, необычным предком. Так что оно и к лучшему, что память о Григории Григорьевиче стерлась, и Динихтис ничего о нем не знал.
О предке, давшем фамилию всему последующему роду, разные люди имели весьма различное представление. Помещик Батог-Батыев считал Гришку просто одним из бесчисленных и ничем не интересных двуногих орудий и полагал его имуществом ценным только тем, что Гришка приносил оброк всегда вовремя, и оброк не такой уж плохой.
Отец и мать полагали, что Гришка человек тароватый и хитрый, который далеко пойдет; а жена и сыновья считали его человеком необыкновенного ума. Про последних трех людей скажем прямо — для чего-для чего, а чтобы не жениться на женщине умнее самого себя, Гришке ума вполне хватило. Младший же сын принес с полей русско-японской войны расплющенную об его лоб пулю и носил ее в брелке, долго рассказывая, какие японцы маленькие да дохлые, и что пули у них тоже такие же.
Односельчане считали Гришку малым вроде и не очень умным, но упорным и страшно упрямым — и это было, пожалуй, наиболее справедливое отношение.
Бурмистр же деревни полагал, что Гришка не только хитер, а еще и очень подлая бестия, и что Гришка не просто зарабатывает деньги на оброке, а пытается смыться оттуда, где по рождению просто обязан пребывать. Давно известно, что нет страшнее палача, нежели холуй, поднятый до этой почетной должности хозяином над такими же, каков был сам вчера. И несдобровать, ох несдобровать бы Гришке, если бы шампанское, шпоры, атласные тряпки и дуэльные пистолеты, жизненно необходимые в жизни истинного дворянина, не росли бы в цене постоянно. И если бы Батог-Батыев не был обречен все это приобретать, несмотря на рост цен, инфляцию и неблагоприятные погодные условия.
Батог-Батыев очень страдал от мысли, что вот его еще недавним предкам не стоило таких уж колоссальных усилий вести образ жизни, достойный истинного дворянина. Но что поделать! На смену XVIII веку — веку изящества и утонченности, веку Версаля и Зимнего дворца — пришел противный, упаднический XIX век — век машин, денег и науки. Век, в который даже дворянам страшно подумать! — даже дворянам надо было иногда напрягать мозговые извилины. По мере того, как Батог-Батыев все больше прожирал наследие предков, его все чаще посещала ну совершенно не дворянская мысль: а на что он будет завтра пить шампанское?!
Лично Батог-Батыев с Гришкой не сталкивался, дел с ним не вел, и никакого личного отношения к нему не имел. А парень своим оброком помогал ему так и прожить, не напрягая извилины, не имея профессии, не делая никакого полезного дела… словом, вполне по-дворянски. И потому Батог-Батыев бурмистра не слушал, каждый год выписывал Гришке паспорт и только увеличивал оброк.
А Гришка на увеличение оброка попросту плевал, потому что когда Батог-Батыев требовал пять рублей в год, профессор в Москве платил Гришке три рубля… причем вовсе не в год, а в месяц. Накануне освобождения помещик озверел и потребовал двадцать рублей, но Гришка давно имел десять… тоже в месяц, разумеется.
Вот профессор был о Гришке мнения самого своеобразного. С одной стороны, лучшего лакея профессор и представить себе не мог и чрезвычайно ценил Гришкину рассудительность, упорство и невероятную исполнительность. «Это же не русский мужик! Это прямо немец какой-то»! — в восторге восклицал профессор. С другой же… Да, была другая сторона, очень даже была!
Вот, скажем, у профессора возникла мысль, что его лакей должен различать правую и левую стороны… Зачем это было нужно профессору, история умалчивает, но вот — понадобилось. И столкнулся бедняга-профессор на пути к реализации идеи с массой специфических осложнений…
К счастью, профессор знал классическую историю про поручика Преображенского полка, который привязал к левой ноге солдат по пучку с сеном, к правой — с соломой. И вскоре Гришка уже лихо показывал, какой глаз и какое ухо у него левые… не хуже, чем солдаты Преображенского полка, маршировавшие под самобытные команды: «Сено! Солома!».
Но у профессора появлялась еще мысль, что его лакей должен знать, в какой стороне находится город Париж, и приходилось украшать людскую стрелкой, нарисованной на полу.
— Гриша, так где у нас будет Париж? — внезапно спрашивал профессор.
— Сейчас в людскую сгоняю! — лихо отвечал Григорий и объяснял кухарке и горничной:
— Опять их благородие забыли…
В таких случаях профессору-палеонтологу и приходили в голову довольно странные ассоциации. Незадолго до того, как парень нанялся к нему, английский коллега профессора, Роберт Мурчисон, выделил силурийскую систему — по названию кельтского племени силуров, живших когда-то давно в непроходимых лесах Южной Англии. Это уже потом леса вырубили, а силуры научились прилично вести себя за столом, перестали раскрашивать тела в синий цвет и вообще утратили национальную самобытность.
Кроме того, Роберт Мурчисон выделил еще и девонский период, который наступил позже, и выделил его уже по названию графства Девон.
Силурийский период был страшно давно, задолго до племени силуров — не много не мало, а 450 миллионов лет назад. Девонский — позже, всего 400 миллионов. Время, не слишком вообразимое для ума. Не было в те времена никаких животных на суше, даже пауки и тараканы еще не появились на голой, безжизненной земле. А вот в морях кипела жизнь, и плавала в этих морях огромная хищная рыба, названная динихтис, длиной примерно 9 метров.
Девонский период и отличался от силурийского тем, что в девонском периоде эта рыба уже была. Это была панцирная рыба. Внутренний скелет у нее был слабый и маленький, и мышцы крепились к облегающему тело панцирю. Вместо зубов у рыбы во рту, похожем на огромный клюв, сидели длинные и острые пластины, а в огромном, очень толстом черепе располагался мозг, размером с маленькую пуговицу или с мелкий орешек лещины.
Даже на профессора Погребнякова, который всю жизнь занимался тупыми и дикими тварями, динихтис производил очень сильное впечатление.
— Динихтис… Истинный динихтис! — произносил порой профессор, покачивая головой, по поводу какого-то студента. Впрочем, он как раз любил студентов, любил своих собственных детей, и вообще всех человеческих детей, так не похожих на вымерших миллионы лет назад тварей почти без мозга, с тупыми и сонными взглядами, как у современного судака или, скажем, у дохлой лягушки. Нередко, разбирая кости, скрепляя гипсом куски толстенного черепа с хищно, злобно изогнутыми челюстями, профессор словно бы заглядывал в черные глазницы тупой злобной твари, вся жизнь которой состояла в пожиранье других и тоже очень тупых рыб.
Профессор вздрагивал, проводил руками по глазам и быстро выходил к студентам, заводил с ними разговоры — со студентами, у которых были такие высокие черепа с такими тонкими, изящными костями, наполненные превосходным мозгом. У студентов были подвижные умные лица, и никто из них не лежал в теплой воде, на дне теплого болота, подкарауливая добычу; и не сидел, разинув рот посреди коридора, как живой капкан. Даже студенты, добывавшие свой хлеб предосудительно: за счет богатых дамочек или картежной игрой — добывали пищу несравненно более сложными способами, чем это делали ихтиостеги, динихтисы, стегоцефалы и прочие чудища, прилежно изучаемые профессором.
В такие дни профессор с особенным блеском читал лекции, повествуя о могуществе эволюции, и с чрезвычайным удовольствием, очень подробно объяснял, почему давным-давно прошли времена этих чудовищных и тупых тварей.
Инспекторов и цензоров очень волновала эволюционная теория, и они требовали, чтобы профессор не рассказывал ни о какой такой эволюции, ни о миллионах лет, а преподавал бы все только так, как написано в Библии.
— Динихтисы! — орал возмущенный профессор.
Цензоры снимали лекции профессора, требуя утверждения начальством эволюции, динозавров и древних рыб и земноводных.
— Динихтисы! — подхватывали студенты, пуляя в цензоров и инспекторов тухлыми яйцами. Университет закрывали, наполняя его толпами казаков, чтобы они не пускали туда профессоров и студентов.
Слово нравилось и казакам.
— Истинный ты динихтис, Карп Семенович, — говорил есаул казаку, — ты пошто его, засранца, сразу саблей?! Ты его сперва нагайкой, а уж потом, если не вникнет…
— А давайте, господа, все-таки позволим Чарльза Дарвина? — уговаривал начальство ректор университета юбилейным голоском. — Перед Европой неудобно. Нельзя же, в самом деле, быть такими… этими самыми…
И тоном ниже, почти шепотом, ректор заканчивал:
— Динихтисами…
— А чего они обзываются?! — возмущенно орало начальство. — Этими вот самыми и обзываются! Тут только разреши! Только дай волю!
В результате начальство все запрещало: и динихтиса, и эволюцию. На всякий случай запрещало и геологию, чтоб не мутить умы. А то вот миллионы лет какие-то, звери какие-то странные, и никаких признаков начальства целые геологические периоды.
Студенты били казаков, строили баррикады; казаки били студентов и растаскивали баррикады; начальство увещевало студентов и науськивало казаков; каждый резвился, как умел. В России вообще жить было весело.
Одним словом, профессор попросту затеял ругаться словом «динихтис», как иные священники ругаются словом «анафема». С легкой руки профессора слово прижилось. Герцен писал, что начальство в России и даже царская семья — сущие динихтисы, хуже всяких динозавров. Самарин писал, что динихтисов на Святой Руси нет и никак быть не может, а вот в Европе с ее эксплуатацией этого добра как раз навалом. Писарев ругал динихтисами феодальных клерикалов и клерикальных феодалов. Действительный статский советник, министр просвещения Дмитрий Толстой обругал динихтисом Писарева.
А профессор давно уже применял словцо в уютных домашних делах.
— Вот он, живой динихтис… — вздыхал профессор, огорченный тупостью лакея. — Ну кто сказал, что ископаемый…
А Гришка засыпал, повторяя вслух звонкое слово.
В 1861 году Гришка получил свободу; земли у него было мало, и никакой ценности она не представляла. Гришка не стал возиться с выкупом и просто бросил свою землю, да и остался там, где был. Профессор жил как жил, и ему было плевать, кто там и кого освобождает.
События освобождения куда больше волновали Батог-Батыева — уже потому, что теперь он ничего не мог получить с Гришки, при самом даже и пылком желании. Он и не получал, и спустя лет тридцать уже пожилой, плохо видящий Гришка столкнулся около трактира с опустившимся, пьяным золоторотцем, вроде бы где-то встречавшимся… Ну конечно же, это и был Батог-Батыев! Он так и не научился никаким недворянским делам, прожрал и пропил сначала все выкупные платежи, потом так же прожрал и пропил исторический вишневый сад вместе с картинной галереей, семейными драгоценностями и библиотекой. Прожирая и пропивая все это, он по-прежнему ничем не занимался и ничему не учился, и результат был столь же печален, сколь и закономерен.
— Эт-то надо же, какой динихтис… — покачал головой Гришка Динихтис, подавая барину на водку.
Нет! Не Гришка, а Григорий Григорьевич, он давно уже стал Григорием Григорьевичем Динихтисом.
Так он и сослужил бывшему хозяину последнюю службу, продлив для него еще на вечер возможность жить истинно по-дворянски: пить и есть и при этом не работать, не учиться и не думать.
А тогда, в неясные времена великого освобождения, больше всего волновало Гришку, что надо было выбирать фамилию! Его давно уже прислуга звала Динихтисом, с легкой-то руки профессора.
— Буду Динихтис… — так и заявил он важному чину, которому предстояло выдать паспорт новому гражданину Российской империи.
— Эт-то еще что такое?!
— А это рыба такая есть… Не верите, спросите господина профессора, Погребнякова Иван Дмитрича.
— Так по рыбе ты и станешь прозываться?!
— Так а как же вот другие могут? И Карповы есть, и Осетровы. Только карповых с осетровыми — пол-России наберется. А я один Динихтис буду…
— Гм… — только и нашелся что сказать важный чин. — Ну смотри… Не раздумаешь?
— Нет, вашество… Я про то давно думаю.
— Ну, не передумаешь, приходи завтра. До завтра подумай еще.
Но профессор был глубоко прав, говоря об уникальной тупости и таком же упрямстве лакея. Отступиться от своей блажи было для него смерти подобно. Гриша Динихтис к важному чину пришел, не побоялся, не раздумал и сделал свою кличку настоящей, законной фамилией.
И передал ее детям и внукам.
ГЛАВА 9
Первые шаги
13 августа 1999 года
Очень трудно объяснить, чем вызвал сомнения у Стекляшкиных Саша Сперанский местный спокойный мужик, владелец ГАЗ-66…
Рекомендации? Так ведь были у него рекомендации. Каков бы там не был Динихтис, а все-таки на Столбах был из той же избы, что и Стекляшкины. Одной калошей их воспитывали, из одного котелка кашей кормили… Нет, такой не подведет!
Тем паче, что Сперанского нашел Динихтис, но за Динихтисом-то стояли и Хлынов, и Хрипотков, и многие, многие другие. Все, кого Стекляшкины знали по Столбам, по избам и по песням у вечернего костра…
Деньги? Не такие и великие деньги запросил Сперанский — две тысячи, и даже не долларов, а смешно сказать — рублей, и чуть ли не треть суммы должна была уйти на бензин.
Поведение? Но Сперанский вел себя очень обстоятельно, надежно, и ничто в его словах и действиях не могло бы насторожить самого подозрительного человека. Спокойно, обстоятельно и строго договаривался он о деньгах, сроках и условиях работы, просил гарантий, уточнял собственные обстоятельства…
Никак он не был жуликом, этот надежный, спокойный мужик. Компетентность? Но и тут все было в порядке. И даже больше, чем в порядке! И Стекляшкина, и Хипоню, и даже Ревмиру Алексеевну Сперанский совершенно покорил знанием дорог, урочищ и вообще чуть ли не каждого куста во всем этом секторе Саян.
Скажем, Стекляшкина хотела попасть на Красные скалы…
— А на какие вам Красные скалы?
— А что, есть разные?
— Конечно есть, и даже очень разные. Вы хотите ехать вверх по Малой, я правильно понял? Но там есть две Красные скалы. Если вам на первую Красную скалу, то ехать надо по одной дороге. Если до второй — то по совсем другой дороге и вокруг. Между ними расстояния всего километра четыре, если по реке, а если по дороге — десять.
— А к третьему месту?
— Если вам Красное Гнездо нужно, так это вообще километров двести кругаля давать. Я готов, давайте сели и поехали, но вам про какое место рассказывали? Что там есть?
— Ну что… Там должна быть не только скала. Нам сказали так — красная скала, а из-под нее бьет источник. А вокруг — мягкая земля, принесенная рекой. Там можно палатку поставить, можно жить. Где такие места?
— Ну, тогда не Красное Гнездо… Возле первой и второй Красных скал — там есть и мягкая земля, есть и ключи возле скал. Туда едем?
— Давайте туда! А как надо ехать?
— Значит, так… Лучше всего — ехать до базы Маралова. Базу он для иностранцев строил. Там и домики есть, и баня, и сарай, и даже туалет. База — это значит можно жить не в палатке, а в доме. Оттуда до первой скалы, если пешком — три километра. Еще четыре — до второй. Надо вам — и палатку нетрудно поставить, там живите.
— А разве нельзя ехать от базы — и до Красной скалы?
— До второй — можно, если сделать кругаля километров сорок, а по прямой — никак нельзя. А к первой скале — не проедете.
— И вы не сможете проехать?!
— И я не поеду… Сами увидите, что там за дорога…
— А сколько езды до базы?