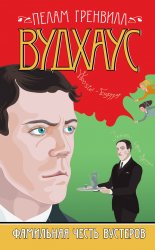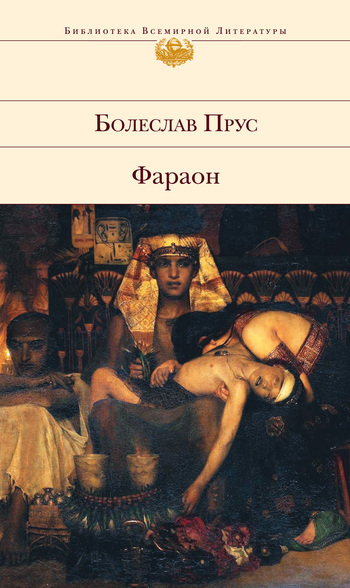Сибирская жуть Бушков Александр
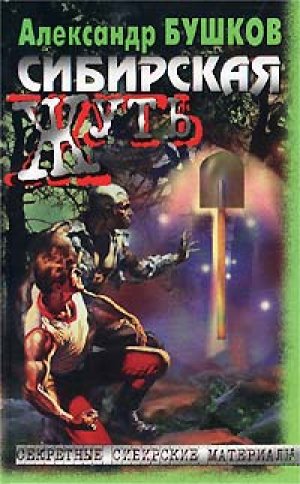
— Ну, вы же нас предупреждали…
— Что, Паша, сделаем дело?
Павел кивнул, торопливо скидывал одежду. Саша деловито крепил конец троса к приземистой корявой иве. Судя по потертостям коры, к ней крепили концы постоянно.
— Надо бы третьего… — явственно остановился взгляд Саши на Стекляшкине.
— Сейчас! — тоже сбросил куртку и штаны Стекляшкин, поежился от холода бледной пупырчатой кожей.
— Ну, начали…
Бухта каната так и лежала на плечах Саши. Мужик двинулся в воду, канат натянулся, и Саша его подтравил.
— А ну!
Павел вошел в воду, положил руки на плечи Саше. Стекляшкин подошел, мужчины положили руки на плечи и ему. Все трое стали поворачиваться в реке, словно танцевали какой-то медленный вальс на троих. Саша подтравливал трос. Стекляшкин оказывался лицом то к одному берегу, где застыли Ремвмира с Хипоней, то к другому берегу, пустому, где над высокой террасой торчала красная скала.
Под неглубокой водой, от силы по пояс мужчине, шли ровно уложенные камни: склизкие от тины, окатанные голыши; между камнями — жесткая трава, ухитрявшаяся так крепко держаться, что ее не сносило течением. Уже на первой трети пути все силы уходили только на то, чтобы не дать себя сбить с ног; чувствовалось, что стоит ослабеть, пожалеть себя, и вода заставит сделать шаг… другой… пока человек не потеряет равновесие, не упадет, и его не потащит по этим окатанным, голым и склизким камням.
Давно уже не чувствовалось тело, и холод был как бы трехслойным — сверху очень холодно. Потом вроде бы теплый слой. А дальше, в глубине тела — совсем холодно, невыносимо.
Совершенно внезапно дно пошло резко вверх, шум воды немного отступил, не надо было беречь ноги от камней, что перекатывает по дну, уносит в низовья река. На лицо упала тень от ветвей ивы.
— Вот тут и закрепим канат.
Втроем повисли на канате, заставили его подняться, чтобы не полоскался по воде, и Саша его закрепил.
— Вот и перила!
Все тот же Саша сорвал с головы вязаную шапочку, достал железную коробочку от леденцов, а из нее — сухие спички. Нашелся и топорик, Павел побежал на негнущихся ногах за хворостом. Огонь весело лизнул сухие прутья, загудел в умело разложенных дровах, и тут только, в волнах этого сухого тепла Стекляшкин почувствовал, до какой степени замерз.
А вместе с тем пришло какое-то необъяснимое, не по годам, переживание телесного счастья, радости жизни, ощущение здоровья и силы. Река стала синей, небо — более ясным и высоким, оттенки зеленого на стене леса — разнообразнее, а откосы террас — рыжее. Мир стал бодрым, счастливым и радостным, расцвеченным красками августа, богатым и щедрым.
«Что это со мной?» — думал Стекляшкин с каким-то даже страхом. Много лет не переживал он ничего подобного и как-то, пожалуй, отвык.
Канат натянулся. Ревмира шла, держась за канат, перебирая руками. Рюкзак на плечах, что-то еще на голове. В нескольких метрах позади плелся Хипоня. И Стекляшкин, и не он один, отметили, что переходил-то он без груза, но перебирал руками цепко и лез упорно, расторопно. Когда нельзя было переложить дело ни на кого другого, доцент оказывался очень даже приспособленным и сильным.
— Ну что, согрелись?! — улыбнулся Саша. У него после реки, после ледяной воды становилось лучезарней на душе. И был еще один переход, уже с удобствами, держась за натянутый канат, для переноса всего нужного. И опять был костер, благо Ревмира, отогревшись, сунула в огонь еще веток, и рыжий прозрачный огонь рванулся к высокому небу.
Стекляшкин глянул на часы: девятый час! Переправа — эти семьдесят метров — сожрала еще час времени.
— Что, так каждый день ходить?!
— Нет, не каждый. Зачем каждый раз таскать снаряжение? Мы тут тент натянем и оставим, можно будет приходить на готовое. Чайник не понесем, котелок — тоже. Даже еды немного зароем, в стеклянной банке.
— А банка зачем?!
— Чтоб не учуяли. Я банку с крупой взял, другую с сахаром и с чаем, консервы. Сделаем захоронку, можно будем меньше таскать. Лопаты и кирку, думаю, тоже не потащим. Можно оставить и удочки…
— Значит, завтра пойдем налегке?!
— Почти налегке. А готовить надо во-он там… там кострище, еще со времен графа. Кто не завтракал? Кто есть хочет?
— Мужики, я не согласна! Пусть тут у нас будет дежурный!
— Не надо дежурного, я все сам сделаю, вы только… гм… рыбу ловите.
И Саша правда все стал делать сам: натянул брезент над старым кострищем, натащил кучу хвороста — и варить сегодня, и как запас — а вдруг пойдет дождь? А тут — запас сухого хвороста, лежит под куском целлофана. Он же сходил вырубил рогульки, сбегал за водой, и пока упревала вкуснейшая каша, исходился паром чайник, успел закопать захоронку. Он же вымыл всю посуду, сбегал по террасе подальше от людей, выкопал там ямку, сбросил все пищевые остатки — чтоб не привлекали мух. Не было и одиннадцати, день только начинался, и Саше становилось скучно. Сходил он в лес, принес чурбачков, сделал скамейку и стол… Времени еще было полно, и Саша наловил хариусов в сонной полдневной заводи, дальше вниз по реке, где кончалась терраса. Наловил и сварил из них свежайшую уху, а одного посолил и съел сам, прямо сырого, еле соленого, и с хлебом. День тянулся для него ужасно длинно.
А остальные занимались все другим… Вот, вроде, красная скала. Вокруг — ровная терраса, скала стоит одиночно, останец. Красная скала, под ней — источник. Вроде бы, вот оно, место, где можно отмерять, да и приниматься за раскопки.
— Саша, вот же красная скала?!
— Это первая. В трех километрах выше — вторая красная скала.
— Ну, хоть первая…
Вот и источник, бьющий под самой скалой.
— Давайте отмерим десять саженей от этого источника!
И вот тут выяснился загадочный характер самого понятия «сажень».
Хипоня рассказал о саженях еще раз, и его все честно слушали. …Про царскую, орленую, печатную, казенную, маховую и косую, квадратную и кубическую, рассыпную и никаковскую, про то, что сажень должна быть равна трем аршинам, а каждый аршин равен 71,12 см.
— Все это ладно, а копать-то где? — спросил Павел. Бродов, как и следует менту, проявлял приземленную бескрылость духа и прискорбное отсутствие любви к теории.
— Лучше всего взять оба варианта…
— Оба?! — изумилась Ревмира. Ей казалось, что стоит увезти Хипоню в лес, посулить долю клада, и сразу же найдутся кубические сажени, сразу доцент вспомнит все, что утаивает в городе. Правда оказалась неприятной.
— Ну а… если сажень в 152 сантиметра, то 10 саженей — это 15 метров. Если сажень 172 сантиметра, то тогда 17 метров. А если брать позднюю, в 2 метра 13 сантиметров, то 10 саженей получается 21 метр…
— Так кубическая-то из них какая?!
— По-моему, надо взять все…
И тут сердце Ревмиры упало окончательно — она поняла, что Хипоня сам не знает, какими саженями мерить.
Ну ладно, пусть даже придется бить три шурфа, на всякий случай, чтоб угадать нужную сажень. Но вот еще один совершенно неразрешимый вопрос: куда отсчитывать сажени: на северо-запад или же на северо-восток?!
— Владимир, давай рулетку и компас!
Павел забивал колышек, Хипоня держал инструменты, Володя побежал с веревкой… Да, все были очень заняты! Та-ак… Если мерить на северо-восток, то, получается, есть только одна отметка — на пятнадцать метров. Потом уже пошла только скала. А если мерить на северо-запад, то вроде бы вот тут, на самом краю террасы, и можно сделать все три отметки.
— Алексей Никодимыч, возьмите же лопату. Павел, вы немного покопаете? Хоть клада и не существует. Володя, вооружись киркой.
Только Ревмире не хватило инструмента, и она осуществляла, так сказать, идейное руководство.
— И-эххх! — крякнул Алексей Никодимыч и с силой вогнал в грунт лопату. Лопата вошла на четверть штыка и застыла, издав невероятной силы хруст. Копать здесь было не так просто — не столько приходилось подгребать совковой лопатой, сколько разбивать грунт киркой, потом поддевать штыковой лопатой, а уж оставшееся выбрасывать, подцепляя совком. Терраса там или не терраса, а грунт оказался битком набит камнями разного размера. Большая часть камней находилась в разной стадии превращения в охру. Камни были покрыты рыхлым красным или рыжим налетом, который и использовал первобытный человек — сыпал в могилы, как «кровь мертвых», чтобы мертвецы могли бы встать в загадочном царстве мертвых.
— Неужели нанесла река?
— А вы посмотрите — все камни-то неправильной формы, не окатанные в реке. Сразу видно — они со скалы сыпались.
— Получается, что река наносила террасу, а все это время со скалы сыпались обломки?
— Конечно. Только вот вопрос — сколько времени образовывалась такая терраса? Она же тут в рост человека…
— Наверное, тысячелетия.
Как ни странно, Стекляшкину даже понравилось. После сидячей жизни, однообразной работы, компьютера хорошо было чувствовать, как мерно сокращаются мышцы, хрустит камушками кирка, как солнце золотит, а ветер остужает кожу. Был в этой работе отдых от повседневности; был отдых от дурной жизни в большом городе; было все, зачем люди едут на дачу… и еще многое другое. Стекляшкин выпрямлялся, переводил дыхание, и перед ним оказывалась сияющая под солнцем ярко-голубая река, яркие-яркие леса на другом берегу, пухлые, как вата, облака.
Вот белое, пухлое показалось над холмом. Что именно, какое — пока не видно, виден только верхний край. Пока можно угадывать, каких оно размеров, какой формы. Вот, выкатывается целиком, плывет в синеве, над холмами. А над окоемом снова показывается белый пухлый краешек. Снова можно угадывать.
Люди любят смотреть на огонь, на быстро текущую воду. Володя Стекляшкин обнаружил, что больше всего любит смотреть именно на облака. И не просто на облака в небе — на празднично-яркие облака, выкатывающиеся из-за холмов.
Стекляшкин взмахивал киркой, наклонялся, и перед ним оказывалась яма — ярко-рыжая глина с ярко-белыми прослоечками мергеля, с множеством камней разной формы, с которых отлетали ярко-рыжие, кровяно-красные куски. В яме было прохладно, и чем она была глубже, тем приятнее было стоять в яме, радуясь контрасту. Тем более, что солнце переместилось и полыхало сейчас как раз на копающих и на скалу. В резком, пронзительном свете, почти без теней, плавилась голова ее приходилось повязывать, чтобы хоть пот не заливал глаз.
«Я, как финиковая пальма, — усмехался про себя Стекляшкин. — Сказано же про нее — ноги пальмы должны быть в воде, а голова — в огне».
Но и контраст был странным образом приятен. И приятно было, что жарко, что в пронзительном свете все такой яркое, разноцветное, что больно глазам.
Становилось совсем невыносимо, и Владимир Павлович сбегал к речке. Ниже террасы русло сужалось, большие камни подходили вплотную, а течение прижималось к огромной, косматой ото мха скале. Здесь цвет воды снова становился бутылочно-зеленым, глубоким, словно вбирал в себя цвет подступавших к воде лесов, и эта вода начинала подпрыгивать на подводных камнях. Образовывались буруны, и на этих бурунах можно было ехать, почти не делая движений. Вода сама толкала снизу; только проплыв стремнину, нужно было снова энергично загребать руками, куда-то стараться приплыть. А вот нырять никак не стоило: на глубине вода была такая, что Владимир Павлович боялся, как бы не схватило сердце.
Вода делала на дне маленькие хребтики в песке. В детстве Володя Стекляшкин очень интересовался такими хребтиками и любил на них смотреть. А потом он, как ему сказали, «вырос», и он перестал их совершенно замечать. Взрослые люди не замечают такой чепухи — они заняты, они торопятся. А еще у него не было времени и сил… ни на что. Он всегда был напряжен и раздражен. Злился, обижался на жену, на начальство, на судьбу, на жизнь, на собутыльников, на дочь. Не было времени и сил заметить эти хребтики и ровики, обратить внимание, как неровно на дне под ногой.
Стекляшкин катался на речке, удивляясь только одному… Это ведь ничего не стоит, и почти никаких усилий не надо… Почему же он купается в речке, переходит реки вброд, копает землю и смотрит на небо, лес и облака едва ли не впервые лет за пять? Что ему мешало раньше?! Даже на Столбах, в избе, вокруг было много людей, и с ними приходилось говорить, пить водку, орать и петь под гитару… Костер и скалы были поводом, чтобы собираться вместе, петь и орать; лес, летняя ночь — декорациями сцены, на которой шло общение.
Но что же мешало вот так купаться, работать и впитывать в себя весь мир?! Раз это доставляет столько удовольствия…
Вода стекала с тела Владимира Павловича, стягивала кожу, делала ее морщинистой на ступнях и пальцах ног, придавала бодрости и силы. Может быть, дело в воде?
— Саша, у реки какая скорость?
— Прикиньте сами… Километров двадцать-тридцать будет…
— В смысле — километров в час?
— Ну да.
— А истоки Оя — километрах в двухстах… Даже в ста пятидесяти, кажется.
Вода, в которую погружался Стекляшкин, еще день-два назад была льдом горных ледников. Какую информацию несла она в себе, эта зеленая холодная вода? Сколько веков, сколько тысяч лет была она льдом — наверное, таким же зеленым, таинственным?
Синева неба, холод и зелень воды, пронзительная чистота воздуха проникала в Стекляшкина, очищая и оздоровливая, не только тело, но и душу. Перед всем этим… перед настоящим — горами, небом и рекой, не было места мелкому и ничтожному. Не было места сексуальной озабоченности, трусости, страху перед женой или для клуба «Колесо». Началось это, пожалуй, уже когда впереди замаячили горы — большие, настоящие, серьезные… Тогда Стекляшкин впервые готов был просто цыкнуть на жену: не годились ее дурные вопли в горах, среди большого и серьезного. А дальше оказывалось все больше и больше настоящего, и приходилось всерьез выбирать. Или горы, река, лес, хриплые крики кукушки, или — тоскливый запой от невнимания Ревмиры. Волей-неволей надо было отказаться или от одного, или от другого, и никаких паллиативов быть никак не могло. Отказаться от гор и реки Стекляшкин был не в состоянии и чувствовал себя сейчас так, как если бы он сбрасывал в бурную воду дурь за дурью, комплекс за комплексом, воспоминание за воспоминанием.
Разумеется, всякий бывалый человек сразу же скажет, что Стекляшкин давно был готов к освобождению от постылой жены, и что необычность обстановки только послужила толчком, помогла всему разрешиться быстрее. Мол, именно потому все, что давно хотело прорваться, началось именно здесь, среди живительной мощи кедров, гор, реки, бешено летящей по камням.
Вечно Стекляшкин был кому-то должен, вечно он был частью чего-то: класса, коллектива, роты, лаборатории, отдела, семьи. Всегда ему говорили, что он «должен». «Ты должен быть патриотом своего класса!» — страшно рычала классная руководительница. «Долг советского военнослужащего…» — тоскливо бубнил замполит. «Все советские люди…» — сообщал по телевизору Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, кто-то еще.
Сейчас Стекляшкин чувствовал себя не частью чего-то и ничего и никому не должным. Он был сильным, уверенным в себе и готов был делать жизнь такой, какой ему самому хочется. Даже Ревмира… Даже Ревмира была вольна идти с ним или не идти. Но и вместе с Володей Стекляшкиным Ревмира шла следом за ним, а если Ревмира не была со Стекляшкиным и не хотела идти следом, хуже становилось только ей.
И замирало сердце у пацана-переростка… Неужели так… вот так чувствуют себя мужчины?!. Постоянно?! Володя Стекляшкин приходил к выводу, что так чувствовать себя они не могут — не выдержат, помрут от счастья.
Одно отравляло существование Стекляшкина в этом его новом состоянии — это обилие кровососущих тварей. Проклятие Сибири, мошка, пока не поднималась в воздух. Мошка будет под вечер, в сумерках; превратит существование в ад, если будет пасмурная погода.
Зато воздух гудел от здоровенных паутов. Их еще называют оводами, этих здоровенных, крупнее осы, тварей с зелеными глазами: огромными, на полголовы. Наверное, только такие глаза и нужны, чтобы на полном ходу сворачивать под прямым углом, делать такие виражи в полете — то завинчиваться штопором, то мгновенно возникать в совершенно неожиданном месте.
Пауты то исчезали совершенно, то появлялись целыми эскадрильями. Вездесущие, верткие, они оказывались практически неуловимы, особенно атакуя мокрое тело после купания. Если Володя замирал неподвижно и зашибал гнусную тварь на себе, пока паут прицеливался, — другие пикировали сзади, сбоку, сверху, снизу, доводя до неистовства, не давая секунды покоя. Твари приспособились сосать кровь лошадей, коров, лосей… Человек был им легкой добычей.
Стоило отойти к воде, встать в тень, и тут же ухо принимало противный тоненький писк… Комары вылетали из любимых мест, преследовали и в яме, и под пронзительным солнцем. Хорошо хоть, было их сравнительно немного — этих мохнатых рыжих тварей, раза в полтора больше обычных.
А был еще один вид тварей, более редкий, — песчаные мушки. Черные мушки с зелеными безумными глазами и треугольными в крапинку крыльями, как у стратегического бомбардировщика, появлялись строго у воды. Уже в нескольких метрах от реки от них было совершенно безопасно. Похоже, что даже настигнув добычу, песчаные мушки возвращались к воде, не завершая атаки. Но у реки были ужасны бесшумные атаки этих тварей.
И не было хотя бы получаса за весь долгий день, возле красной скалы, чтобы кровососы не кружили, не пикировали, не сосали.
И еще одно омрачало счастливое состояние Стекляшкина, кроме эскадрилий кровососов, — это полное отсутствие признаков, что кто-то копал здесь до них. Как не был неопытен Владимир Павлович по части раскопок, а видел и он — кирка разбивала никогда не тревоженную человеком землю, переворачивала слои, которые так и лежали нетронутыми друг на друге, искони веку, как их отложила река. А Павел так прямо и сказал, ткнув пальцем в слои:
— Материк!
— Материк — это нетронутая земля, да, Паша?
— Так точно, нетронутая… Вы же видите, отродясь тут никто не копал. Нет тут никакого перекопа.
— А перекоп — это если копали?
— Перекоп… Строго говоря, надо говорить про следы перекопа… Если закапывать яму, никогда ведь не будет таких ровных однотонных слоев, как ни старайся. Даже если специально пробовать. Перекоп всегда — это смесь земли, взятой из разных слоев, — значит, и разного цвета, и фактуры… И потом — в перекопе всегда грунт не такой плотный… А этот же шуруешь лопатой, и сразу видно — плотный, слежавшийся. Одно слово — материк!
— Спасибо за лекцию, Паша.
Уже после обеда, часа в два пополудни, в яме мог поместиться Паша Бродов целиком, а на ее дне начала накапливаться вода.
— Откуда?!
— Давайте замерим.
Ревмира сиганула в яму, протянула Володе рулетку.
— Сколько?
— Метр шестьдесят семь.
— Ну вот… Володя, сходи смерь террасу у реки.
— Я с вами! — увязался и Павел, пошел мерить террасу.
Хипоня воровато обернулся, звонко чмокнул Ревмиру в тугую щеку, прохладную от ветерка, теплую от солнца, со следами комариного укуса.
— Ну не сейчас ведь, Алексей Никанорович… — донеслось сквозь зубы, еле слышно, из-под опущенного лба.
«Клюет!» — вспыхнуло у Хипони, и он тут же принял романтическую позу, опершись о лопату и вперив прищуренный взор первооткрывателя горы за Оем.
Высота террасы оказалась порядка метр шестьдесят — метр семьдесят до воды.
Интересно, почему вдруг изменилось настроение у Стекляшкина? Вроде бы, ничего не случилось… А! Жена ему велела что-то, скомандовала в своей обычной интонации. И удивительное настроение потухло, все сразу стало снова как всегда.
Все плавилось от солнца, Хипоня тихенько стонал в тени.
— Алексей Никодимович, как же так?! Что теперь надо делать?!
— Наверное, надо исходить из сажени 172 сантиметра. То есть копать, отмерив 17 метров от источника… Такие сажени часто использовались…
— Спасибо, Алексей Никодимович, вполне достаточно теории.
— Или мерить расстояние на северо-восток, — позавидовал Стекляшкин Бродову — такому крепкому, здоровому, готовому пробить еще одну здоровенную яму.
— А может, копать надо под вон той, другой красной скалой. Может, посмотрим еще вторую красную скалу? — В голосе Ревмиры вовсе не было такой уж уверенности. Тем более так жарко…
— Пошли туда! — тут же согласился Бродов, и опять Стекляшкин ему позавидовал.
— Саша! Как выйти ко второй красной скале? Это, вроде бы, недалеко?
— Вон видите тропку? Три километра — это по реке, по тропе будет все десять… Но придете на место, все сами увидите.
Пришлось тащиться ко второй красной скале, по узкой тропинке среди заросшей травой бывшей вырубки: сплошной кустарник, молодые ивы. Когда-то здесь проделали дорогу — для нее-то и рубили просеку. Теперь не заросла кустарником только узкая тропа посередине, лужи стояли во всех понижениях — стоящая, цветущая вода со множеством живых, поедающих друг друга существ: жуков, личинок, мальков, головастиков.
А на влажной земле, в тени кустов, следы чего-то крупного, с раздвоенными копытами. Павел Бродов сказал, что это маралы… У Стекляшкиных и у Хипони своего мнения не было. Вот следы медведя опознавали все без труда и, прямо скажем, не без трепета: среди множества следов было много свежих, и попадались очень крупные.
Вот еще непонятные следы — похожи на кошачьи, но огромные, и словно за каждой лапой протащили ворс или пушистую шерстяную ткань.
— Павел, кто это может быть?
— Рысь.
— А что вот это, возле лап?!
— Так ведь лапы-то сами мохнатые…
И комары… Два с половиной часа в напряжении — не взметнется ли над высокотравьем, между зелеными кустами, необъятная бурая туша? И два часа проклятий и шлепков, противного высокого писка.
Да, и правда, красная скала… Только там, куда вышли сразу, был красный останец, отдельная красная скала, торчащая, как зуб динозавра. А тут только почти красный участок серо-рыжей, совершенно обычной скалы.
Ах, на месте должен быть еще и ключ! Но какая-то вода сочится возле обоих выходов красной породы… Вроде бы, там ключ побольше, но может, что-то изменилось за полвека?
— Давайте здесь тоже отмерим, а то тут, по-моему, и копать негде…
Отмерили. Действительно, северо-запад от источника тут уходил в тело скалы. Отмерив пятнадцать метров на северо-восток, еще можно было бы копать… Но место оказалось уж очень какое-то подозрительное, странное — болотистая площадка в двух шагах от реки. Стал бы кто-то закапывать здесь?! Ох, сомнительно… После трех ударов лопатой выступила вода и стала заполнять выемку.
— Значит, не здесь… — произнесла вслух Ревмира Алексеевна. А про себя подумала: «Если правильно мерим…». Это Ревмира Алексеевна первый раз усомнилась в компетентности Хипони. Нет, ну какая борода… Какой желтый огонь глаз… И какое знание теории…
День явственно пошел к концу, когда вернулись к первой красной скале. Удлинились тени, не так жгло солнце. Саша сказал, что до заката часа три и пора уходить. Опять была переправа, по уже готовым перилам, опять путь с девятью ручейками и речками, да теперь к тому же вверх. Даже у выносливой Ревмиры плыли перед глазами реки, водопады, брызги, откосы террас, кедры и пихты, кирка и скалы разного оттенка, следы зверей на сырой земле возле кустов.
Весь день в движении, почти шестнадцать часов. Восемь часов в пути; восемь часов за работой, и только с полчаса, в жару, — отдых под тентом, обед, жужжание множества насекомых, полуденный яркий покой.
Как ни странно, неплохо держался горе луковое, муж. Ни истерик, ни отказов от работы, близость к Саше и к Павлу. И на базе все беседовал с Сашей, пока Хипоня засыпал прямо с миской каши в руках.
А Бродов стал беседовать со Стекляшкиной.
— Ревмира Алексеевна, я убедился, что здесь вам решительно ничто не угрожает. И подойти с другой стороны, не от Малой Речки, сюда невозможно. А вот в деревне, если не проследить, можно накопить хоть целый взвод…
— То есть вы хотите уйти, Павел Владимирович?
— Я понимаю, что отпускать вам не захочется: еще одни мужские руки. Но копать получается и втроем, а ситуация меня беспокоит… Как вы думаете, Алексей Никодимович не мог никому… ну, не сказать, так намекнуть, зачем и куда он поехал?
И стукнуло сердце Ревмиры, потому что мог… Ой, мог он трепануть, Хипоня! И даже не зачем-то, не под давлением, а просто так. Особенно если надо будет показаться перед дамами, которых у Хипони было полгорода, и к которым Ревмира бешено ревновала.
— Ну вот видите… Не почувствовал я вашей уверенности, Ревмира Алексеевна. Значит, мог. Могли быть и другие источники информации, верно? И другие источники утечки… Вот ваша дочь, например. Вроде бы Миронов все завещал ей?
Ревмира поймала себя на том, что против всякой воли и разума бормочет что-то про маленькую девочку… которая не может… нельзя… рано… соблюдение ее же интересов…
И замолчала, натолкнувшись на взгляд Павла: изучающий, холодный, на таком же изучающем лице. Так смотрят на экспериментальную лягушку как раз перед тем как свернуть ей голову. Или на редкий, потому интересный вид правонарушителя, перед тем, как отправить его в камеру. И Ревмира резко прервалась:
— А у вас самого-то есть дети?
— Есть. Две дочки от двух разных жен.
— Гос-споди!
— Не подумайте дурного. Я развелся с матерью одной дочки и женился на другой… и она тоже родила мне дочку. Так как, вы считаете, Ревмира Алексеевна, могла Ирина быть источником информации? Хотя бы по дурости, а?
— И по дурости тоже… Она к тому же собиралась искать клад, а одна искать она не будет.
— С кем она может искать клад, не представляете?
— Мальчик у нее есть, только вряд ли он сможет поехать… Такой Пашка Андреев.
— Та-ак… Это семейство я знаю, предприимчивое семейство. А кому еще могло поступить предложение? Или просто рассказ про дедушкин клад?
— Даже не знаю… — задумалась Ревмира. Она вдруг обнаружила, что совершенно не представляет, с кем вообще встречается дочь, кому она доверяет, и что из этого может быть. — У нее вообще много знакомых, очень разных. И буддисты какие-то, и друзья, и подруги… Вы же знаете, как бывает в этом возрасте, — бледно улыбнулась Ревмира.
— Получается так… Получается так, Ревмира Алексеевна, что в любой момент на Малой Речке может появиться человек или, скорее, группа лиц… Что гостей повезли на базу, это в деревне скажет любой и дорогу тоже объяснит. Да и проводника взять несложно, при нынешней-то нищете… Улавливаете, к чему я это?!
— Да уж… Вы считаете, нам надо ждать гостей?
— Вероятность высока… И главное, мы совершенно не имеем представления, кем могут оказаться эти гости. Они еще в Карске собираются, приезжают в Малую Речку, наносят удар… А мы даже не знаем, где произошла утечка, кто в игре, и что от этих людей приходиться ожидать. Кстати, можно ведь сюда и не рваться. Вообще не проявлять к нам интереса, а просто тихо отдыхать себе в Малой Речке и ждать, пока мы вернемся.
— Ах вот как… вы этого и опасаетесь, Паша? Больше, чем гостей, приехавших сюда?
— Я всего, знаете ли, опасаюсь. И гостей, и тех, кто будет тихо, незаметно сидеть. И я вам докладываю с полной ответственностью: мне нечего делать тут, на базе. Я убедился, что другого пути сюда нет, и вижу, что это за дорога. А вот в Малой Речке мне быть совершенно необходимо…
— Вы убедили меня, Павел… Скажу откровенно, когда вы начали разговор, мелькнула мысль — рвется человек из скучной кампании, от тяжелой работы… А вы специалист, Паша.
— Стараюсь, Ревмира Алексеевна. Если что-то случиться, Сидоров мне голову открутит, а работу я эту знаю, второй год на ней.
И на следующий день, 14 августа, утром отряд разделился: все, кроме Павла, пошли по вчерашнему маршруту. Павел пешком отправился в Малую Речку.
Первые четыре часа шел он по лесу, пробираясь вдоль русел, превращенных в «автострады», по звериным тропкам, где два раза в месяц проезжает автомобиль, и потому тропка называется гордо — дорогой. Эти четыре часа Павел все время свистел, пел, разговаривал сам с собой: предупреждал зверя, который вполне мог оказаться на пути. Павел не хотел внезапно столкнуться с медведем или матерым маралом, который решил свои проблемы на сегодня, прилег отдохнуть… А на него вдруг валится неизвестное двуногое да еще внезапно и в молчании. Услышав же голос, зверь, скорее всего, просто уйдет.
Спустившись со страшной горы, Павел оказался в почти цивилизованных местах, где есть настоящие дороги: чудовищно разбитые серо-рыжие проселки. Тут он присел, опустил ноги в очередную речку, съел горбушку с салом и подумал.
Впереди лежали еще три часа пути, уже по дорогам, мимо вырубок; здесь тоже могли быть всякие неожиданности, но все-таки другого рода. Уже не надо было предупреждать зверей, что к ним кто-то пришел. Здесь не люди, а звери были на чужой территории, и любой медведь шел бы сторожко, напряженно и уступил бы дорогу двуногому.
Семь часов шел Павел в общей сложности и только в час дня пополудни постучался в дверь к Покойнику и к Рите. Поговорив с хозяйкой больше часа и напившись чаю, Павел лег спать и проспал почти до вечера.
Следующие три дня, 15, 16 и 17 августа, Павел провел идиллически: единственный изо всей компании «рыболовов», приехавших на красные скалы «удить рыбу», он действительно стал забрасывать удочки и в Малую Речку, и в пенистый, бурливый Ой. Делал он это, правда, лениво, и нисколько не огорчался, если ничто не попалось. Павел не соврал Ревмире Алексеевне, быть ему разумней было здесь (тем более — в существование клада Павел не способен был поверить). Но и смыться из команды Ревмиры ему хотелось, и сейчас он откровенно отдыхал, жалея только, что никак нельзя сделать так, чтобы и жена оказалась тут же.
За три дня только две компании приехали в Малую Речку, и Павел активнейшим образом общался с представителями обеих компаний. И не только активнейшим, но и приятнейшим образом, надо сказать. Потому что компании эти состояли из хорошо знакомых и симпатичных ему людей, и никто в этих компаниях не собирался увести жену от мужа, спереть наследство собственной дочери или учудить какую-то похожую гадость. И ни у одного из членов этих компаний не было ни безумно горящих желтым светом глаз, ни безвольного подбородка и выражения мировой скорби на физиономии, ни морды деловой стервочки. Если бы даже Павел раньше не ценил всего этого, у него была возможность научиться.
ГЛАВА 11
Пришельцы
Июль 1965 года
Стояли июльские дни, полные пронзительного света, ярких красок, стрекотания кузнечиков.
Наступал пронзительно-жаркий полдень, все равно нельзя было работать, и Володя ложился на спину. Вот оно, это сибирское чудо — сосна, ярко освещенная солнцем. Горит бронзовый ствол, ярко отсвечивают оттенки желтого, серого, рыжего на ветвях, уходящих в ярко-зеленую крону. И все это — на фоне такого же сияющего, пронизанного светом неба; чем ближе к осени, тем более яркого, синего. Иногда, конечно, мелькнет и пухлое облачко, сосна окажется на его фоне. Но чаще, конечно, небо просто синее, и все. Лежать на земле, вдыхать запах сосен, и смотреть на застывшие в безветрии кроны, в ярко-синем обрамлении… Такое может быть только у нас, только летом.
Поразительное дело — по виду неба всегда можно сказать, зима сейчас или лето. Спутать совершенно невозможно. Во-первых, другие краски. Не знаю, в чем здесь дело, но краски бывают теплые, летние, а бывают зимние, холодные. Мама у Володи так и говорит — «холодное небо».
А во-вторых, зимой никогда не бывает таких пухлых, пышных облаков. Даже отдельных. А вот летом пухлые облака с округлыми четкими формами плывут и поодиночке, и группами, и сливаются в высокие, клубящиеся гряды.
Причина этого понятна — летом наверху тоже тепло. Становятся возможны грозы, изменяются краски, появляются пухлые летние облака…
А особенно интересно летнее многослойное небо — не знаю, как еще его назвать. Когда ветер на невероятной высоте разметывает по небу, вытягивает перистые облака, а на их фоне плывут пухлые кучевые.
Слетал к земле удивительный вечер июля. Не было в нем уже прозрачности, нежности весенних закатов, их летучей дымки. Краски неба — гуще, основательней, но им далеко до осенних. И краски земли тоже гуще, сочнее. Исчезла игра салатовых полутонов, прозрачная листва, молодая ломкая травка. Высокотравье, а над ним кроны — уже тяжелые, плотные, темно-зеленые.
Вечером в июле не жарко и не душно, а только очень тепло. Так тепло, что можно не одеваться, даже в тени. Земля только отдает тепло, но уже не пышет жаром. Но так тепло, что продолжают летать бабочки. Вечер еще долгий и прозрачный, — почти как в июне и в мае. Розовая дымка по всему горизонту, не только на западе. И все пронизано светом — уже без духоты и без жара. Ни дуновения. Несколько часов безветрия, розово-золотого света, розовой дымки, покоя, невообразимых красок неба. Если днем машины подняли пыль — теперь она медленно опускается, позолоченная солнцем.
Володя с Колей пили крепкий чай, говорили тихо, чтобы не нарушить волшебство. Вечер нес интересный комплекс ощущений — покоя, отрешенности, какой-то завершенности во всем. Жизнь представала быстротечной и красивой, как на гравюрах Хокусаи. Вот повернется чуть-чуть солнце, и уйдет розовое чудо, раствориться. А вместе с тем угадывается что-то, стоящее за сменой форм, их внешней красотой и совершенством. Так звуки органа вызывают грусть, острое переживание красоты и совершенства, понимание земного как преддверия.
Володя выходил из палатки в росистую тихую ночь и слушал крики ночных птиц, наблюдал прерывистый полет летучей мыши сквозь голубой лунный свет.
Володя испытывал острое, совершенно животное, языческое ощущение счастья, и сам удивлялся, что он понимает это. Понимание своего счастья было так же ярко, как само переживание, и так очень редко бывает с молодыми людьми.
Молодые мужчины, до тридцати, очень редко бывают счастливыми. Слишком многое должен сделать мужчина в эти годы, свистящие, как пули у виска. Слишком много работает, чтобы замечать природу. Слишком устает, чтобы думать. По крайней мере, чтобы думать о несуетном, несиюминутном, и думать не спеша, не суетясь.
У Володи работа состояла в том, чтобы вслушиваться, вглядываться в природу и как можно больше понимать, передумать, перечувствовать. И в том, чтобы пройти как можно дальше в каменные громады Саян, пока не наступили холода.
Парни поднимались на перевалы, и оказывалось вдруг, что почти весь мир — уже внизу, а вокруг и выше — только яркая синева, мерцание, только пронзительный ветер.
Жизнь простиралась перед Володей — бесконечная, прекрасная, как ярко-синее мерцающее небо, и обещала так же много.
Этот день, нежданно-негаданно перечеркнувший жизнь, настал в самом конце июля. Третий день шли Володя и Коля вверх по реке, желто-прозрачной от желтоватой взвеси из верховьев; реку так и называли Желтоводьем. Всю ночь слышался голос реки: бормотанье, бульканье, журчанье. Река мчалась вниз со скоростью курьерского поезда, несла камни, и камни глухо стучали в русле. Днем, когда парни промывали грунт в реке, стук камней слышался не так сильно. Ночью стук разносился на десятки, может быть — даже на сотни метров. Днем река тоже работала, но шум был не такой, словно бы глуше и тише. И тишина июльского ясного дня посреди дикой тайги. Когда на каждой полянке из-под ног — полчища кузнечиков, а в каждом затененном месте — такие же орды лягушат. И все время — то срывается тетерев, то пробежит скачками кто-то маленький — наверное, заяц.
Володя думал, что заметил первым необычное — зарубку на стволе березки. Сначала он прошел даже вперед, не поняв, что именно увидел. И остановился, резко повернулся… Да, кто-то ударил по стволу ножом… или топориком, кто знает? Ударил и стесал ствол ровной, четкой полосой, сделал зарубку. Кто?! Кто, если ближайший человек живет в трех днях пути отсюда?!
Не веря себе, геолог сделал шаг к березке, положил руку на зарубку. Обернулся на спутника, что-то хотел сказать. Николай деловито извлекал из патронника патроны на мелкую дичь, опускал в стволы ружья патроны с тяжелой картечью.
— Ты что, Николай?!
— А ты посмотри на тропинку. Вот, отсюда уже видно.
Тропинка, сколько видно, и правда была ровная, высокая. Ветки деревьев смыкались над ней не на уровне груди, а гораздо выше человеческого роста. Тот, кто ходил по тропинке, ходил по ней на двух ногах и был ничуть не меньше человека.
— Коля… Ты погляди, — показал Володя на ствол березки.
Николай молча кивнул, так же молча мотнул головой: мол, пошли. Действительно, что говорить?! Ну, живет тут кто-то неизвестный… Может, остатки белогвардейских банд, убежавших в горы от страха перед животворной мощью трудового народа… Их специально предупреждали, что могут встретиться такие банды, и говорили, кому надо позвонить. Или это кто-то… Ох, даже среди дня не хотелось вспоминать рассказы про этих, мохнатых и диких… Во всяком случае, два советских человека должны разъяснить, что тут происходит. Все разведать, все понять, обо всем донести партии и правительству.
Володя перекинул на грудь винтовку, толкнул рычаг предохранителя. Тропинка вроде становилась шире. Что-то странное мелькнуло в стороне, подальше от реки и от тропинки. Нет, к этому «нечто» тоже вела тропинка! Кто-то сделал узкую просеку между деревьев. Узкую, как лаз, очень неровную, метров тридцать или сорок длиной, метров пять шириной. По неровным краям росчисти валялись груды пожухлой травы… Впрочем, не только пожухлой, вон здоровенная куча ядовито-зеленой, — кто-то здесь полол сегодня утром, скорее всего — до жары. А на росчисти, затененная кронами, росло что-то страшно знакомое — аккуратно окученная картошка. Впрочем, вот и зеленые перышки — лук, и еще что-то, торчащее пучками — кажется, это редиска.
Зрелище было настолько невероятным, что парни минуты три стояли, молча глядя на эту делянку. Делянка была заботливо окружена валом из деревьев, сваленных для ее расчистки. Тот, кто рубил просеку, сразу же окружил ее так, чтобы меньше лезли звери.
Николай сделал понятный знак. Володя пошел с одной стороны поля, сам Николай пошел с другой. Ага! Вот опять что-то вроде тропинки, ведет вверх по склону. Но только именно что вроде, потому что ходили по этой тропинке мало. В стороне тоже вроде тропинка. И вон… Приходило понимание, что кто-то специально не торил широкой тропы, ходил то в одном месте, то в другом. Парни шли почти по пояс в папоротнике-орляке, везде ровно колыхавшемся под ветром. Вот странная проплешина… здесь тоже кто-то посадил лук. Разумно, что лук — звери его не съедят, хотя здесь вала из деревьев не было. Сажавший пришел сюда весной, расчистил проплешинку метров пять на пять, посадил лук и ушел. А потом несколько раз приходил и пропалывал, последний раз уже сегодня, позаботившись отбросить подальше вырванную траву: чтобы кто-то не стал ее съедать и не потоптал бы лук.
Голос реки ослабел, стало жарче, потому что здесь был реже лес, лучи солнца доходили до земли. Вот и еще что-то странное — зачищенный откос в овраге. Овраг как овраг, только вот с одной стороны кто-то подкопал склон, вынимал из пласта белой глины.
Близ горла старого оврага опять что-то росло… Капуста! Тут, между редких деревьев, разбросаны кочаны. Странно разбросаны, рассажены в беспорядке, без системы. То тут грядка, то там. Почему не возле реки? Тут же воды не натаскаешься! И здесь не боялись посадить капусту, которую звери очень даже едят, и даже с завидным аппетитом. Значит, охраняли? Ни один кочан не поврежден… Кстати, в этом лесу что-то вообще не видно зверя. И позавчера, и вчера вспугивали медведей, оленей, лосей, не говоря о белках и зайцах. Сегодня лес словно бы вымер.
Николай вдруг встал, как вкопанный, уставился на что-то на земле. Володя резво подбежал, насколько позволял ему орляк. Возле хорошо прополотого огорода (папоротник был выполот даже метрах в трех от края возделанной земли). Как раз на этом выполотом, возле обработанного тяпкой, лежал платок. Обычнейший платок из грубого деревенского полотна, а на платке — кочан капусты. Не кочан даже, скорей кочанчик — то, что успело вырасти на приличной высоте, в тени скрывавших огород деревьев. Кто-то не утерпел, решил поесть сегодня молодой капусты… и оставил ее здесь и убежал.
Володя взял в руки кочан, и на руки ему стекла прозрачная, прохладная вода, прямо из сердца кочана. Удивительный все же контраст — уже жарко, немилосердно палит солнце. Бронзовые, зеленые кроны на ярко-синем небе позднего лета. И прохладная вода на руках.
Тропинка уводила вглубь оврага. Вернее — бывшего оврага. Последние годы вода нашла другой путь, и на дне и на склонах оврага в этом году выросла трава. А на пологих местах рос кустарник, даже молодые деревца.
Овраг становился все глубже, стенки — все выше и круче, тропинка на днище оврага — все явственней. Попадались даже отчетливые следы ног, обутых во что-то без каблука.
Геологи шли все осторожнее, поводя стволами то вперед, то вверх, вдоль бортовины оврага. Володя учился в университете, и у них была военная кафедра. Коля в армии служил — в стройбате. Оба понимали, что солдаты совсем никакие, что опытные люди возьмут их здесь не за понюх табаку, стоит сильно захотеть. Но и уйти уже было нельзя.
Овраг совсем сузился, днище круто пошло вверх. По всему судя, геологи приблизились к самому устью оврага. Кто-то расширил эту часть оврага, положил жерди, вогнав их в борта, на высоте примерно метров двух, загородил жердями свой навес, чтобы получилось помещение. Вода давно не хлестала в овраг, в хибаре вполне можно было жить… По крайней мере, вполне можно было летом. Со смутным чувством смотрели геологи на эту обмазанную глиной стену из жердей, на темную низкую дверь, на очаг со свежими угольями, рогульки, обрубок бревна у очага… Кто-то жил здесь, в сотнях километров от жилья, скрытно разводил капусту, картошку и лук; и не просто так жил себе и жил; этот кто-то продолжал еще и прятаться. От кого?!
— Эй!.. Выходи! — нехорошо звучал надтреснутый голос Володи в теснине, словно в бочке. «Как в могиле», — подумалось ему еще хуже.
Коля двинулся вперед, сделав недвусмысленный жест: «Прикрывай!»
— Эй! Человек! — продолжал кричать Володя, отвлекая. — Мы советские люди! Мы тебе ничего не сделаем!