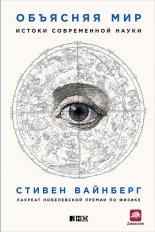Игра в марблс Ахерн Сесилия

– Ладно, милая, хорошо. Если ты думаешь, что тебе это поможет.
И таким тоном он это произнес – вовсе не уверен, что поможет, но и обнаружить свои сомнения боится, – что мы оба не выдержали и расхохотались.
17
«Шарить в капусте»
Я лежу на специальном одеяле для пикника, но сквозь него все равно чувствуются неровности почвы и осколки камней. Потею в костюме. Галстук снял, закатал рукава, ноги словно горят в черных штанинах под жарким летним солнцем. Под рукой бутылка белого вина, уже наполовину пустая, возможно, мы и не станем возвращаться в офис – пятница, босс, как обычно, после обеденного перерыва скроется, якобы на встречу пойдет, а на самом деле в «Голову оленя», будет там глотать «гиннесс» в уверенности, что никто об этом не подозревает.
А я с новой девушкой. Это первая наша совместная коммивояжерская поездка, мы в Лимерике, я помогаю ей освоиться – не прямо сейчас, прямо сейчас она сидит на мне верхом и медленно расстегивает пуговки шелковой блузы.
Нас никто не увидит, твердит она, и хотя я не очень уверен, но думаю, она уже проделывала такое, если не здесь, то где-то еще. Блузу она целиком не снимает, персиковую, лососевого почти оттенка, но расстегивает лифчик без лямок, и тот падает на одеяло, а с одеяла скатывается в грязь. Штанишки она уже сняла – это я знаю, потому что мои руки сейчас как раз там, где полагается быть белью.
Такой кожи, как у нее, я никогда прежде не видел: молочно-белая, такая белая, что светится, такая бледная, что я дивлюсь, как это она до сих пор не обгорела. Волосы светлые, в рыжину – клубничные, сказал бы я, но, если бы она назвала их персиковыми, я бы не стал спорить. Губы тоже персиковые, и щеки – два персика. Словно куколка, одна из фарфоровых кукол Сабрины. Очень нежная на вид, но не хрупкая, отнюдь не ангелок, уверенная в себе, темные глаза сверкают озорством, и губы она облизывает не без лукавства: девушка знает, чего хочет, девушка берет то, что захотела.
Смешно, мы лежим на капустном поле в пятницу, в тот самый день, когда матушка неизменно кормила нас капустным супом. Назвать это варево супом – комплимент, кипяток со склизкими, гадостными, переваренными листьями капусты, которые вечно приставали ко дну. Соленый кипяток. К пятнице деньги заканчивались, а мама старалась сберечь хоть немного на праздничный воскресный обед. В субботу мы были предоставлены самим себе, добывали пищу как могли. Шли в сад, залезали на дерево и кормились яблоками, сколько влезет, или досаждали нашей соседке миссис Линч, или пытались своровать что-нибудь на Мур-стрит, но там нас быстро вычислили, так что туда уже нельзя было больше захаживать.
А еще забавно, что мы проделываем это на капустном поле, потому что запрещенный прием в игре в марблс, когда игрок пытается подвинуть свой биток ближе к чужому шарику, называется «шарить в капусте». И это не совсем совпадение, потому что, когда мы ехали полями, я ей об этом рассказал – не про то, что сам играю, нет, про это знают лишь мужчины, с которыми я вместе играю, зато они не знают обо мне ничего другого. Но я рассказал ей про это присловье, когда мы проезжали через одно капустное поле за другим, я на пассажирском сиденье, она вела, сама настояла, а я не стал спорить, поскольку зато я могу пить вволю вина из бутылки, а она лишь изредка берет ее у меня и делает глоток. Дикая девица, опасная, того гляди до беды меня доведет. Может быть, того-то я и хочу. Хочу, чтобы меня разоблачили. Мне надоело притворяться, я устал. Может быть, с этого упоминания игрового термина и начнется моя погибель. Она внимательно посмотрела на меня, когда я это сказал, потом вдруг ударила по тормозам, так что у меня вино выплеснулось, развернулась и поехала обратно тем же путем. Остановилась у капустного поля, выключила двигатель, вылезла из машины, прихватив с заднего сиденья подстилку, и пошла в поле. До самых своих бледных бедер задрала юбку, перелезая через ограду, и была такова.
Я выскочил из машины и побежал следом с бутылкой в руках. Застал ее уже на земле, навзничь. Она с довольной усмешкой поглядела на меня.
– Я бы охотно пошарила в капусте. Что скажешь, Фергюс?
Я посмотрел вниз, на нее, отхлебнул глоток из бутылки, глянул в поле – никого вокруг, а из машин нас не будет видно.
– Ты знаешь, что это выражение значит?
– Ты же мне только что объяснил: смошенничать.
– Нет, я имею в виду конкретно: это значит закатить шарик не по правилам.
Она изогнула спину, раскинула ноги и засмеялась:
– Закатывай шарик!
Я рухнул рядом с ней на одеяло. Джина дома, в Дублине, сидит на родительском собрании, но, хотя мысль о жене и промелькнула на минуту, насчет морали я особо не страдал. Эта персиковая, эта электрическая девушка – не первая, кого я отведаю после свадьбы.
За исключением того дня, когда малышка Виктория родилась и сразу умерла, а я обжулил Энгюса в «Завоеватель», прямо у крыльца нашего дома, чтобы присвоить его завиток, я никогда в жизни больше не жулил в марблс. И когда я вошел в нее и она вскрикнула, я отнюдь не нуждался в напоминании о том, что в мире марблс я – человек слова, я в точности соблюдаю все правила, но тот, другой я, который без шариков? Всю свою жизнь я только и делаю, что шарю в капусте.
18
Иноземный брильянт
– Привет, – внезапно обращается ко мне женщина, сидящая в соседнем кресле. До той минуты я не замечал ни ее, ни этого кресла, но вдруг – вот она.
Солнце возвратилось, затмение кончилось, все сняли очки, и я тоже, хотя не помню, когда это сделал. Словно мама в последние годы жизни, когда она стала рассеянной и вечно теряла очки, а раньше-то какая была собранная. Эта особенность старения меня не радует, я всегда гордился своей памятью, не путал ни имена, ни лица, всегда мог сказать, где и как познакомился с тем или иным человеком, в какой связи и о чем говорили, а про женщин я даже помнил, как они были одеты. Иногда и сейчас моя память все это мне подсказывает, но отнюдь не всегда. Я понимаю, что так оно происходит с возрастом, и удар, конечно, тут тоже виноват, но по крайней мере здесь за мной ухаживают, я не на работе, где все время нужно припоминать то и се, а не получается. Со многими такое случается, но мне бы это пришлось не по душе.
– Привет, – вежливо отвечаю я.
– Все в порядке? – спрашивает она. – Мне показалось, вы немного расстроены. Надеюсь, по телефону вам не сообщили плохие новости.
Я глянул на свою руку и убедился, что все еще сжимаю в ней мобильник.
– Нет, вовсе нет.
Но что это был за разговор? С кем? Соображай, Фергюс!
– Я говорил с дочерью. Беспокоился за нее, но она в порядке.
Не могу в точности припомнить, о чем была речь, после этого я ненадолго отключился, но что-то мне подсказывает: все в порядке, она в порядке.
– Почему я показался вам грустным? – спрашиваю я.
– У вас на щеках слезы, – мягко отвечает она. – Я села рядом с вами, потому что хотела помочь. Если хотите, я уйду.
– Нет-нет, – поспешно отвечаю я, совсем не хочется, чтобы она уходила. Я пытаюсь припомнить, что могло меня так расстроить в разговоре с Сабриной. Оглядываюсь на Ли, которая смотрит на меня с тревогой, перевожу взгляд на небо и вспоминаю про луну, потом про миниатюрные марблс, которые поместились бы в ее ямочках, потом про то, как луник застрял в ноздре у маленькой Сабрины, и рассказываю эту историю женщине в соседнем кресле. Посмеиваясь, я вспоминаю упрямое личико двухлетней Сабрины, ее красные щеки, ее невероятное упорство: что ни скажи ей, на все «нет». Ей бы сейчас пригодилось это слово, когда она пытается укомандовать троих мальчишек.
Глаза моей слушательницы расширились, словно в испуге.
– Не беспокойтесь, шарик вытащили. Все хорошо.
– Просто эта… история о шарике… а вы… – Она почти заикается. – А вы еще истории про марблс знаете?
Я улыбнулся, немного удивленный таким необычным вопросом, но спасибо, что проявила интерес. Роюсь в памяти, нет ли там еще историй про марблс, откуда бы им взяться, но мне хочется угодить новой знакомой, а она, видимо, готова поболтать. Но вот опять – туман, шторки в моем мозгу плотно задвигаются, и мне остается лишь горестно вздохнуть.
– В детстве вы, наверное, играли в шарики? – мягко подсказывает она.
И внезапное воспоминание откуда ни возьмись. Я улыбаюсь.
– Я расскажу вам, что мне вспомнилось. Нас было семеро братьев, и наша мама, женщина суровая, придумала банку для штрафов – шариками. Стоило кому-нибудь из нас ругнуться, и приходилось отдавать шарик, а это для нас было самое ужасное наказание. Все мы от шариков были без ума. – Точно так? Точно. Я засмеялся: – Помню, как мама выстроила нас в ряд и тыкала деревянной шумовкой каждому в лицо: «Если кто из вас ругнется, на хрен, сразу кладет свой долбаный шарик вот сюда. Поняли?» Ну и как удержаться после такой речи? Первым захохотал Хэмиш, потом я, а там и все остальные. Не помню, был ли там и Джо, может, он еще и не родился. Он редко играл с нами, слишком был мал. Ну и вот, через минуту после маминой речи уже шесть шариков лежало в банке. Разумеется, совсем не самые любимые, прозрачники, побитые и поцарапанные, мама все равно в них не разбиралась. И все же нас тревожила эта банка, высоко на полке, где мы видели эти шарики, а взять не могли. Во всяком случае, меня она тревожила.
– А что ваша мама делала с ними? – спросила соседка, глаза ее блестели, словно от непролитых слез.
Я присмотрелся к ней.
– У вас странный акцент.
Она засмеялась:
– Спасибо на добром слове.
– Ничего плохого не имел в виду. Приятный акцент. Какая-то необычная смесь.
– Германия. И Корк. Переехала в двадцать с хвостиком.
– А!
Я глянул на ее руки – обручального кольца нет, но на другой руке кольцо, похожее на помолвочное, и им она все время поигрывает, полуснимает и надевает обратно.
Она заметила мой взгляд и оставила кольцо в покое.
– Что ваша мама делала с шариками? Она когда-нибудь возвращала их вам?
– Нужно было их заслужить, – усмехнулся я. – Каждый месяц нам предоставлялся шанс вернуть шарики. Их мог выиграть один из нас, тоже своего рода азартная игра, хотя мама, наверное, понимала это иначе. Вполне возможно, мы порой ругались даже нарочно, чтобы повысить ставки в игре. А чтобы заработать шарики, нужно было помогать по дому. Стирать, убирать, и в конце месяца мама решала, кому достанется награда.
– Небезупречное решение, – засмеялась она.
– Вот именно. Ссорились мы из-за этого ужасно. Порой лучше было не выигрывать, а то наподдают тумаков и постараются отобрать каждый свои шарики. С другой стороны, если и это выдержишь – они твои.
– Вы часто выигрывали?
– Всегда.
Она снова смеется. У нее мелодичный смех.
– Первые несколько месяцев я выигрывал постоянно, потому что раз в месяц мама давала мне записку, я шел с ней к аптекарю и приносил от него коричневый бумажный пакет. Я-то не понимал, что внутри, пока братья не просветили: я ношу женские прокладки. Изводили меня, пока я не отказался напрочь хоть в чем-то помогать маме.
– И проиграли свои шарики?
– Свои – нет. Вопрос решался просто: не ругаться при маме.
Мы оба смеемся.
– Мы с вами уже разговаривали прежде! – вдруг сообразил я.
– Да, – ответила она, не сумев скрыть печальную улыбку. – Несколько раз.
– Простите.
– Все нормально.
– Вы тут кого-то навещаете, – сказал я.
– Да.
Мы посидели немного в молчании, но это было уютное молчание. Она скинула туфли, стопы у нее красивые. Ногти покрашены ярким розовым лаком. Снова принялась играть с кольцом.
– Кого вы навещаете? – продолжал я. Не ворчуна Джо, с ним я ни разу ее не видел. Не Джерри, не Киарана, не Тома. Не Элинор и не Падди. По правде говоря, не припомню, чтобы она разговаривала с кем-то, кроме меня или нянечек. Впрочем, на мою память особо полагаться нельзя. Плоховата она стала.
– Раньше вы ни разу меня об этом не спрашивали. Не спрашивали, к кому я прихожу.
– Виноват.
– Нет, ничего.
– Значит, вы приходите ко мне?
– Да.
Глаза ее сияют, она почти перестала дышать. Очень красивая женщина, я внимательно присматриваюсь к ней, к этим зеленым глазам – что-то у меня в мозгу зашевелилось, потом снова замерло. Я даже имени ее вспомнить не могу, а спросить теперь неловко, с такой любовью она на меня смотрит. И все поигрывает своим кольцом, то и дело опуская взгляд на руки. Глянул на кольцо и я.
Похоже на марблс в золотой оправе. Чистый прозрачный шарик с ленточкой из белых и яркоокрашенных полос на белом фоне. Машинной выработки марблс из Германии. Это я откуда-то знаю. Это знаю твердо, а больше ничего. Неудивительно, что она расспрашивала меня о шариках. Видно, увлечена ими.
– А историю про штрафную банку я уже тоже вам рассказывал? – спросил я.
– Да, – мягко ответила она все с той же широкой, красивой улыбкой.
– Виноват.
– Да не твердите вы все «виноват, виноват». – Она кладет руку поверх моей, ту самую, с кольцом. Кожа у нее теплая, гладкая. Снова шевельнулось воспоминание. – Здесь вы мне эту историю не рассказывали.
Я провел пальцем по ее пальцам, по шарику. Ее глаза наполнились слезами.
– Простите, – сказала она, быстро промокая глаза.
– Вам не за что извиняться. Ужасно неприятно, когда что-то не можешь вспомнить, но каково же тому, кого не помнят.
– Иногда вы вспоминаете, и это прекрасные дни, – возражает она. Великодушная женщина, она цепляется за любую надежду.
– Иноземный брильянт, – неожиданно для самого себя выговорил я вслух, и она тихо вскрикнула. – Так этот шарик называется.
– Так ты порой называл меня, Фергюс, – шепчет она. – Что это с тобой сегодня? Просто чудо.
И мы оба на миг умолкаем.
– Я тебя любил, да? – спрашиваю я.
Глаза ее вновь наполняются слезами, она кивает.
– Почему я ничего не помню? – Голос сорвался, я разнервничался, места себе не нахожу. Хочется вскочить с инвалидного кресла и бежать, шагать, прыгать, двигаться, и пусть все снова станет как прежде.
Она поворачивает мое лицо к себе, обхватив одной рукой за подбородок, и смотрит на меня с нежностью, а я вспоминаю лицо мамы в тот день, когда меня привели к ней, когда она думала, что я мертв, и я вспоминаю вышибалу, и лондонский паб, и парня по имени Джордж, который подарил мне чешскую пулелейку, и мертвого Хэмиша – все в один миг.
– Фергюс! – зовет она, и ее голос возвращает меня в настоящее, успокаивает. – Меня не пугает, что ты многое забыл. Я не стараюсь о чем-то тебе непременно напомнить. Прошлое в прошлом. Я прихожу к тебе в надежде, что мне посчастливится – и ты снова полюбишь меня, во второй раз, как в первый.
Я улыбнулся ей, и волнение тут же улеглось, потому что это и правда прекрасно. Я ничего не знаю об этой женщине и в то же время знаю о ней все. Я хочу любить ее и хочу, чтобы она меня любила. Я беру ее за руку, за ту руку, на которой кольцо, и держу крепко.
19
«Шлюхи»
Я вернулся домой после перелета, уставший, но радостно взволнованный, все еще в состоянии кайфа, когда адреналин несется по венам и только и требует: «Еще!» Ночью гуляли, рано утром я помчался в аэропорт, чтобы успеть на день рождения Сабрины, ее тринадцатилетие. Девочка становится тинейджером, и по этому случаю Джина заказала большой шатер и еды на сорок человек, главным образом собственных родственников – из моих, слава богу, ни один не смог явиться. Вернее, так я сказал Джине, маму я приглашал, но Мэтти недавно сделали операцию на сердце, и она сидит при нем. Джина ничего против не имела, мне кажется, она только рада, что никто из моих не придет, и не удивилась – это для нас не новость. Мы с братьями не очень близки, были когда-то, пока я не повстречал Джину, а потом я постарался оградить ее от моих родичей, мне казалось, для них она чересчур хороша. Теперь, четырнадцать лет спустя, я понимал, как это было глупо, и бывали такие случаи, ситуации, когда я хотел бы их видеть. Например, Сабрина что-то скажет или сделает, и мне хочется, чтобы они об этом знали. Или на семейном ужине, когда официант спотыкнется, или когда умные приятели Джины несут свою чушь и нет никого рядом со мной, кто тоже понимал бы, какие это, в сущности, придурки. Братья бы поняли, и было бы здорово, окажись они тут. Шуточки Дункана, внимательный взгляд Энгюса, который старался защищать меня после ухода Хэмиша, словно он что-то знал, знал, что нужно меня беречь. И маленький Бобби, очаровательный, ни одна женщина мимо не пройдет, пока в детстве он жрал червяков, мы звали его «Наживка», а потом переделали в «Наживчика». А Томми все время присматривал за ним и до сих старается убрать с пути младшенького всяких слизней и мокриц, и наш Джо, родившийся спустя много времени после того, как мы лишились Виктории, пугливый крошка Джо, меня, Энгюса и Дункана он не считал за родных, мы все съехали из дома прежде, чем он подрос. Наслушавшись от соседей побасенок о Хэмише, он представлял его каким-то чудовищем, букой, который унесет его, если Джо не будет себя хорошо вести; хуже того, если Джо не будет себя хорошо вести, станет как Хэмиш. Этот призрак так и остался жить с нами, спал в нашей постели, ел за нашим столом, в каждой комнате слышались отголоски его голоса, его энергия впиталась во все здесь, в каждого из нас.
И все же мы никогда о нем так не говорили, и мама тоже не говорила. Хэмиш был веселым, Хэмиш был сильным, Хэмиш был храбрым. Лучший способ стать лучшим – умереть. Мама баловала Джо и немного его изнежила, но от этого он стал не трогательным, как бывают маленькие, а нервным, тревожным, все ему казалось, что о нем мало заботятся. Мама боялась, как бы он не поранился, как бы не потерялся, не заболел, не помер ни с того ни с сего. На улице всегда было слишком темно, слишком влажно, слишком жарко, слишком далеко идти, слишком поздно, слишком рано, лучше оставайся с мамочкой, Джо, и будешь в полном порядке. Вот и вышел парень серьезный, напряженный, сто раз подумает, прежде чем что-то сделать. Главное – безопасность. Обзавелся дружком и живет с ним в новом доме на набережной, перед нами делает вид, будто ничего такого, взял моду ходить на работу пешком, кейс под мышкой, в руке стаканчик кофе – я порой вижу его, проезжая утром по городу. Джина его одобрила бы, парень хорошо работает, что-то связанное с компьютерами, вот только Джо меня вовсе не любит. Порой мне недостает братьев, причем в самые неожиданные моменты, но сегодня я рад, что их тут не будет.
Сабрина встретила меня на пороге, счастливая, чересчур сильно накрашенная, в чересчур короткой юбке и впервые в жизни на каблуках. Она спустила блузку с плеча, выставляя напоказ лямочку только что купленного матерью лифчика. По мне, так выглядит ужасно – даже на мой взгляд, а ведь я ее отец, мне ли не считать ее совершенством во всем. Родительская любовь ослепляет, но на этот раз не сработало. Нам предстоит угощаться в шатре, погода не по-летнему скверная, день сумрачный, а Сабрина вырядилась, точно на праздник под небом Испании. Юбчонка тонкая, почти прозрачная, сквозь это дешевое подобие шелка я отчетливо различаю мурашки на ее коже.
А потом она улыбнулась мне, и сердце растаяло при виде множества металлических пломб. Моя смешная, неуклюжая, славная дочурка в пижамке с размазанным по лицу кремом, валяющаяся на диване перед телевизором, по которому показывают «Семейное счастье», куда красивее этого… пугала.
– Фигово выглядишь, – сказала она, обнимая меня.
Я замер. Если уж Сабрина это заметила, от Джины тем более не скроешься. Она примется анализировать мое состояние, разбирать по косточкам, задаст тысячу параноидальных вопросов, впустит в меня когти, не отобьешься. Нужно быстренько принять душ, пока я не попался ей на глаза. Голос жены доносится из кухни, перекрывая все прочие голоса. Шатер полностью накрыл наш крошечный задний двор, прижался к стене, крыша сарая углом воткнулась в него, как бы не проткнула (и чей-нибудь череп заодно). Джина давно одета, готова, красива, как всегда, как прежде, после стольких лет, говорит без умолку и строит всех, словно живет на Голливудских холмах. Но мы не живем в сериале. Не получилось. Я не смог дать ей то, чего она ждала, к чему ее готовили с детства. Теперь, когда Сабрине исполнилось тринадцать, Джина поговаривает, не выйти ли ей на работу, но не думаю, что это всерьез, она блефует, тычет меня носом: «Ты не дал мне того, что мне нужно. Ты мало зарабатываешь».
Ближайшие часы мне предстоит провести в этом шатре с людьми, которые будут спрашивать: «Чем ты сейчас занимаешься, Фергюс?», как будто я меняю работу чаще, чем нижнее белье. Да, я долго на одном месте не засиживаюсь, но как раз сейчас я, кажется, кое-что нашел. Признаюсь, я не очень умело распоряжался деньгами, но я это понял и научился. Я хороший продавец, даже замечательный, все началось еще у Мэтти в мясной лавке, когда я искал способа увильнуть от промывки кишок и другой работы такого рода, за которую никто не брался. Я занялся поисками хорошего мяса и советовал Мэтти, как лучше наладить торговлю, – и это сработало. Очень быстро я выбрался из заднего помещения мясной лавки наверх, в офис, занимался продажами. А потом, женившись на Джине, понял, что настала пора уходить от Мэтти, применить свои навыки в другом месте, и у меня все получалось: мобильные телефоны, ипотека, а теперь друг звал меня в новую компанию. Мне только и требовалось разобраться в этом рынке. Я и вникаю. Если я не всегда правильно распоряжаюсь собственными деньгами, из этого отнюдь не следует, что я не умею зарабатывать их для других. Нужна только бумажка, чтобы мне больше доверяли, – так что я записался на вечерние курсы, занятия два раза в неделю, и скоро стану дипломированным венчурным капиталистом.
– Что это? Мой подарок? – спрашивает Сабрина, тыча пальцем в сумку у меня в руках. Я резко отдернул сумку.
– Извини, – сказала она, став вдруг серьезной, даже немного напугавшись, и отступила на шаг.
– Извини, дорогая, не хотел. Это просто… – Я убираю сумку за спину, надо срочно ее спрятать, пока тот же самый вопрос не задала Джина. Достаточно одну ночь провести не дома, и паранойя полностью завладевает ею.
Я ринулся вверх по лестнице в гостевую спальню, которая служит мне кабинетом. Судя по виду этой комнаты, здесь поселили тещу: повсюду свечи, цветы, шампунь, гель для душа, все, без чего ей не провести ночь вне дома, только шоколадки под подушкой не хватает. Подтащив стул к шкафу, я залез на него – шарики я прячу на верхней полке, глубоко, у самой стенки. Там даже я сам их с трудом достаю. Туда и хочу запихать свою сумку как есть, целиком, вытащу и разберу позже, когда будет время.
На лестнице послышались шаги, и я не успел спрятать сумку. Пихал ее и толкал, но никак не лезла. Сохрани я хоть каплю здравого смысла, я бы вытащил свои преступные предметы и спрятал их по одному, но я поддался панике. Обильно потея, я чувствовал, как подмышки воняют черным кофе, как после ночной попойки из всех пор сочится алкоголь. Она уже близко. Я захлопнул шкаф и спрыгнул со стула – сумка так и осталась в руках, стул так и стоит возле шкафа.
Дверь открылась.
Джина уставилась на меня, осмотрела с головы до ног. Я вижу, нутром чую – сильнее, чем во все прошлые разы, а у нас уже не раз подходило к этому вплотную, – что на этот раз момент истины настал.
– Что ты делаешь?
– Хотел кое-что проверить по работе.
Я потею, грудь ходуном ходит с перепугу, я пытаюсь хоть как-то себя контролировать.
– По работе, – без выражения повторила она.
Глаза потемнели, лицо свирепое. Никогда ее такой не видел. Я чувствую, наши отношения рушатся, и это почти облегчение, но в то же время я не хочу этого допустить.
– Где ты вчера ночевал?
– В «Холидей».
– Где это?
– На Кингс-Кросс.
– Это был форум по стратегическим технологиям.
– Ну да.
– Значит, я правильно расслышала, что ты мне говорил. Я туда звонила. Искала тебя. В гостинице никто не останавливался под этим именем. И никакого форума там не проходило. Вообще ничего. Если только ты ездил не на индийскую свадьбу, то тебя там не было, Фергюс.
Ее уже трясет, и голос дрожит, и все тело.
– Со шлюхой туда какой-нибудь ездил?
Ничего себе. Никогда раньше она не бросала мне таких обвинений. Намекала – косвенными вопросами, своей подозрительностью, – но никогда не произносила вслух. Под ее взглядом я самому себе становлюсь противен – как мог я так ее унизить, превратить в женщину, какой она никогда не была? Все кончено, все кончено, она меня доконала. Сдаться? Или не сдаваться? Я же из тех, кто упорствует в борьбе. Еще одна попытка. Не будем капитулировать так сразу.
– Нет, Джина. Джина, да посмотри же на меня! – Я схватил ее за плечи. – Я ночевал там, а конференция проходила в другой гостинице. Номер не был зарезервирован на мое имя, потому что номера бронировало начальство через турагентство. Не знаю, на кого бронировали, могу выяснить. – Голос мой сделался чересчур пронзительным, ломким, вот-вот оборвется. Голос выдает меня с потрохами. Это в игре в марблс не приходится произносить ни слова, голос не может тебя подвести.
– Убери от меня руки, – тихо и грозно говорит она. – Что в сумке?
Я сглатываю.
– Я не… ничего.
Она смотрит на сумку, и я пугаюсь: сейчас выхватит, откроет, узнает правду.
Она права: я не останавливался в «Холидей». И ездил не по работе. Я был в «Грейхаунд», в Тинсли-Грин, Западный Сассекс, но только не с женщиной. Туда я езжу вот уже пять лет подряд в один и тот же день на всемирный чемпионат по марблс. В сумке – два моих трофея, первый – кубок, выигранный вместе с командой, второй – в индивидуальном зачете. Наша команда, «Электрические бабки», названа в честь прозрачных шариков от Christensen Agate, с матовыми белыми завитками по цветному фону. Их называют «электрическими», потому что они гораздо ярче шариков всех прочих компаний, а самый редкий цвет – персиковый. Я решил так назвать свою команду, потому что именно такой шарик я приобрел после совокупления на капустном поле. Этот шарик был цвета ее кожи, ее персиковых волос и губ, он напоминал мне о тайне, которой было уже пять лет, и о том, что все, связанное с шариками, – моя тайная жизнь, мой вид обмана. Нарекая так команду (а эти шарики не только «бабками», но и «шлюхами» именуют в обиходе), я с гордостью и отвращениям признавал себя тем, кто я есть: титулованным лжецом, человеком, желающим и впредь тайком продолжать игру. Товарищам по команде название сразу приглянулось, а второго смысла они в нем не увидели. В мире марблс происходит все то же, что и в человеческой жизни: свое размножение, свои подделки. «Шлюхи» потому и «шлюхи», что изображают резанный вручную камень. Джина для меня – такой обработанный вручную камень, всегда была и всегда будет, а моя любовница с капустного поля – в этом смысле всего лишь «шлюха», и мы с ней оба это понимали.
У Джины это слово вырвалось случайно. Она конечно же ни о чем понятия не имела. Мои товарищи по команде – их пятеро – ничего не знали о моей личной жизни, мы только играли вместе и болтали ни о чем, как болтают мужчины, уклоняясь от сколько-нибудь серьезного разговора. Вместе мы пять лет подряд участвовали в мировом чемпионате, и вот наконец Ирландия победила, впервые в истории, а я не могу никому похвастаться. Сегодня в газете была заметка о нашей победе со смазанной фотографией, я вовремя спрятался за чужими спинами. «Электрические бабки» принесли Ирландии победу». И конечно же упомянут лучший игрок в индивидуальном зачете, тот, кто сделал финальный выигрышный бросок, – то есть я.
Мы играли в «ринг-тоу»: сорок девять шариков выложили в круг диаметром шесть футов. Мишень на три дюйма приподнята и посыпана песком. Шарики можно использовать стеклянные или керамические, диаметром в полдюйма. Две команды по шесть игроков стараются выбить из круга шарики и получают за каждый выбитый шарик одно очко. Кто первый выбьет двадцать пять шариков, тот и выиграл. Наши «Электрические бабки» разгромили американскую команду и стали чемпионами мира. Величайший день в моей жизни после рождения Сабрины. Конечно же я никогда его не забуду.
Как мне сказать об этом Джине? Какие найти слова? Четырнадцать лет я скрывал от тебя свое хобби. Это важная часть моей жизни, но ты о ней ничего не знаешь. И это само по себе предательство, хоть и не измена с другими женщинами, это странно, это скверно: ведь если я скрываю от жены хобби, что еще я способен скрыть от нее? Все зашло слишком далеко, уже не объяснишь, не вернешь. Почему мне показалось легче лгать? Потому что я обещал Хэмишу. Когда десятилетним ребенком я выскальзывал вместе с ним в ночь, это была наша тайна. Тайна, которую мы тщательно скрывали от мамы, – что мы играем на деньги; тайна, которую мы скрывали от игроков, – что я умею играть. И теперь, сам не зная почему, я продолжаю хранить обет молчания, словно из верности Хэмишу, словно это какая-то с ним связь. Из всех родных и близких только мы двое знали, только ты и я, Хэмиш. Но мой Хэмиш умер, а Джина со мной, и я не могу продолжать так до конца жизни. Это меня с ума сведет, уже сводит. Никогда еще это так сильно не давило на меня. Я должен ей рассказать. Поначалу будет трудно, она не сможет мне доверять, но она и так уже что-то подозревает. Все расскажу ей. Прямо сейчас.
– Я тебе покажу, – предлагаю я, доставая из-за спины сумку, расстегивая ее, руки, не поверите, так и трясутся. А ведь в заключительные минуты самой главной в моей жизни игры пальцы не дрогнули.
– Нет! – остановила она меня, вдруг испугавшись, даже руки перед собой выставила.
Я пытаюсь ей сказать, что она ошибается, это не то, не знаю, что она подумала, но это не то.
– Нет! Раз ты говоришь, что был там, значит, ты был там. – Она с усилием сглатывает. – Через пятнадцать минут соберутся гости. Будь, пожалуйста, готов. – И с тем она меня оставила, молния на сумке расстегнута, кубок сверкает металлом, я отчетливо различаю его – ей стоило только глянуть.
Позднее тем же вечером, снова нацепив маску, смыв пот, угостившись коктейлем из креветок и куриной котлетой по-киевски, перед тем как отведать торт «Павлова»[3], я отправился на поиски Сабрины и нашел ее на диване – свернулась комочком и плачет.
– Что стряслось, хорошая моя?
– Джон сказал, я выгляжу как шлюха.
Я обхватил ее обеими руками, слезы уже успели смыть излишки косметики.
– Нет, ничего подобного. Никогда ты такой не будешь. Но все это, – я окинул взглядом ее наряд, – это же не ты, лапочка, правда? Помни, – я протолкнул застрявший в горле ком, – всегда помни: нужно оставаться самой собой.
20
Не носить уличную обувь
«Мраморный кот» – стильный паб на Капел-стрит, вывеска в черной рамке, по бокам укреплены флаги Килкенни. Снаружи черная доска с заманчивым перечнем дежурных блюд – овощной суп, черный хлеб «Гиннесс», креветки из Дублинского залива. Приветливый бар, не то что некоторые, норовящие попрочнее захлопнуть двери и ставни, отрезав дневной свет. Пятница, четыре часа дня, еще не набились битком под конец рабочего дня усталые труженики, жаждущие расслабиться и снять перед выходными стресс. Внутри паб разделен на пивную и гостиную зону. Я выбрала гостиную, там спокойнее. Трое мужчин сидят у стойки бара, уткнувшись в кружки, между ними оставлены свободные места – не одна компания, хотя время от времени обмениваются парой слов. Еще двое едят суп с хлебом и говорят о работе. Больше пока никого нет.
Молодой бармен, стоя за стойкой, смотрит по телевизору скачки. Я подошла к стойке, и он переключился на меня.
– Привет, – я не повышала голоса, и ему пришлось шагнуть ближе. – Можно ли поговорить с управляющим? Или с кем-нибудь, кто давно здесь работает?
– Хозяин сегодня тут, в пивной. Сейчас позову.
Он скрылся за дверью, ведущей в пивную, и вернулся через минуту в сопровождении неохватного толстяка.
– Ого, Мраморный Кот собственной персоной! – ожил вдруг один из завсегдатаев у стойки.
– Как дела, Картопля? – Толстяк протянул ему руку.
Огромный, шесть футов с лишним, и поперек себя шире. Окинув взглядом помещение, я догадываюсь, кто он: стены сплошь в фотографиях, кубках, футболках, которые заключены в рамки. А еще – газетные статьи о чемпионатах Ирландии и победах. Нет свободного дюйма. Футболки в черно-желтую полоску, кошачьи, теперь я понимаю, откуда взялось название паба. Хоккеисты из Килкенни зовутся «котами», этот зверь считается самым упорным в драке. Представляю себе, как он продирался с клюшкой сквозь заслон противников, в ту пору в хоккей на траве играли без шлемов и защиты, чистый физический напор. Человек – или кот – из мрамора. Он склоняется, опираясь на стойку, чтобы сравняться со мной ростом, но даже так намного меня выше. Локти раздвинуты на полированной стойке, ноги вросли в землю – разбуди его ночью, он займет эту позицию.
– Мраморный Кот – вас так прозвали? – спрашиваю я.
– Как меня только не прозывали. Хорошо, что прилипло именно это, – усмехается он.
– Знаете, кто это? – вмешивается Картопля. – Шесть кубков Ирландии в семидесятые. Лучший игрок «Килкенни». Никогда прежде такого не было и впредь не будет.
– Зовите меня Билли, – говорит он. – Я хозяин этого паба. Чем могу помочь?
– Я Сабрина Боггс. – Я надеялась увидеть на его лице промельк узнавания, Боггс – фамилия редкая, но ничего не произошло. – У моего папы начались провалы в памяти, а я хотела бы помочь ему восстановить прошлое. Он часто заходил сюда выпить. Был завсегдатаем.
– Значит, вам повезло, потому что я знаю каждого, кто входит в эту дверь, и уж тем более завсегдатаев.
– Он играл в марблс, я думала, за этим он сюда и ходил, но вы, хоть и Мраморный Кот, не интересуетесь мраморными шариками, – улыбнулась я.
– Килкенни – «мраморный город», – снисходительно поясняет он. – Улицы были выложены известняковыми плитами, во время дождя они блестели. Отсюда и название.
Бьюсь об заклад, он сотни раз повторял то же самое американским туристам.
– Темно-серый, почти черный известняк добывали у самой границы города, в Черном карьере. По секрету, – оглянувшись, он прикрыл рот рукой, – я так и собирался назвать паб, но денежные люди решили, что «Мраморный кот» даст больше прибыли.
Я улыбнулась.
– Но одно время, скажу я вам, тут действительно играли в марблс, собиралась небольшая компания. Как отца зовут?
– Фергюс Боггс.
Он нахмурился, покачал головой. Оглянулся на мужчин у стойки.
– Картопля, знаешь такого? Играл тут в шарики Фергюс Боггс?
– Только не здесь, – не раздумывая ответил Картопля, уткнувшись в свою пинту.
– Лет пять назад, – уточняю я. Если Регина не соврала…
Хозяин и рад бы мне помочь:
– Извините, дорогая, у нас тут команда маленькая была – Картопля, Джерри, вот, – он ткнул пальцем в сторону бара. – И еще трое, но никакого Фергюса.
– Покажи ей угол славы, – с гордостью выкрикнул Картопля, а остальные зашикали.
Мраморный Кот улыбнулся и поднял край стойки. Навис надо мной.
– Позвольте, проведу для вас экскурсию. Мои стены славы, наверное, вам показывать не стоит, но вот там, в уголке, у нас все памятки «Электрических бабок».
Разочарованная тем, что тут никто не слышал о моем отце, я поплелась за ним в дальний конец бара. Картопля спрыгнул со стула и присоединился к нам.
На стене была устроена застекленная витрина, внутри два кубка.
– Они стали победителями всемирного чемпионата по марблс в… – Он пошарил в карманах, отыскивая очки.
– В девяносто седьмом, – перебил Картопля. – В апреле.
Мраморный Кот покосился на него и продолжил:
– Второй кубок – лучшего игрока. И это не Картопля, даже без очков скажу, – поддразнил он, продолжая рыться в карманах.
– О нас писали в газете. – Картопля ткнул в обрамленную вырезку, и я наклонилась ближе рассмотреть фотографию.
– Смотрите внимательнее, у Картопли еще можно разглядеть волосы, – посоветовал Мраморный Кот.
Из вежливости я почти ткнулась носом в фотографию, провела взглядом от ближайшего ко мне игрока к следующим, и вдруг сердце пропустило удар.
– Это мой отец, – сказала я, указывая на одного из них.
Мраморный Кот, нашедший в конце концов свои очки, тоже придвинулся ближе к газетной вырезке в рамке.
– Хэмиш О’Нил. Это ваш отец?
– Нет, нет! – рассмеялась я. – Тут ошибка. Его зовут Фергюс Боггс. И это точно он. Боже, только посмотрите, какой он тут молодой.
– Это Хэмиш О’Нил, – повторил Мраморный Кот, тыча толстым пальцем в лицо отца. – Один из моих завсегдатаев. Уж его-то я знаю.
Картопля снова вступил в разговор:
– Это Хэмиш! – И посмотрел на меня, как на лгунью.
Я была ошеломлена. Раскрыла рот, но ни звука из себя не выдавила. Голова плыла, слишком много вопросов, меня все это сбивало с толку. Я внимательнее присмотрелась к фотографии – может быть, я в самом деле ошибаюсь? Двадцать лет прошло, меня могло обмануть сходство. Но нет, это, без сомнения, он. Или эти немолодые мужчины шутки шутят? Какой-то розыгрыш? Я обернулась к ним: их лица были столь же озадаченными, как мое.
– Она говорит, что Хэмиш – ее отец, – сообщил Мраморный Кот Картопле. Его возбужденный голос пронесся по всему пабу, двое мужчин в костюмах тоже прислушались.
– Я слышал. – Картопля, прищурившись, изучал меня.
Мраморный Кот расхохотался, паб едва вмещал в себя его смех.
– Джерри! – заорал он в раскрытую дверь соседнего помещения. – Иди сюда, ты себе не представляешь, кто у нас тут.
– Очень хорошо знаю, кто тут, и близко к нему не подойду. Пусть сперва извинится! – сердито проорал изнутри мужской голос.
– Долго же тебе там сидеть! – крикнул в ответ Картопля.
– Да оставьте же на минуту ваш дурацкий спор, сколько вы уже, год как поссорились! – перекричал обоих Мраморный Кот. Тремя длинными шагами он вернулся к стойке и крикнул в заднюю дверь, чтобы услышали в гостиной:
– Пришла дочь Хэмиша О’Нила!