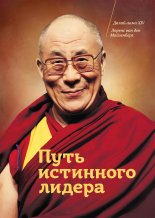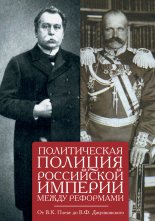Уроки чтения. Камасутра книжника Генис Александр
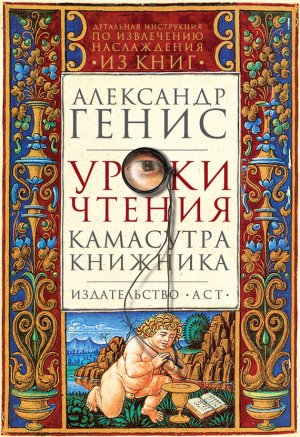
Всякий читатель – палимпсест, сохраняющий следы всего прочитанного. Умелый читатель не хранит, а пользуется. Но только мастер владеет искусством нанизывания. Его цель – не механический центон, а органическое сращение взятого. Он читает не сюжетами и героями, а эпохами и культурами, и видит за автором его школу, врагов и соседей. Нагружая чужой текст своими ассоциациями, он втягивает книгу в новую партию. Включаясь в мир прочитанного, она меняет его смысл и состав. Игра в бисер – тот же теннис, но с библиотекой, которая рикошетом отвечает на вызов читателя. Успех партии зависит от того, как долго мы можем ее длить, не выходя за пределы поля и не снижая силы удара.
Лучшие партии вершатся в уме, столь богатом внутренними связями, что он уже не нуждается во внешней реальности: Борхес ослеп не случайно.
Игра в бисер и впрямь небезопасна. Я видел, к чему она приводит фарисеев, книжников и нелегальных марксистов. Увлекшись, легко принять духовную реальность за единственную. Опасно не отличать ту действительность, в которой мы живем, от той, в которой мыслим. Поняв это, герой Гессе ушел из Касталии в мир, но я бы остался. Игра – это творчество для себя, во всяком случае – для меня.
31. Шибболет
Во дни сомнений, – не вникая в смысл, зубрил я в восьмом классе, – во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – повторял я, когда подрос, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, – утешаю я себя сейчас, – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?
Я и не впадаю, хотя все еще не могу понять, что уж такого особо правдивого и свободного у языка, на котором бегло говорил Ленин, с акцентом – Сталин и ужасно – Жириновский. Зато я горячо разделяю тезис про поддержку и опору, ибо, живя, как Тургенев, за границей, привык к тому, что русский язык способен заменить Родину.
– По-английски, – вздохнула переводчица, – все русские – хамы.
– ?! – вспыхнул я.
– Вы говорите “please”, – пояснила она, – в тысячу раз реже, чем следует. Но это – не ваша вина, а наша. Вернее – нашего языка, который одним словом заменяет бесчисленные русские способы вежливо выражаться даже по фене и матом. Чтобы слыть учтивым, вам достаточно назвать селедку “селедочкой”, чего на английский не переведешь вовсе. Ведь “маленькая селедка” – это малёк, а не универсальная закуска, славное застолье, задушевный разговор до утра – короче, всё то, за чем слависты ездят в Москву и сидят на ее кухнях.
– А то! – обрадовался я и решил перечислить языковые радости, которых русским не хватает в английском.
В университете жена-сокурсница писала диплом “Уменьшительно-ласкательные суффиксы”, а я – “Мениппея у Булгакова”. Тогда я над ней смеялся, теперь завидую, и мы о них до сих пор говорим часами, ибо мало что в жизни я люблю больше отечественных суффиксов. В каждом хранится поэма, тайна и сюжет. Если взять кота и раскормить его, как это случилось с моим Геродотом, в “котяру”, то он станет существенно больше – и еще лучше. “Водяра” – крепче водки и ближе к сердцу. “Сучара” топчется на границе между хвалой и бранью. Одно тут не исключает другого, так как в этом суффиксе слышится невольное уважение, позволившее мне приободриться, когда я прочел про себя в Интернете: “Жидяра хуже грузина”.
Попробуйте обойтись без суффиксов, и ваша речь уподобится голосу автомобильного навигатора, который не умеет, как, впрочем, и многие другие, склонять числительные и походить на человека. Приделав к слову необязательный кончик, мы дирижируем отношениями с тем же успехом, с каким японцы распределяют поклоны, тайцы – улыбки, французы – поцелуи и американцы – зарплату. Суффиксы утраивают русский словарь, придавая каждому слову синоним и антоним, причем сразу. Хорошо или плохо быть “субчиком”, как я понял еще пионером, зависит от того, кто тебя так зовет – учительница или подружка. Дело в том, что в русском языке, как и в русской жизни, нет ничего нейтрального. Каждая грамматическая категория, даже такая природная, как род, – себе на уме.
– “Умником”, – тонко заметил Михаил Эпштейн, – мы называем дурака, а “умницей” – умного, в том числе – мужчину.
Все потому, что русский язык нужен не для того, чтобы мысль донести, а для того, чтобы ее размазать, снабдив оговорками придаточных предложений, которые никак не отпускают читателя, порывающегося, но не решающегося уйти, хотя он и хозяевам надоел, и сам устал топтаться в дверях.
“Бойся, – предупреждает пословица, – гостя не сидящего, а стоящего”.
На пороге, говорил Бахтин, заразивший меня мениппеей, общение клубится, вихрится и не кончается – ни у Достоевского, ни у Толстого. На многотомном фоне родной словесности лаконизм кажется переводом с английского, как у Довлатова, который учился ему у американских авторов задолго до того, как к ним переехал.
Различия нагляднее всего в диалоге, который не случайно достиг драматического совершенства на языке Шекспира.
С тех пор как аудиозапись вытеснила алфавит, всякий язык перестает быть письменным. Теперь это особое искусство, вроде балета. Сплясать ведь может и медведь, но чтобы выделывать балетные па, надо долго учиться. Понимать их тоже непросто, особенно тогда, когда балерина, объяснял Баланчин, изображает руками Правосудие.
Между устным и письменным словом много градаций. Одна из них – тот псевдоустный язык, которым сперва заговорили герои Хемингуэя, а теперь – персонажи сериалов. Их язык не имитирует устную речь, а выдает себя за нее так искусно, что мы и впрямь верим, что сами говорим не хуже.
Оттачивая прямую речь, диалог упразднил ремарки. Англоязычный автор обходится предельно скупым “Он сказал” (He said) там, где наш что-нибудь добавит:
– Ага! – опомнился Иван.
– О-о, – всплакнула Анна.
– ?! – вскочил Петр.
Нам важно поднять эмоциональный градус диалога, тогда как телеграфный английский доверяет ситуации. Считается, что она сама подскажет нужную интонацию или, что еще лучше, без нее обойдется. Нулевая эмоция – непременная черта любого вестерна, включая отечественные. Лучшая реплика в “Белом солнце пустыни” – “Стреляют”, но она принадлежит иностранцу.
Русские не только говорят, но и пишут иначе. Чтобы воссоздать наш диалог, нужна оргия знаков препинания. Тот же Довлатов уверял, что пунктуацию каждый автор придумывает сам, и бесился, когда ему ее исправляли. Я тоже считаю, что пунктуация не подчиняется корректорам. Все знаки, кроме точки, – : ( ) . ! ; : ? , ” … ” , – условны, недостаточны и произвольны. Они – отчаянная попытка писателя хоть как-то освоить нашу интонацию, безмерно щедрую на оттенки. Не так в английском, где и запятую редко встретишь, восклицательный знак на клавиатуре не найдешь, а точку с запятой, как сказал Воннегут, ставят лишь для того, чтобы показать, что автор учился в колледже.
Русские (кто умеет) пишут, как говорят: кудряво, со значением, но не обязательно со смыслом. Речь строится на перепадах эмоций, объединяется тональностью и требует для записи почти нотной грамоты. Результат настолько укоренен в родной почве, что перевести его можно лишь с письменного языка обратно на устный, что и доказал игравший Обломова Табаков в разговоре со старым слугой.
– Другой – кого ты разумеешь – есть голь окаянная. Вон Лягачев возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет… “Куда, мол, ты?” – “Переезжаю”, – говорит. Вот это так “другой”! А я, по-твоему, “другой” – а?
Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча над головой его.
Больше всего я завидую глаголам: в английском ими, если захочет, может стать почти любое слово. Другим языкам приходится труднее. В Австралии, например, есть язык аборигенов, который пользуется всего тремя глаголами, которые все за них делают. Нам хватает одного, но он – неприличный. В остальных случаях мы пользуемся тире, сшивая им существительные, которых поэтам часто хватает на стихи:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Оставив работу читателю, автор не экономит на очевидном, как телеграф, а нанизывает слова, словно четки. Или почки: смысл разбухает, прорастает, распускается сам по себе, без принуждения глагола. Избегая его сужающего насилия, русский язык умеет то, что редко доступно английскому: менять порядок слов. Эта драгоценная семантическая вибрация способна перевести стрелки текста, направив его по новому пути.
Восторг синтаксической свободы я впервые осознал еще студентом, когда бился над несчастной мениппеей (хорошо, что по дороге в эмиграцию таможенники Бреста выбросили мой диплом вместе с “Иваном Денисовичем”, чтобы не загрязнять Запад). Больше бахтинской меня окрылила булгаковская поэтика, ключом к которой служило безошибочное сочетание последних трех слов в знаменитой фразе из первой главы “Мастера и Маргариты”:
В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
Три возможных варианта содержат три жанровых потенциала.
1. Аллея была пуста – ничего не значит, звучит нейтрально и требует продолжения, как любая история с криминальным сюжетом или надеждой на него.
2. Была пуста аллея – можно спеть, она могла бы стать зачином душещипательного городского романса.
3. Пуста была аллея – роковая фраза. Приподнятая до иронической многозначительности, она не исключает насмешки над собственной мелодраматичностью. Этакий провинциальный театр, знающий себе истинную цену, но не стесняющийся настаивать на ней. Стиль не Воланда, а Коровьева – мелкого беса, голос которого рассказчик берет на прокат каждый раз, когда ему нужно незаметно высмеять героев.
Но главное, что все это богатство, с которым не справились три английских перевода, досталось нам, как благодать, без труда и даром – по наследству.
Чужой язык кажется логичным, потому что ты учишь его грамматику. Свой – загадка, потому что ты его знаешь, не изучив. Что позволяет и что не позволяет русский язык, определяет цензор, который сторожевым псом сидит в мозгу – все понимает, но сказать не может, тем паче – объяснить.
Чтобы проникнуть в тайну нашего языка, надо прислушаться к тем, кто о ней не догадывается. В моем случае это – выросшие в Америке русские дети. Строго говоря, русский язык – им родной, ибо лет до трех они не догадывались о существовании другого и думали, что Микки-Маус говорит не на английском, а на мышином языке.
Со временем, однако, русский становится чужим. Ведь наш язык не рос вместе с ними. Так, сами того не зная, они оказались инвалидами русской речи. Она в них живет недоразвитым внутренним органом. Недуг этот не только невидим, но даже не слышим, ибо и те, кто говорит без акцента, пользуются ущербным языком, лишенным подтекста. О нем, как о подсознании, узнаешь не всегда, исподволь, обиняками и от противного. На чужом языке мы уже и мельче.
Я, скажем, долго думал, что по-английски нельзя напиться, влюбиться или разойтись, потому что иностранный язык не опирался на фундамент бытийного опыта и сводился к “Have a nice day” из разговорника для тугодумов. Зато на своем языке – каждая фраза, слово, даже звук (“ы!”) окружены плотным контекстом, большую часть которого мы не способны втолковать чужеземцу, поскольку сами воспринимаем сказанное автоматически, впитывая смысл, словно тепло.
Внутреннее чувство языка сродни нравственному закону, который, согласно Канту, гнездится в каждом из нас, но неизвестно где и, показывает история, не обязательно у всех. Язык, как Бог, нематериален, как природа – реален, как тучи – трудноуловим. Скрываясь в межличностном пространстве, язык надо пробовать ртом, чтобы узнать, можно ли так сказать. Первый критерий – свой, последний – словарный. Безропотно подчиняясь одному, я готов воевать с другим, отказываясь, например, говорить “фольга”, чего бы это мне ни стоило.
Репрессивный русский словарь, в отличие от сговорчивого английского, выполняет еще и социальную функцию. В обществе, упразднившем одни и истребившем другие классы, язык стал индикатором сословных различий. Когда обновленные словари обнаружили у “кофе” средний род и разрешили называть его “оно”, маловажная перемена вызвала непропорциональный шок. Умение обращаться с “кофе” считалось пропуском в образованное общество. Но вот шибболет интеллигенции, удобный речевой пароль, позволяющий отличать чужих от своих, – убрали, и язык стал проще, а жизнь сложнее.
Язык, собственно, и не ищет простоты. Навязывая свою необъяснимую волю, он наделяет нас национальным сознанием. Неудивительно, что его охраняют, словно Грановитую палату, в чем я убедился, посетив Москву прошлым маем. Доехав до центра, машина застряла в пробке из-за колонны иерархов с иконами в сопровождении автоматчиков.
– День Кирилла и Мефодия, – объяснил таксист.
Он же, – подумал я, – день рождения Бродского, так что зря ОМОН сторожит русский язык: он принадлежит каждому, кто с ним справится.
32. Просто проза
Читать саги я научился еще первокурсником, на летней практике в балтийских торфяниках, где записывал для истории народные песни, в основном – Эдиты Пьехи. Хутора тогда были колхозами, церкви – без крестов, но местные уважали дубы, знали в лицо каждый валун и сообщали пчелам о смерти хозяина, как повелось с эддических времен в этом тоже северном краю. Днем я слушал, как старухи пели Пьеху, а по вечерам читал про свирепых людей с именами из одних согласных.
Северяне мне казались альтернативой гладкому Югу, который я, еще не знавший даже Крыма, представлял себе по репродукциям в “Огоньке”, предпочитавшем вслед за вождями сладкую болонскую школу. В самой поэтике саг чудилось что-то антисоветское, дерзкое, чужое – и свободное, как я чуть позже понял из Оруэлла.
Свобода, – писал он, – возможна лишь тогда, когда ты готов двинуть босса по физиономии и отправиться на Дикий Запад.
В сущности, я так и поступил, ни разу не пожалев о случившемся.
Тысячу лет назад главным экспортом только что родившейся Исландии стала их литература – скальдические стихи и прозаические саги. Различия между ними – разительные: поэзию надо было изобрести, прозу – не заметить.
Скальд, если я правильно понял Стеблина-Каменского, был рэпером своего века. Войдя в раж, который мы зовем вдохновением, а северяне – священным безумием (по Пушкину – “находит”), он уподоблялся берсерку. Доверившись ритму, размеру и словарю готовых метафор-кённингов, неграмотный скальд не писал, а исполнял скудные содержанием, но богатые формой стихи, как музыку – вроде Армстронга или Айс-Куба.
Стихи, как оперная ария, топчутся на месте, пока не углубят его настолько, что оно утянет в образовавшуюся воронку поэта, иногда вместе с лошадью (такое нередко происходило в вулканической Исландии). Стихи, как заклинания, которыми они, в сущности, и являются, делают ставку на звук и его магию. Ясно, что они не могут не любоваться языком. Прозе он почти не нужен. Во всяком случае, тогда, когда она была антистихами.
Вот этому мы все и завидуем – бесхитростности, безыскусственности, той простоте, которая почему-то никогда не приходит сама, а требует нечеловеческого дара, волшебной удачи и доверия к своему гению, короче говоря – Пушкина. Мериме видел в пушкинской прозе перевод с французского, но не того, на каком писали их современники, а того, каким пользовались писатели мифического прошлого, умевшие и не стеснявшиеся писать просто.
Литература ищет, где глубже и раньше, редко заглядывая в будущее с надеждой, ибо там ее ждет каменный век словесности: “дыр-бур-щил”. Между ним и нами прячется божья мера простоты.
Просто писать трудно. Писать, впрочем, трудно всегда, но сложность дается легче, ибо требует сознательного усилия, жизненного опыта, накопленных знаний, профессионального мастерства, другими словами – наживного. Наматывая определения, сгущая смысл, вкручивая, словно лампочку, юмор, растягивая фразу ложными парадоксами, удваивая смысл каламбурами, украшая фразу тайными рифмами и скрытыми аллитерациями, мы взбиваем текст в прозу, добиваясь от языка примерно того же, что стихи. Но это – поэтическая проза, которая бывает волшебной у Мандельштаа, кинжальной у Бабеля и соблазнительной у Олеши.
Просто проза пишется иначе. Так, как исландские саги, родившиеся от скуки. На 66-м градусе полгода живут почти без солнца, а в темноте и делать нечего, даже выпивать трудно.
Однажды, бурно отмечая Новый год, я попал себе пальцем в глаз, да так, что поцарапал роговицу. Сперва мне хотелось продолжить веселье на ощупь, но выяснилось, что с закрытыми глазами не пьется, и я ушел спать, оставив соучастников догуливать без меня.
В другой раз, прожив неделю без электричества после урагана “Сэнди”, я ощутил внутреннюю связь света с литературой. Каждый вечер, сразу после раннего в ноябре заката, мы с женой читали до одури, деля последнюю свечу. Но тут оказалось, что читать молча сложнее, чем сперва казалось, и мы принялись хвастать понравившимся. Она – стихами, я – прозой, все теми же сагами, которые не могу отложить с тех пор, как мне повезло побывать на их родине, причем когда следует – зимой.
Исландский пейзаж, конечно, и летом не балует, но зимой, когда снег смешивается с дождем, ветром и землетрясением, когда дамы не выходят из дома без водонепроницаемых сапог из тюленьей кожи, а машины не покидают гаража без крайней нужды и аварийного запаса, я чувствовал себя на месте – том, где родилась моя любимая проза. Ее, прозу, можно понять. На краю земли, в одном градусе от полярного круга география не поощряет излишества и признает только существенное: скелет повествования. Не удивительно, что Исландия стала родиной прозы, но не всякой, а просто прозы, которая так прозрачна, что в ней не задерживается ни одна идея. Вместо пейзажа – топонимика, вместо портретов – родословная, вместо рассуждений – пробел, вместо чувств – сарказм, вместо эпилога – конец без вывода. Сплошное вычитание, но оно-то и создает рассказ, как пустота – кружку.
Не пиши о том, что знаешь, учил Хемингуэй, заново открывший айсберги, с которыми исландцы и без того не расставались. Но о том, чего не знаешь, добавит всякий, тем более не пиши.
Молчание – тоже не выход, ибо оно претенциозно и невыносимо. Помолчите полминуты в трубку, и с вами вообще перестанут разговаривать.
Просто проза – золотой коан словесности. И, как каждый коан, решить его можно, лишь сменив позицию: встать так, чтобы оказаться либо до прозы, либо после нее. В первом случае мы попадем в дымный дом скальда, во втором – в темный зал кинотеатра. И в том и в другом царят диалог и действие.
Автора сагам заменял рассказчик, ощущавший себя свидетелем. Чтобы поставить себя в положение его слушателя, я, возвращая долги, меняю Гунаров и Сигурдов на Хэмфри Богарта и Джона Уэйна.
– В 30-е годы, – рассказывал мне исландский филолог, которого я выловил в президентской библиотеке Рейкьявика и не выпускал, пока он не выложил все, что знал, – в Голливуде держали полное собрание саг и безбожно сдирали с них вестерны.
Сходство очевидно: установление равновесия между свободой и справедливостью с помощью правосудия и мести. Саги не знали другого сюжета, бесконечно варьируя этот. Ведь драка, как секс и пьянка, никогда не повторяется и не может надоесть.
Вот тут, в закоулках брутального повествования, и прячется просто проза. Она – в реализме оттенков, дивным образом избегающих повторов, которые утомляют даже в “Илиаде”. У Гомера – описание эпически универсальное, в сагах – предельно конкретное, как опять-таки в сценарии:
Правой рукой он ударил копьем Сигурда в грудь, и копье вышло у того между лопаток. Левой рукой Кари ударил мечом Морда в поясницу и разрубил его до самого хребта. Тот упал ничком и тут же умер. Потом Кари повернулся на пятке, как волчок, к Ламби, сыну Сигурда, и тот не нашел другого выхода, кроме как пуститься наутек.
Кошмар происходящего не смягчает, но оттеняет легкая усмешка рассказчика, именно что тень юмора, которую так любят братья Коэны:
Бьерн сказал, что мог бы уложить столько людей с Побережья, сколько бы захотел. Они ответили, что это, конечно, было бы ужасно.
В Америке это называется шутить с каменным лицом: deadpan. Этикет приисков, объясняет сомнительная, но обаятельная этимология, требовал мыть золото, бесстрастно глядя в миску (pan) старателя, что бы в ней ни оказалось – золотой песок или обыкновенный.
Идеал саги близок тому, что свойствен фронтиру. Героический стоицизм требует не склоняться перед судьбой и не уклоняться от нее, а принимать выпавшее как должное, воплощая, не хуже компаса, союз противоположностей: фатализм со свободой выбора.
Когда делать нечего, говорит сага, делясь сдержанной, как все в ней, мудростью, не делай ничего, кроме обычного.
Из всех людей Халльдора было труднее всего испугать или обрадовать. Узнавал ли он о смертельной опасности или радостной новости, он не становился печальнее или радостнее. Выпадало ему счастье или несчастье, он ел, пил и спал не меньше, чем всегда.
Даже дойдя до сверхъестественного, на Севере не повышают голоса. И правильно делают. Только та фантастика заслуживает право на литературную карьеру, которая рождается из знакомого и неузнаваемого.
В учебнике скальдов, который написал самый известный из них, Снорри Стурулсон, можно найти лучшие образцы такого мышления. Злая кручина наполовину синяя, а наполовину – цвета мяса, – говорит он в одном месте, и Как ни силен ветер, никто не может его увидеть – в другом, а в третьем Снорри описывает, как Тор бесславно борется с дряхлой бабой, оказавшейся на поверку старостью.
Нет ничего проще чуда, если оно свершается всегда и со всеми. На этом принципе работает магический реализм, но только тогда, когда он реализм. Вот почему я бросаю книгу, если ее герой принимается летать без всякой на то причины. Между тем даже у такого бескомпромиссного выдумщика, как Гоголь, она была. В его повести “Вий” нечисть, оторвавшись от пола, мечется по воздуху, чтобы к рассвету окаменеть в церковных окнах и стать готическими химерами вражьих – католических – храмов.
В “Солярисе”, самой величественной выдумке всего жанра научной фантастики, образ инопланетного Океана Лем списал с земного океана, взяв за образец самое поразительное из его свойств: неповторимость волны, как, впрочем, и всей водной архитектуры.
События, происходящие в каждой точке океана-мозга, неповторимы и не сравнимы между собой. Все попытки хоть как-то упорядочить этот познаваемый мир оказываются рисунками на песке, их смывает первая же набежавшая волна.
– Тебя нужно читать дважды и со словарем, – осудил меня отец, навсегда отложив подаренные книги ради московского телевидения с Жириновским, на которого он, впрочем, жаловался не меньше.
Зная за собой этот грех, я пишу все проще и проще, но потом все простое выбрасываю. Ведь писать просто еще не значит просто писать. Нельзя путать речитатив с разговором, белые стихи с никакими и умышленную пустоту с чистой страницей.
Простота, как невинность, разового употребления. Все, что будет потом, ею только прикидывается и возникает на месте преодоленной сложности. Но я, даже понимая, что выбрасываю не то, что следовало бы, ничего не могу с собой поделать. Проза, которая исчерпывается сюжетом, кажется мне не простой, а простодушной – как коврики с лебедями, которые я застал на рижском промтоварном рынке. Еще не живопись, но уже не фольклор, они удовлетворяли тягу к прекрасному извращенным способом – не поднимая, а опуская до себя зрителя.
Я, впрочем, понимаю, что художникам тоже не просто. Те, кто умеет писать картины, а не издеваться над ними, чувствуют себя анахронизмом. Мне встретились такие живописцы в знаменитом Барбизоне. Они упорно множили буро-зеленые ландшафты так же просто, как это делали пять поколений их предшественников. Впав как в ересь, в неслыханную простоту, новые барбизонцы, подобно всем сектантам, считали себя мучениками, а остальных – отступниками. Судьба их была незавидна, настойчивость – бесспорна, и я, забывая все, что только что написал, иногда завидую тому художнику, который, стиснув зубы, пишет, как раньше, ибо твердо верит, что еще не исчерпаны все варианты красного с синим.
33. Катай
Чтобы провести отпуск в Китае, я вовсе не должен его навещать. Напротив, он мне скорее мешает. Когда я туда все-таки выбрался, то не нашел в новом Китае ничего от того чудного края, который Марко Поло называл “Катай”. Вольтер считал, что этой страной правят философы. Я верю, что только они там и жили, и отправляюсь в Катай каждый раз, когда тает Ци, забывается Ли и в тумане будней теряется кривая тропа, которую я самоуверенно зову “Дао” в счастливые дни и на которую мечтаю вернуться в остальные.
Но так было не всегда – раньше я больше старался. Сперва я прочел всех китайцев, до которых мог добраться. Потом – все, что про них писали, включая пыльные монографии сталинской эпохи, за которые даже книгопродавцы стеснялись брать деньги. Не удовлетворившись найденным, я отдался главному искусству китайцев – каллиграфии. Не жалея сил (своих и наставника) учился тереть тушь, держать за хвост кисть и сносно подписываться двумя иероглифами, звучавшими как Са-Ша и означавшими Уравновешенного Мужа, каким я никогда не был, но надеялся стать. Поняв, что одной жизни мне не хватит, чтобы овладеть китайским, я стал переводить Лао-цзы с доступных языков на персональный.
Мало того, я пытался жить согласно тому, что получалось. Навещал горный монастырь, где вставал в четыре, ел соевые сосиски и слушал проповеди настоятеля (бывшего морского пехотинца). Учась одиночеству, ходил по следам зверей в заснеженных горах. В качестве примера для подражания купил гипсового будду и мыл его в день рождения, который в Америке считают победой, – 8 мая. Кроме того, я завел кафтан с драконом, мерил сутки часами ян и инь, всегда помнил про компас и мог сказать: “По северной части моего носа ползет муха”. Как Конфуций, не ел ничего без имбиря. Заваривал чай в талой воде, пытаясь различить шестнадцать стадий кипения. Сверялся с лунным календарем. Гадал по “И-цзин”, жег благовония, купил у тибетцев мандалу, приставал с расспросами к официантам Чайна-тауна. С похмелья растирался инеем.
Но главное – очищая сознание, долгими предрассветными часами сидел в углу на складной, привезенной из монастыря скамеечке, уставившись в стену. Так продолжалось до тех пор, пока я не прочел у наставника одного из патриархов чань, что медитация приведет к просветлению не раньше, чем мы сумеем изготовить зеркало, искрошив кирпич. Ошеломленный, будто мудрец огрел меня этим кирпичом, я сунулся к Пахомову за советом и получил брезгливую реплику.
– Твои полоумные мудрецы, – сказал Пахомов, который в своих духовных поисках не забредал на Восток дальше Квинса, – жили в Дао, а ты, как все неофиты, к нему роешь подкоп.
“Пахомов прав”, – с ужасом думал я, замечая, что чем больше я знаю про Китай, тем меньше он мне нравится. Одно дело – уточненные, как Уайльд, литерати, рассматривавшие старую бронзу в лунном свете, а свитки – при первом снеге. И совсем другое – обычай поедать печень и сердце врагов, особенно если учесть, что каннибальская традиция не прерывалась с золотой танской эпохи до красной культурной революции.
Стремясь познать всё, я выучил слишком много и уподобился простаку, над которым смеялся Чжуан-Цзе:
Глядеть на небо через трубочку и целиться шилом в землю. Какая мелочность!
Так я выяснил, что для моих целей не годится чересчур пристальный подход. Если углубиться во Французскую революцию, разлюбишь Париж и паштеты, если в русскую – разонравится Блок и квас. Мне не нужен был весь Китай, только его квинтэссенция, которую я хотел скачать в себя, словно программу в компьютер, способную сделать его эффективнее,а меня – счастливее.
Китай, однако, слишком большой, чтобы сказать о нем нечто универсальное, кроме того, что там все едят палочками. Для начала, впрочем, и это годилось. Во-первых – не руками, как это делали европейцы до xv века, а американцы – до сегодняшнего дня. Столовые приборы, по Лотману, замедляют процесс и порождают манеры, что, собственно, и есть цивилизация. Во-вторых – без ножа: все уже измельчено, а значит, смешано, причем так, чтобы из одного получилось другое. Это называется кулинарией, фармакологией, натурфилософией, но никак не барбекю.
Освоив палочки, я сделал следующий шаг, придумав себе русский китайский язык на манер Эзры Паунда, писавшего на китайском по-английски. Собравший себе поэтику из ошибочно-го, перепутанного и просто навранного Китая, Паунд искал оправдание невежеству в том, что эксперты – не творцы, а творцы – не эксперты. И в самом деле, знать слишком много так же рискованно, как не знать вовсе. Плодотворна лишь мера, говорили греки, а китайцы показывали, как ее достичь.
Какая, в самом деле, мера свойственна Прометею, Ахиллу, Эдипу? Эллинские герои оттого и герои, что учили других на своих ошибках, китайские объясняли, как их избежать. Что тоже не просто: удержаться труднее, чем броситься, упасть легче, чем стоять, и попробуй не вмешиваться в дела жены, детей или, не дай бог, тещи.
Мудрецы отличаются тем, от чего они воздерживаются, говорили китайцы и не торопились распечатывать письма, позволяя плохим вестям выветриться, а хорошим настояться.
Это так очевидно, что кажется, будто на китайца выучиться легче, чем на буддиста. Сам я в этом убедился, застряв уже на третьей главе палийского канона:
Трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую и с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник стрелу.
Если бы я так умел, то мог бы остановить колесо сансары, хотя с таким умом мне и в нем было б не страшно вертеться. Но какая тут стрела, когда мысли скачут блохами, не позволяя от себя избавиться.
И не надо, говорят мне китайцы, пусть скачут, лишь бы не с тобой. Мудрец – не то, что он о себе думает, и остается собой, когда ни о чем не думает, да и не делает, соблюдая, однако, и тут меру:
Если человек добивается спокойной жизни только ленью и бездельем, то он непременно окажется в опасности.
В поисках выхода Конфуций звал к действию без цели, чем напоминал Канта, считавшего безнравственным получать удовольствие от содеянного. Лао-цзы учил бездействию, упраздняющему необходимость в цели. Она достигается сама собой, как только мы перестаем помогать весне и тянуть ростки из грядки.
Не меньше Обломова меня соблазнял принцип “у-вэй”, но я не понимал, как недеяние позволит выжить. Ведь тому, кто держит на своем столе тушечницу, – говорит средневековый критик Лю Се, – думать приходится каждый день. В итоге дух из них вытекает, как вода из озера.
– Возможно, – спрашивал я себя, не найдя никого другого, – литературная форма недеяния есть недоделанное?
Стремясь к совершенству, китайцы ему не доверяли и знали, где остановиться. Они, в отличие, скажем, от Бродского, не были фетишистами языка. Вместо точных слов, настаивающих на своей красоте и ясности, китайцы предпочли туманный язык, бывший кошмаром раннего Витгенштейна и утешением позднего.
Не доверяя речи, мудрецы предпочитали учить молча:
Говорит ли что-нибудь Небо, – спрашивал Конфуций, – но чередуются в году сезоны.
Вынужденная к общению китайская мудрость ничего не скажет в лоб. Избегая загонять собеседника в угол, где он потеряет лицо, она оглашает истину в безличной форме и снабжает вопросительным знаком (если бы он был в старом китайской письме). Пользуясь словами, как дорожными знаками, автор выражал себя в сомнительном для философии и непригодном для диалога жанре афоризма, заменяющем наскок намеком. Лучшая китайская литература – неизящная словесность. Презирая украшения, не говоря о сюжете, она проста, пресна и бездонна, ибо ведет туда, где кончаются и речь, и мысль.
Отсюда суггестивность, недоговоренность всего китайского, включая костоломные боевики, где, как показал Энг Ли в своей притче о Змее и Драконе, брачные игры заменяет убийственный поединок, представляющийся героям менее опасным, чем объяснение в любви.
Но почему я так страстно хотел быть китайцем? Тому есть лишь одно рациональное объяснение, и оно находит причину в том, что я им был в прошлом рождении. К сожалению, не то что мне, даже китайцам не удавалось поверить в реинкарнацию, упразднявшую культ предков. (Если твоим рождением управляет карма, а не папа с мамой, то родителей незачем чтить.) Дело в другом.
Китайцы, скажу честно, обещали мне альтернативу той реальности, которую я знал, взамен той, которую мне обещали верующие и отвергали атеисты.
Китай, признаюсь не без смущения, казался мне мягким паллиативом религии, позволяющим примерить другую, но не потустороннюю жизнь и избавляющим от необходимости в нее верить, потому что она и впрямь была другой, если прищуриться, не присматриваться и ограничиться мастерами. Их ученики упражнялись в мудрости с тем же рвением, с которым по другую сторону глобуса ходили в церковь. Но и философия китайцев была не такой, как наша.
Западная мысль произошла от брака “что” и “почему”. На первый вопрос отвечает законная философия, на второй – прихотливая. Китайцев интересовал третий, исключительно практический вопрос, не связанный ни с происхождением вещей, ни с их будущим. Они всегда отвечали на вопрос “как”, но так, что одну философию нельзя перевести в другую. Чтобы понять Запад, китайцы писали про Дао Канта и Дэ Гегеля. Чтобы понять Восток, мы пишем про Дао Вини-Пуха и Дэ Пятачка.
Подобно последним, я, еще не зная Китая, полюбил его, но так и не нашел к нему дороги.
Подобно кругу, который учится у квадрата, – подвел резюме моему опыту один мудрец, – чем больше знаний он получает, тем быстрее утрачивает свою природу.
Кланяясь налево и направо, – развил его мысль другой философ, – мы стараемся угодить другим, вслушиваемся в мнения света и боимся обнаружить собственные пристрастия. Мы не можем хотя бы час прожить как хотим. Чем же мы отличаемся от преступников, закованных в цепи?
Убедившись, что подражать китайцам можно лишь забыв о них, я вернулся восвояси. Катай стал курортом души, точнее – ее дачей, так как ни один китайский философ не плавал по морям, не желая удаляться далеко от дома. Непоседливая западная мысль перевернула доску: смысл философии, говорят умники, в том, чтобы всюду быть дома.
Но я не философ и дом ищу там, где привык: в библиотеке – своей, чужой, воображаемой и приснившейся, как это случилось с одной, имени Вилиса Лациса. Все ушли, снилось мне в детстве, а меня забыли, и до утра – она моя. Сон прерывался на самом интересном месте, и до сих пор мечтаю узнать, что же я там прочел. Наяву я не больше философ, чем во сне, поэтому и дом мой не везде, а только там, где я его себе соорудил. Из книг, конечно, а из чего же еще?! Нет материала прочнее. Ведь и тогда, когда его разрушает слабеющая память, развалины книг украшают ментальный пейзаж, как искусственные руины – романтический сад.
34. Крестины
Евгений Онегин
Герой нашего времени
Вечера на хуторе близ Диканьки
Мертвые души
Отцы и дети
Новь
Обломов
Обыкновенная история
Братья Карамазовы
Бесы
Война и мир
Воскресение
Вишневый сад
Чайка
Белая гвардия
Мастер и Маргарита
Золотой теленок
12 стульев
Прогулки с Пушкиным
В тени Гоголя
Выписав десять пар первых пришедших в голову названий, я навскидку, не задумываясь, разделил их на две колонки. В первую попали те, что бесспорно нравятся. Во вторую те, что подспудно раздражают, если, конечно, оценивать их без вполне заслуженного благоговения. Интересно – почему, но любовь с первого взгляда объяснить куда труднее, чем неприязнь – даже со второго. Умберто Эко, взявшийся рассказать читателям, что значит “Имя розы”, признался, что ничего.
– Так и должно быть, – сказал он, – ибо хороший роман не выдает свои секреты и называется именем героя, ничего заранее не говорящего читателю.
Это, конечно, неправда, потому что литературное имя, в отличие от настоящего, не бывает немым или нейтральным. Оно либо говорит, либо проговаривается, либо умалчивает. Поэтому так трудно придумать честный псевдоним. Горький – приговор, Бедный – вранье, Северянин – пирожное, Лимонов – дар Бахчаняна. Но когда имя стало заголовком, оно служит заявкой о намерениях автора и его, автора, характеристикой.
Само название “Евгений Онегин” – стихи с виртуозной внутренней рифмой и такой аллитерацией, которую можно тянуть, как все назальные. Я слышал, как это делал то ли великий, то ли безумный авангардист Генрих Худяков, читая свой поэтический шедевр: “Женнннннщинннннам на корабле”.
Выдавая свое происхождение от поэта, Евгений Онегин стал эпонимом романа в стихах, для прозаического – гениальное название “Обломов”. Три “О” в имени героя не только рисуют его округлый портрет, но и декларируют плавность жизни, мягко вписанной в круговорот природы и не терпящей насилия любви и дела. Обломов уже звукописью своей фамилии спорит с педагогическими претензиями антагониста, у которого имя короче выстрела —Штольц. Нащупав губами тайну “О”, Гончаров с ней никогда не расставался. Но если “Обыкновенная история” – чересчур обыкновенная, то “Обрыв” – просто слишком.
В “Братьях Карамазовых” больше философии, чем фонетики, которая называет троекратное тюркское “а” сингармонизмом гласных, выдающим азиатское – татарское – наследие самой знаменитой русской семьи. Важнее, что, сложив все свои романы в один главный, Достоевский широко раскинул сеть, напомнив, что все – братья. Ладно бы Дмитрий, Иван и Алеша, но ведь и Смердяков, без которого “народ неполный”.
После имен собственных лучше всего работает союз “и”, особенно если учесть, какой он короткий и как много на себя взвалил, включая прямо противоположное. У Тургенева “отцы” противопоставляются “детям” (хотя еще не известно, кто хуже), а у Толстого “война” объединятся с “миром”, образуя общую ткань эпоса, принципиально не отличающего истории от биографии.
География тоже удачна. Так, введя в русскую литературу диковинную украинскую Диканьку (вместо списанного известно у кого Ганца Кюхельгартена), Гоголь разом присоединил к нашей словесности целый край, который служил ей не хуже, чем Прованс – Франции. Ненавистный Набокову (за что я люблю его еще меньше) суржик Гоголя перекрыл дорогу пушкинской гладкописи. После “солнца русской поэзии” наступила пора вечерней прозы. Кончилась она в “Вишневом саду”, который хорош уже тем, что его вырубили.
– Трагедия, – говорил Бродский, – когда умирает не герой, а хор.
У Чехова погибает даже место действия, ставшее названием последнего шедевра отечественной классики.
Среди любимых книг следующего века хорошо называются те, что с прилагательными. “Белая гвардия” – действительно белая, потому что в снегу. “Золотой теленок” – редкий случай успешно вынесенной в заглавие шутки. Назвав тельца теленком, авторы понизили кумира в идола, бога – в божка, статую – в ювелирку из обесцененного революцией драгметалла. Другими словами: “не в деньгах счастье”. И я могу представить старого Льва Толстого, назвавшего бы именно так свой опус, потому что ему принадлежит пьеса с невыносимым названием “Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть”.
С Синявским – другая история. Вызвавшая бешенство (я помню рецензию Романа Гуля в эмигрантском “Новом журнале” – “Прогулки хама с Пушкиным”) лучшая книга Абрама Терца превратила название в жанр, да еще такой, какому я всю жизнь завидую.
К тем названиям, которые мне не нравятся, одна претензия – претенциозность. Страдая от недостатка сдержанности, они все обещают больше, чем прилично, хотя и дают больше, чем обещают.
В моих глазах это не извиняет “Героя нашего времени”, напоминающего название не книги Лермонтова, а статьи Белинского о ней. “Мертвые души” слишком хвастаются глубокой двусмысленностью. Что такое “Новь”, я вообще не знаю, про ненужную иронию Гончарова я уже говорил, а “Бесы” разоблачают героев до того, как мы с ними познакомились, что напоминает художника, подписывающего рисунок кошки “Кошка”, чтобы мы не перепутали. “Воскресение” – метафорично, “Чайка” – тоже. “Мастер и Маргарита” – вымученное название, которое оказалось на месте того, что так и не придумалось. “В тени Гоголя” – название никакое, а “12 стульев” честно говорит о 12 стульях. Что напоминает фильм “Змея на самолете”, содержание которого полностью исчерпывалось названием, чего, конечно, ни в коем случае нельзя сказать о гениальном романе Ильфа и Петрова.
Ведь как бы я ни относился к названиям великих книг, ничто не мешает мне нежно любить сами книги, которые далеко не всегда отвечают за то, что написано на обложке.
В пятом классе я получил двойку за то, что написал в сочинении “Капитанская дочь” вместо “Капитанская дочка”. Это был первый и, честно говоря, последний урок чтения, который я вынес из школы. Он состоял в уважении к звуку, который диктует свою волю названию и позволяет проверять его на физическую, а не только семантическую полноценность. Убрав слог, я зарезал строчку, лишив ее протяжности, благозвучия и женской рифмы. Одно дело “дочка – почка”, другое – “дочь – невмочь”.
Хороший заголовок вкусно произносить и легко запомнить. Не обращая на это внимания, та же школа любила синтаксические обрубки, задавая тему сочинения таким, например, образом: “Делать жизнь с кого”. Эти синтаксические инвалиды напоминали названия концертов входившей тогда в силу Зыкиной (“Лишь ты смогла, моя Россия”) и росли из того же корня, взятого в кавычки.
Избавляясь от цитатной придури, мое ироничное и романтичное поколение полюбило заголовки, которые значат что угодно, но никто не знает, что именно. Например – “Бутылка в перчатке”, которым оперировали авторы, писавшие “взгляд и нечто” в той молодежной газете, где мне довелось дебютировать.
Хорошо знакомый со стилистикой комсомольской сумасшедшинки Довлатов уверял, что все книги его печатавшихся сверстников называются одинаково: “Караван уходит в небо”.
Сергей слегка преувеличивал, ибо первую же книгу его земляка, товарища и соперника Валерия Попова я полюбил до того, как открыл, за дерзкое название: “Южнее, чем прежде”. Запятая в заголовке делает его не только предложением, но и сюжетом, вытянувшимся по временной оси из прошлого в настоящее и, возможно, в будущее. Автор обещает еще не открывшему книгу читателю путешествие туда, где ни тот, ни другой пока не были. Собственно, только такие книги стоит писать, да и читать. Не удивительно, что я купился, о чем за полвека ни разу не пожалел.
Но превосходное работает однажды, а хорошее всегда. Поэтому сам я боюсь в заголовке шутить, избегаю каламбуров и доверяю простому, суеверно надеясь, что многозначительность, как у акмеистов, появится сама, а если нет, то туда ей и дорога. Простота, однако, тоже чревата осложнениями.
– Если рассказ о море, – советовал Чехов, – то назовите “Море”.
Как будто бы он сам не знал, что рассказов о море не бывает. Они пишутся черт-те о чем, что нельзя свести ни к одному, ни к двум, ни к трем словам, если это не все та же “Змея на самолете”. У всякого названия есть двойное дно, о котором и сам автор часто не догадывается. Мне, например, не приходило в голову то, что заметил Михаил Эпштейн:
– Вам, – сказал он, начитавшись моих опусов, – нравятся трехсложные заголовки: “Хо-ро-вод”, “Три-ко-таж”, “Фан-ти-ки”, “Ко-ло-бок”.
Последний, впрочем, появился вполне осознанно, когда я искал перевода американскому fast food’у. Быстрее него в русской кухне ничего не было: “Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, лиса, и подавно убегу”. Приняв окончательное решение, я понес книгу в издательство. Меня ждала строгая дама с седой косой. Перед ней лежал манускрипт толщиной в два кирпича. На первой странице чернел могучий заголовок: “Кант”.
– “Колобок”, – робко представил я свою тощую рукопись.
– Тоже красиво, – сказала дама и оттаяла.
Крестить книгу труднее, чем человека. Про младенца мы ничего не знаем, имя берем напрокат и результат не подлежит критике, если это не Даздраперма, получившаяся из лозунга “Да здравствует Первое мая”, как рассказывал все тот же неугомонный Вагрич Бахчанян.
Сам он так лихо сочинял названия, что они никому не шли впрок. Когда Довлатов опубликовал сборник рассказов “Компромисс”, Вагрич предложил выпустить второй том: “Компромиссис”. Сергей пришел в восторг, но использовать не стал, оставив находку в “Записной книжке”. Его можно понять: название не должно конкурировать с содержанием, а тем более затмевать его. Но мне все равно жаль, что не явился на свет придуманный Вагричем еще в семидесятых гомосексуальный орган “Гей, славяне”, так же, как православный “Прости, Господи”. Тогда было рано, теперь поздно, и всегда обидно.
Убедившись, что авторы, как он ни настаивал, не хотят писать книги под его названия, Вагрич пошел другим путем. Он соорудил целую библиотеку из самодельных книг, чье содержание исчерпывалось названиями: “Тихий Дон-Кихот”, “Пиковая дама с собачкой”, “Сын Полкан”, “Витязь в тигровой шкуре неубитого медведя” и – моя любимая – “Женитьба бальзамированного”. С тех пор как Вагрич умер, мне всё чудится, что где-то – в эфире, ноосфере, на том свете – каждый холостой заголовок встретит еще не названную книгу, чтобы жить счастливо и не умереть в один день.
35. Конец
Каждый, кто мечтает быть писателем, и уж точно всякий, кто им стал, знает, что Хемингуэй тридцать девять раз переписывал последние слова романа “Прощай, оружие”.
– Не тридцать девять, а сорок семь, – поправил легенду внук писателя, сверившись с черновиками, только ознакомившись с которыми, мы сможем войти в положение писателя, в абзаце от финиша не знавшего, чем все кончится.
Сперва он хотел поставить точку так, чтобы она не оставляла сомнений в том, что она точка.
Концовка № 1: Кэтрин умерла, и вы умрете, и я умру, и это все, что я могу вам обещать. Назидательно и плоско: а то мы не знали.
№ 7 еще хуже: Кроме смерти, нет конца, и рождение – только (ее, смерти? – А.Г.) начало. Многозначительно, неясно и банально сразу. Такие фразы легко вычеркивать, ибо они ничего не добавляют, но всё портят.
Отчаявшись, Хемингуэй обратился за помощью к единственному достойному сопернику Скотту Фицджеральду, и тот ответил: Мир ломает всех и убивает тех, кто не сломался. Один писатель поделился с другим тем, что самому не жалко. Фитцджеральд первым научился писать выпукло, как в кино, но он, как это случалось с тогда еще недоразвитой американской словесностью, страдал комплексом неполноценности и боялся, что его примут за малограмотного. Поэтому свой – да и вообще американский – лучший роман “Великий Гэтсби” Фицджеральд сначала назвал “Пир Тримальхиона”, надеясь этим всем показать, что и он читал Петрония.
Решив испробовать вариант коллеги, Хемингуэй написал концовку № 34: Не разбираясь, мир убивает и лучших, и нежных, и смелых. Если вы не из них, то будьте уверены, что он убьет и вас, только без особой спешки.
Читая такое, стоит вспомнить, что нашу любимую “Фиесту” сам автор назвал цитатой из Экклезиаста “И восходит солнце”. Здесь – тот же посыл. Хемингуэй пытался придать личной трагедии надличный смысл, вписав ее в библейскую традицию. Мол, ничего нового, и суета сует. Вышло, однако, нелепо: ошибка, притворяющаяся трюизмом. В самом деле, разве худшие всегда живут дольше лучших? Вряд ли именно это хотел сказать автор.
Перебирая отброшенные версии, нельзя не заметить главного: концовка противоречит роману и не принадлежит ему. Вместо героя мы слышим автора, а это уничтожает условность повествования. Если последнюю фразу написал вышедший из рамы создатель книги, то значит всё предыдущее – вымысел, художественный свист, Кэтрин умерла понарошку, и мы зря лили слезы.
С другой стороны, Хемингуэй понимал, что, назвав роман “Прощай, оружие”, он обязан свести конец с началом и вывести книгу за пределы сюжета, не покидая его. Вот почему, решая эту невозможную задачу, он не мог закончить так, как это делали прежние романы, завершавшиеся либо свадьбой, либо похоронами. У Хемингуэя смерть героини исчерпывала фабулу, но не сюжет. Концовка должна была сразу скрыть и показать подводную часть айсберга. Как? Вот так:
Это было все равно что прощаться со статуей. Чуть погодя, я вышел и, оставив больницу, вернулся под дождем в отель.
Начавшийся в первой главе дождь нашел героя в последней. Вечный, как в Библии – или Макондо, – он создает тот эффект безнадежности, который так долго искал автор: все повторяется, и смерть не нова. Но безошибочным финал делает сравнение. Мертвая Кэтрин, показывает автор одним словом, – не труп, а статуя. Вместе с жизнью исчезло все, кем она была. Статуя – не воплощенная память, а ее чучело: фальшивое и лицемерное, как те бесчисленные памятники, которыми закончилась великая и бессмысленная война. Утопив в горе тайный пафос книги, Хемингуэй сумел объяснить ее название. Ведь “Прощай, оружие” – первый роман, не только осуждающий войну, но и оправдывающий дезертира.
Литература – школа выбора. Особенно – проза. Поэту еще помогает язык, направляющий речь уздой рифм и размера, но прозаик обречен трудиться в плену мнимой свободы. Спасаясь от нее, Хемингуэй знал, что лишь те слова становятся прозой, которые не кажутся ею. И еще: из всех слов труднее всего найти последние.
Моя бабушка плакала, когда фильм не кончался свадьбой героев или их смертью. В последнем случае она, конечно, тоже плакала, но это были счастливые слезы, ибо все шло своим путем, а конец у всех один, и свадьба – счастливая веха по пути к нему.
Теперь я ее понимаю лучше, чем раньше, потому что мне тоже надоел открытый финал, который выглядел дерзким у Чарли Чаплина и оказался запасным выходом для тех, кто, не придумав, чем все кончится, перекладывает бревно замысла на чужие плечи. Справедливо считая субботник жульничеством, бабушка шла за Аристотелем, педантично настаивавшим на том, что у всего должны быть начало, середина и конец.
– Но не обязательно в таком порядке, – добавил Годар и показал Тарантино в “Бульварном чтиве”.
Книги тоже умеют кончаться задолго до последней страницы, как это случилось с одной из лучших. Конец Анны Карениной не совпадает с концом “Анны Карениной”. Но ее смерть так убедительна, что растянувшийся на всю восьмую часть финал не смог переубедить нас или испортить книгу. Вот так Гарсия Маркес, поняв, что написал шедевр, не побоялся вставлять в последние главы “Ста лет одиночества” персонажей с фамилиями своих благородных кредиторов – мясников, пекарей и бакалейщиков.
Толстовский роман с знаменитым началом кончается таким же финалом. И те, кто не читал, знают, что Анна погибла под поездом. Не утопилась, скажем, как бедная Лиза, а доверила смерть железной дороге, что по тем временам, наверное, было так же оригинально, как сегодня отравиться полонием.
Толстой выбрал поезд за его свежие метафорические возможности. Судьба Анны как паровоз тянет за собой вагоны причинно-следственной связи с Вронским. Не в силах сойти с рельсов, она выходит из поезда лишь для того, чтобы под него броситься.
Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи, и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона… И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она, вжав в плечи голову, упала под вагон… хотела подняться, откинуться, но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину.
Схватка с поездом оказалась неравной. Он железный, она – нет, он мертвый, она – живая, у него нет свободы выбора, у нее есть, и она распорядилась ею так, чтобы замкнуть смертью цепь несчастий, обещанных первой фразой романа.
Услышав русский акцент, американцы до сих пор спрашивают, не откуда я приехал, а – зачем. И сами же подсказывают: “За свободой”.
Спорить не приходится, хотя треть века назад я, как, впрочем, и сейчас, плохо понимал, что это значит. Больше абстрактной свободы меня волновала конкретная правда – обо всем, что от нас скрывали. Я хотел узнать подлинную политику, изучить настоящую историю, посмотреть стоящие фильмы, попробовать кухню, из которой на родине вычеркнули почти все, что ели в романах. Но самым острым для меня был вопрос, ради ответа на который я пошел на филфак, где так и не нашел его.
– Что делает хорошие книги хорошими, – спрашивал я себя и кого попадется, – а лучшие – гениальными?
Не удивительно, что среди первых купленных в Нью-Йорке книг (задолго до “Правил вождения автомобиля”) оказалась стандартная для западных, но не наших студентов “Теория литературы”. Как ни странно, эта ученая книга ответила на мой вопрос быстро, без сомнений, лапидарно, уверенно и в рамке:
INTENSITY + INTEGRITY.