По понятиям Лютого Корецкий Данил
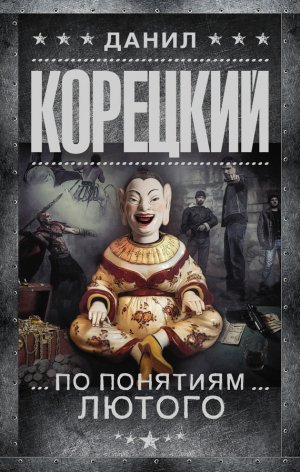
Жил Канюкин неподалеку, в двухкомнатной квартире со всеми удобствами. Лобова поразил замок на входной двери – массивный, как в банковском сейфе, с тремя толстыми, блестящими от масла ригелями. Канюкин, сразу видно, их смазывал, ухаживал. За такой дверью должны находиться сокровища, большие суммы денег или, на худой конец, телевизор марки «Рубин». Телевизора здесь, правда, не было, сокровищ, по-видимому, тоже, но укомплектована квартирка была внушительно. Хрустальная люстра, паркет, модный сервант с крутыми стеклянными бокалами, целая гвардия фарфоровых пастушков и слоников, а на стенах висели расписные тарелки с мельницами, альпийскими видами и прочей дребеденью… Лобов был однажды в гостях у Руткова («моя пещера», как тот сам говорил) и, честно говоря, жилье советского милиционера представлял себе несколько иначе. Он-то уже смирился, что, получив когда-нибудь капитанские погоны, будет жить в коммуналке с общей кухней и соседом-алкоголиком, топить торфом печь-голландку, а туалет будет один на всю лестничную площадку. Ну, а тут – эта самая Унтер-ден-Линден, только шампанского не хватает.
– …У фрица того снарядом башню заклинило, стрелка контузило, видно, лупит в белый свет, как в копеечку, сам не знает куда. А Федьке Лукашу из-за сараев его не видно, выскочил на полном газу и как раз левую бочину ему подставил. Помнишь Федьку? В соседней палате лежал, ну?
– Белобрысый такой, – сказал Канюкин не совсем уверенно. – С заячьей губой…
– Не. Федька рыжий… Не важно. Я его, блин, как закрою глаза… Ух. Так и стоит передо мной. Он ведь тоже до Берлина дошел, представляешь? Латаный весь перелатаный, комиссовать его хотели, а все-таки добился своего, с другим полком через всю Европу пёр. Мы ж пили там вместе, кажись. Не помнишь, что ли? Ты нам еще окорок копченый приволок из генеральского пайка!
– Да вспомнил, вспомнил. За окорочок тот мне хорошо влетело… Получил по лбу щелчок за генеральский окорочок!
Канюкин с удовольствием посмеялся над своей шуткой, потом твердой рукой разделил холодец, разложил по тарелкам, наполнил стаканы.
– Я, конечно, в танке не горел. Но согласись, интендантским тоже ведь несладко приходилось. Я, вон, с контузией угодил… Всюду, понимаешь, успей, и все равно недовольны!
– Для пули, Петро, все одинаково, что танкист, что интендант. Давай за тебя, что ли.
Стажёру Лобову наливали наравне со всеми. Уже после второго тоста он почувствовал себя гораздо увереннее. Встал, прошелся по гостиной, заложив руки за спину. Эркюль Пуаро говорил, что узнать человека можно, просто взглянув на корешки книг в его библиотеке. Но у Канюкина не было ни одной книги. Лобову пришлось изучать фарфоровых пастушков и расписные тарелки на стене. На одной из таких тарелок Лобов обнаружил любопытную сценку с усатым хлыщом в коротких тирольских штанах и дородной фермершей, хм… с обнаженной грудью. Грудь была похожа на два розовых воздушных шара, и хлыщ явно намеревался выпустить их в свободный полет.
– Это саксонский фарфор? – спросил Лобов с видом знатока.
Хозяин обернулся.
– Чего? А, это. Да фиг его знает. Мне все равно нравится, хоть саксонский он, хоть нижнетагильский…
– Вы коллекционируете?
Канюкин рассмеялся, посмотрел на Руткова.
– Да как тебе сказать… Это мне по случаю досталось. Знойная барышня, правда?
– Вполне, – солидно ответил Лобов.
– Да, кстати, Петро, а Любочку Степанову помнишь? – спросил капитан Рутков. – Как это там… Любочка – короткая юбочка, а? Где она сейчас?
Вместо ответа Канюкин сладострастно, по-кошачьи, зажмурился, оскалил зубы и изобразил руками и плечами что-то такое, танцевальное. Но вслух только сказал:
– Тш-ш, моя услышит – всю рожу расхерачит… Давай еще по одной. За наших, кто не вернулся…
Жену Канюкина Лобов даже не рассмотрел толком. Сдобная, симпатичная, чем-то напоминавшая бело-розовый зефир, она мелькнула как тень, молниеносно накрыла на стол, будто сдавала норматив на время, а потом ушла ужинать на кухню. «Не буду вам мешать. Приятного аппетита». Как эта женщина будет «херачить» рожу Канюкина, Лобов представлял себе с трудом. Зато легко представил, как она сидит в кухне одна и ест картошку с котлетой. Смотрит в стену. Одна. Молча. Словно какая-нибудь наложница или заложница. А они тут водку пьют, разговоры разговаривают, им весело. Странно. Но, в общем, может, так оно и надо? Вот женится – узнает…
Рутков с Канюкиным долго вспоминали войну. Собьются на что-то другое, на футбол или на цены на продукты, а потом опять про войну. Все никак не могли наговориться. Сразу видно, это очень больная для них тема. Особенно для Канюкина. Лобов не понял толком, что там произошло, но, похоже, Канюкина в самом конце войны хотели отправить за что-то в штрафбат. Чуть не отправили. За какую-то провинность. А он ничего такого не делал. Взял какую-то вещь на каминной полке. Это ведь фрицы, как ты не понимаешь? Да и вранье все это! Враньё!
Рутков с этой темы решил, видимо, свернуть, стал расспрашивать про теперешнее житье-бытье.
– Была бы зарплата, – коротко резюмировал Канюкин, махнув рукой. – Было б житьё у Емели. А без зарплаты – его через ж… имели!
Он оглянулся на Лобова, опять открыл рот и опять рассмеялся. Это шутка, понял Лобов (несмотря на выпитое). Именно шутка. Поскольку, судя по обстановке, с зарплатой у Канюкина полный порядок.
– Да у всех у нас примерно одно и то же, – сказал Рутков. – Висяки, рапорты-отчеты. Шьешь-перешиваешь, топчешь ногами, мозгами скрипишь, конца-краю не видно. Здесь что Ленинград, что Ростов – один фиг.
– Ну, не скажи, в Ленинграде хотя бы народ поинтеллигентней…
– Ага, в портовых районах особенно.
– Порт и у нас есть, а вот Эрмитажа, понимаешь, нет.
– Эрмитаж – это, Петро, вообще особый случай. Мы ведь здесь как раз по «эрмитажным» делам. – Рутков пошевелился, закряхтел. – Свинтили оттуда перстень какой-то, особой ценности, прикинь. Грохнули сторожа. А потом у воров, похоже, промеж собой непонятки начались, и в результате – еще два трупа. Вот тебе и интеллигенция, Петро, вот и Эрмитаж… Один перстенек – и три трупа.
– Дела, – покачал головой Канюкин. – А при чем здесь мы, при чем Ростов?
– Да вот стукнули нам, что на заказ этот выезжал именно ростовский спец. Источник как бы надежный… Слыхал что-нибудь про ваших спецов по «рыжухе», по антикварке, по музеям?
– Хм, – сказал Канюкин.
Скривил губы, наморщил лоб. Посмотрел в потолок. Лобов подумал, что сейчас шутник Канюкин опять заржет, как это у него принято. Но, к счастью, ошибся.
– Сейчас вспомню, секунд… Ага. Вспомнил. Короче, есть у нас один фигурант, которого можно на это дело «примерить». Валька Горбань, кличка Студент… Еще школьником спёр из краеведческого музея золотые… не помню, как называются. Бляхи такие круглые, древние. Украшения для боевых лошадей. Поймали его только через месяц, заработал «десяточку». Резкий был парнишка.
– А сейчас он что?
– Отсидел, вышел, особенно не отсвечивает. Справки приносил, что работает, только скачет с места на место. А чем на самом деле занимается – кто его знает. Но «Москвича» нового себе прикупил, хотя и скрывает, прячется… В квартире ремонт дорогой, картины опять-таки всякие покупает по комиссионкам. Интересуется, стало быть, в искусстве разбирается… Может, спекулирует.
Рутков какое-то время сидел неподвижно, словно окаменев. Переваривал информацию.
– Интересный фигурант, на зарплату так не разбежишься, – сказал он наконец. – Только если спекулянт, то это не наша линия, это ОБХССа[9] клиент. – И полез в свой старенький рюкзак. – А чего мы, собственно, гадаем… Смотри, он это? Похож?
Рутков достал копию фоторобота, составленного по описанию домохозяйки Козыря и смотрительницы Эрмитажа. Канюкин посмотрел, достал очки из кармана, нацепил на нос.
– Похож, – сказал он. – Не сто процентов, но очень на Горбаня смахивает. Да и…
Канюкин снял очки, бросил на стол, налил по-новой, выпил, никого не дожидаясь.
– Резкий он, понимаешь? Резкий ворюга, громкий! – Растопырил пальцы перед собой, словно желая показать, до какой степени этот Горбань резкий и громкий. – Опять-таки… вспомнил, во! Книжки по искусству в колонии он всё читал! Это Студент, говорю тебе. Больше некому! Ну кто, кроме него из наших, из ростовских, на Эрмитаж замахнется? Это ж ведь, блин, как звезду со Спасской башни свинтить!
Рутков спрятал карточку обратно в рюкзак, серьезно посмотрел на Канюкина.
– Слушай, у вас там сегодня какого-то авторитета, я слышал, грохнули. Это не Студент, случаем?
– Да не, ты что! Это совсем другой тип, он по другим делам… Живой твой Студент и здоровый, не волнуйся!
– Точно? Он в городе вообще? Не сбежал, не переехал?
– Да где ему еще быть! Я ж говорю, у него квартира здесь трехкомнатная, там, не поверишь, целая картинная галерея! Куда он денется! Ну, хочешь, я прямо сейчас звоню дежурному, пусть высылает наряд, через полчаса притащат?
– Нет, сейчас не надо. Мы все немного того… – Капитан щелкнул себя по шее. – А дело важное, под пьяную гармошку нельзя.
– Ладно. Раз важное, значит, погодим до завтра, – развел руками Канюкин. – Да ерунда это все! Да легко! Еще до обеда, вот увидишь, ты потрогаешь этого поганца за нежные места. Только не забудь потом вымыть руки!
«Мама родная, только не это», – подумал Лобов. Он ведь почти уснул, удобно привалившись к серванту. Не помогло. Канюкин ржал над своей шуткой долго, с наслаждением, и даже хрюкнул носом. А потом предложил накатить за успех завтрашней операции.
Утро все перевернуло с ног на голову. В буквальном… Почти в буквальном смысле. Голова у стажёра Лобова болела так, будто он на ней именно стоял. Всю ночь. И не просто стоял, а подпрыгивал. Но это во-первых. А во-вторых, у начальника Ростовского угрозыска подполковника Хромова оказалось несколько иное видение ситуации по делу о тройном убийстве.
– Вы забыли о главном. Студент не «мокрушник». Он никогда на это не пойдет, – заявил Хромов на утреннем совещании. У него была крепкая погрузневшая фигура, лысая голова, внимательный взгляд и нос картошкой. – Во всех агентурных сводках этот момент подчеркивается. В уголовной среде у него репутация «чистодела». А здесь не один труп, здесь настоящая скотобойня! Трое убитых! Причем убили профессионально, холодно, один ножевой удар – одна смерть! Здесь практика нужна, здесь мастерство, виртуозность, если хотите, до которых многим нашим «мокрушникам» еще расти и расти! – Хромов побарабанил пальцами по столу, мрачно посмотрел на собравшихся в его кабинете оперов, как трудяга-отец смотрит на своих спившихся оболтусов-сыновей. – Ты что, Канюкин, хрен от пальца отличать разучился? Что за фантазии у тебя! И наших ленинградских товарищей вводишь в заблуждение!
Канюкин посмотрел на сидящего рядом Руткова круглыми глазами – мол, ничего не понимаю.
– Но ведь почерк-то его, Студента, – пробормотал он.
– Что? – переспросил Хромов. – У тебя появились какие-то новые аргументы, Канюкин?
– Почерк, говорю, Студента! – повторил Канюкин громче. – Дерзкий почерк! Эрмитаж ведь!
– Какой к маме почерк?
Хромов даже треснул себя ладонью по ляжке.
– Он что, уже грабил Эрмитаж, твой Студент? Или Третьяковскую галерею? Лувр? Может он, подлец, пирамиды египетские чистил? Он что, специалист по ограблению музеев мирового значения? А? Я, может, просто чего-то не знаю, Канюкин, ты меня просвети, пожалуйста, что он такого ограбил в своей жизни?
– Ну, это… Краеведческий музей, – сказал Канюкин.
– Краеведческий! – прогремел Хромов. – Так где краеведческий музей, Канюкин, и где Эрмитаж? С тремя трупами в придачу!
Оперативники переглядывались между собой, пожимали плечами. Они все были взрослыми мужчинами – лет за сорок, крупные, с большими руками и ногами. Областной музей с Эрмитажем не сравнишь, это правда. Ну и что? Когда Рутков десять минут назад обрисовал суть дела, у каждого здесь первой мыслью было: Студент, его работа. И несмотря на доводы начальника, большинство оставалось при своем мнении.
– Горбань до этого Эрмитаж не обворовывал, я согласен, – поддержал Канюкина капитан Мазур, оперативник, работающий по линии борьбы с кражами. – Но это дерзкий спонтанный вор, всегда лезет на рожон. Он ведь мальцом еще показал себя, когда золота на сто тысяч огреб в одиночку. Увидел – решил – ограбил. Причем не кассу ведь брать пошел, а именно музей, значит, тяга какая-то есть к произведениям искусства… И главное. Тут товарищ сказал, – он кивнул на Руткова, – что специалист был приглашен из Ростова. Если это не Студент, то кто тогда?
– И то верно! – подал голос старший лейтенант Пономаренко. – У нас таких спецов и нет, чтобы ножом профессионально работать, и дорогу к Эрмитажу найти, а не заблудиться в большом городе!
– Плохо ты о наших ворах думаешь, Пономаренко! – отчеканил Хромов и тут же поморщился, уловив двусмысленность своего заявления. – То есть… Такие люди имеются, конечно. Возьмите Зыкова хотя бы…
– Кого? Матроса? – переспросил Мазур и оглянулся на товарищей, словно приглашая разделить его сомнение. – А каким боком здесь Матрос рисуется, товарищ подполковник?
– А вот таким. Тройное убийство мог совершить только он! – Хромов в упор посмотрел на капитана. – Будешь спорить, Мазур?
– Нет. Насчет того, что мог убить, не сомневаюсь. Но Матрос, как метко выразился только что Пономаренко, он даже дорогу к Эрмитажу не найдет. А если и найдет, то не отличит огнетушитель от скульптуры Микеланджело. А там, как нам объяснил товарищ Рутков, был конкретный заказ.
– Верно, – подтвердил Рутков. – Насколько я знаю, заказывали определенную вещь, причем такую… не самую ценную с виду.
– Вот-вот! А такой, типа Матроса, он если бы забрался в Эрмитаж, то не вышел бы, пока не набил полные карманы золота! – сказал Канюкин.
– А может, Матрос вообще в Ленинграде ни разу не был! – высказался Пономаренко.
Хромов с невозмутимым видом выслушал их.
– До чего адвокаты у нашего Матроса грамотные! – покачал он головой. – Так вот: был Матрос в Ленинграде. Сходка там у них проходила, целой бригадой ездили. И Матрос, и Студент, кстати…
– Слушайте, а может, они вдвоем и сработали? – поднял голову оперуполномоченный Ляшковский. – Тогда все сходится.
Это логичное, в общем, замечание почему-то возмутило Хромова.
– Ну какое вдвоем? – чуть не закричал он, забыв, видимо, о присутствии ленинградских коллег. – Вы что, мать вашу, трах-тарарах, вы вообще опера или кто? Вы на «земле» работаете, трах-тарарах, или в облаках витаете? Вы эту картину вообще представляете – Матрос со Студентом в одной связке идут на дело?! Они ж глотки друг другу перегрызут в первую же минуту! Они враги! Еще с тех пор, как Студент проигрался Матросу в карты! Трах-тарарах!.. Это ж как, я просто вот не понимаю, ну как можно работать здесь, дышать этим воздухом, вникать, читать эти бумаги… – Хромов схватил со стола несколько листков с написанным от руки грифом «секретно», потряс ими, швырнул обратно, – …и не понимать таких элементарных вещей! Это ж ваша, трах-тарарах, работа, ваш хлеб!
Зычный голос у начальника УР. Будто обухом по голове бьет. «Какой-то особый звуковой диапазон, наверное», – подумал Лобов. Может, у всех начальников такой голос вырабатывается, чтобы подчиненных долбить. Но дело даже не в этом… В общем, ему вдруг показалось, что здесь происходит какая-то темная вещь, нехорошая. Поплыло, замельтешило перед глазами… И кабинет Хромова превратился в раскаленный сияющий куб, такой, как у алхимиков, он читал об этом в одной из книг… не перегонный куб из учебника химии, а именно колдовская такая штука. Стены аж светятся, белым светом светятся, температура адская. И внутри этого куба сидят они – Рутков, Канюкин, остальные опера. Черные, как головешки. Неподвижные. По ним огненная дрожь пробегает, и видно, что они сгорели давно, обуглились, это только пыль, которая пока еще сохраняет форму тел. И Хромов перед ними. Но он не похож на уголь, наоборот, он из куска тусклого металла, в нем даже огонь отражается еле-еле. Вместо лица две огромные плоские челюсти, точно кусачки или каминные щипцы. Ходят туда-сюда, щелкают. А руки словно кочерги, тянутся к операм, стучат по стенам, по полу, ищут… Потому что глаз у него нет. Ничего нет, кроме рук и челюстей.
А потом все пропало. Изображение дернулось, разбилось на дрожащие полосы, как в телевизоре. И Лобов снова оказался в кабинете начальника уголовного розыска, и опера были как опера, а Хромов был как Хромов…
«Это от водки вчерашней, – понял стажёр. – Неужели допился до белых коней? Рано ж еще вроде как. Пил-то всего третий или четвертый раз в жизни. А как быть с тем сном в поезде? Ведь перед этим он точно ни грамма, а такого коня поймал, что мама родная…»
Здесь что-то не так. Лобов чувствовал это, хотя поверить полностью не мог. Ему, например, дико нравился роман «Из мира мертвых», эта жутковатая мистическая атмосфера, которая окружала вполне обычных людей и обычные, привычные вещи. Но это литература, вымысел, а он, простите, находится на совещании в отделе уголовного розыска. Вот портрет Дзержинского. Вот портрет Ленина. Здесь не может происходить ничего мистического.
– Я прошу прощения, товарищ подполковник, – вдруг услышал он собственный голос. Голос был громкий и уверенный. Даже немного нахальный. – Я хотел сказать, что вы вот все правильно рассуждаете. Очень грамотно и логично. Но мы зря спорим, потому что у нас ведь есть фоторобот преступника. Надо на него посмотреть, и дело прояснится.
– Точно! – крикнул с места Канюкин. – Я ведь его видел вчера вечером! Там вылитый Студент! Как живой!
Под любопытными взглядами оперов Лобов встал, обливаясь потом от всеобщего внимания, подошел к Руткову, взял у него копию фоторобота и положил на стол перед Хромовым.
Хромов взял распечатку, молча посмотрел. Громко втянул носом. Потом сказал:
– Ну и что?
– Как что? – сказал Канюкин. Подошел, заглянул в нарисованный грубыми мазками портрет, всмотрелся. – Это ж Студент, ну. Это ж как дважды…
Лобов видел, как он вдруг побледнел. Будто открыли невидимую артерию и разом выпустили всю кровь. Канюкин пошатнулся, как-то неприятно, болезненно сморщил лицо.
– Студент, говоришь? – зловеще хмыкнул Хромов. Он поднял фоторобот над головой, развернул ее к остальным. – Кто здесь изображен, товарищи?
И тут Лобов почувствовал, как зашевелились на затылке волосы. Лицо на фотороботе было другим, не тем, что вчера. Оно еще продолжало меняться. Глаза разъезжались в стороны, менялся их разрез. Портрет будто ожил и презрительно прищуривался: ну, чего уставились, легавые? Линия волос сместилась вниз, сжимая и без того невысокий лоб. Овал лица расплылся в стороны, рот будто подрезали по краям тонкой бритвой, обозначились резкие носогубные складки… И вдруг все застыло, окаменело, движение прекратилось. Это был фоторобот, грубый и неестественный, как все фотороботы. Но он изображал совсем другого человека – старше, жестче, брутальней, что ли, чем тот, вчерашний.
– Вот тебе раз! – произнес Мазур удивленно. – Рожа Матроса. Ну. Даже зенки его тунгусские… Или я чего-то не понимаю, а?
– Во всяком случае, это не Студент, – сказал Пономаренко.
– Матрос, – подтвердил Ляшковский.
– Ну почему Матрос? – Канюкин с подозрительностью покосился на портрет. – Вчера ведь буквально, я отлично помню… Ну подтверди, Рутков! Мы же своими глазами видели!
Рутков только развел руками. Ему тоже казалось, что вчера лицо на фотороботе выглядело как-то помоложе. Но он не мог ничего сказать, ни разу в жизни не видя реальных людей – Матроса и Студента.
– Мне тоже почему-то кажется, что это Матрос, – сказал подполковник, сверля Канюкина недобрым взглядом.
Тот все еще стоял перед столом, и Хромов, сморщив нос, движением ладони попросил его отодвинуться подальше.
– А почему Канюкину вчера вечером… хм, именно вечером, что характерно, привиделся там Студент, так это я могу с большой вероятностью предположить. Пить надо меньше, Канюкин! А если пьешь, то закусывай!
…Из кабинета начальника УР вышли как из парилки. Канюкин, красный и потный, продолжал что-то бормотать под нос. Лобов тоже чувствовал себя не в своей тарелке. В голове крутилась последняя фраза Хромова. Но насколько он помнил, вчера они закусывали. Все трое… Трое, повторил он про себя. Три детектива расследуют тройное убийство. Как-то это не того…
– Ну, мужики, я не знаю, что вам на все это сказать, – оборвал его мысли голос капитана Мазура. Они с Рутковым и Канюкиным зашли в кабинет оперсостава.
Мазур закрыл дверь, сел на край стола, размял в пальцах папиросу.
– Как по мне, так сто пудов здесь Студент наследил. С трупами этими… Здесь тоже можно найти объяснение. Ведь когда он первый раз на дело пошел, ну, в музей тот, его ведь тоже никто не учил, как и что и почему, а пацан тогда жирный куш сорвал, многие опытные воры позавидовали бы.
Канюкин сосредоточенно кивал в такт его словам.
– Но с фотороботом… – Мазур кашлянул. – Тут полная задница. На фотороботе Матрос, однозначно. Что там вам вчера померещилось, я просто…
– Так вы видели? – перебил, не удержался Лобов.
– Что?
Мазур, Канюкин и Рутков посмотрели на него.
– Как он менялся. Прямо на глазах. Он будто ожил на несколько секунд, правда?
Пауза. Рутков пригнул голову, прищурил правый глаз. Короче, сделал подозрительное лицо.
– Кто ожил, Сашок? – спросил он подчеркнуто вежливо.
– Портрет. Фоторобот то есть…
Мазур опять закашлялся, на этот раз громче.
– Ладно, мужики, давайте об этом потом. Надо решать, что дальше делать. С одной стороны, Хромов темнит что-то, не договаривает, с другой стороны, он прав.
Канюкин встрял:
– К тому же Матрос-то вообще того…
– Погоди, Канюк, не лезь. Не в том суть. – Мазур посмотрел на него, отвернулся. – Мы здесь как бы вообще с боку припека. Куда пошлют, туда идем. А вот кто дело копает, тому и решать. Что скажешь, командир? – обратился он к Руткову.
Капитан сосредоточенно смотрел на Мазура, будто ждал, что тот добавит что-то еще к сказанному.
– Да фиг его знает. – Он пошевелился, почесал в затылке. – Тут не головным, тут спинным мозгом думать надо.
– Жопой чувствовать, – подсказал Канюкин.
Рутков прикусил нижнюю губу, посмотрел в пол. Потом решительным движением убрал волосы со лба.
– Так. Я думаю, надо прощупать Студента.
– Вот, сразу и почувствовал! – сказал Канюкин и довольно захохотал.
Глава 6
Обыск результатов не дал
Ростов, февраль 1963 года
Быстро пробежали десять дней. Как телеграфные столбы вдоль дороги, промелькнули за окном. Между ними крепкая нить, металлическая струна.
И где ты был, а где сейчас?
Далеко уехал. Место новое, незнакомое.
Один день, второй, третий. И так далее. Струна натягивается, натягивается, звенит, режет.
Первое утро – он король. Самый молодой Смотрящий в истории города. Принимает общак, воровскую казну – облезлый канцелярский сейф, набитый баблом.
– Так куда его?
– Как куда? Везите на мою квартиру. Что я, по-вашему, в этой халупе сидеть над ним буду, как Кощей?
– Оно-то понятно. Только… А этаж какой?
– Третий.
– И что, прямо вот так нести его по лестнице будем? Блатные волокут какой-то сейф…И мусоров вызовут, да и вообще… Это стремно как-то, неправильно. В Нахаловке оно куда безопасней.
– Ага! И сральник на улице! Я там жить не собираюсь!
– Тогда надо искать другой дом. Чтоб без соседей за стенкой, чтобы братве по подъездам не шастать. Смотрящему положено как бы…
– Я Смотрящий, я Хранитель, мне и решать!
Общак перевезли в хозяйственных сумках, частями, ночью. Растолкал по надежным тайникам, комар носа не подточит. Сейф решил оставить в Нахаловке: на хрен не нужен. Он любил свою квартиру, гордился ею, привык к ней. Здесь выстроено пространство, продумана каждая мелочь, каждый блик света на своем месте. Они ничего в этом не понимают.
Китаец укоризненно качает головой – дзынь, дзынь…
А тебе-то чего?
Ладно, ладно. Видимо, что-то другое искать все равно придется. Позже. Когда-нибудь.
Второе утро. Один. Китаец всю ночь дзынькал, не давал спать.
Третье утро.
Четвертое.
Студент открыл глаза. В дверь стучали. На часах без четверти восемь. Вот заразы!
– Сейчас иду!
Когда был простым вором, спал сколько хотел. Сейчас, получается, его могли разбудить в любое время. И даже в голову никому не придет извиниться.
– Здорово, Студент.
Это Султан. Хмурый, небритый.
– Раньше такая кража была – с добрым утром, – зевнул Студент. – На рассвете, когда самый крепкий сон. А вот чего ты меня поднял?
– Зимаря вчера грохнули. Портовые у Таньки Листопад отдыхали, выпивали маленько. А с утреца заявились туда какие-то труболеты, у них стволы, ножи. В общем, устроили там карнавал. Кого-то отмудохали просто, а Зимарю, вишь, не повезло…
– Кто они? Откуда?
– Да конь их знает. Есть такая мысля, что это Редактор мутит за то, что портовые тебя поддержали на сходе. Ну, и за Матроса, понятно…
– Почему мне вчера никто не сказал?
– Так братва стремается твоего скворечника, не хотят идти. Говорят, тут мусорни как грязи, все на виду.
– Б…дь! Тащи ко мне Редактора, живо!
Ага, как же. Портовые уже вторые сутки шерудили по центру, чесали мелким гребнем. Редактор как сквозь землю провалился. Он ведь не дурак, Редактор.
А китаец без остановки качал головой, не соглашался, укорял, стыдил. Как будто стеклянным молоточком по темени – дзынь, дзынь, дзынь… Без остановки.
Что не так?! Ну?!
Пятый, шестой, седьмой. На вокзале порезали Боксера и Рыбу. Они из «рыночных», люди Редактора. Студент созвал к себе основных авторитетов – Бурового, Кузьму, Космонавта, Лесопилку, Севана и прочих. Пришел только Севан. Долго охал и ахал, глядя на развешанные по стенам картины, трогал руками богатые рамы. Потом сказал:
– Ты молодой, умный и богатый. Столько красивых вещей. Можешь жить и радоваться. Скажи, зачем полез в Смотрящие?
– Я не лез! Меня выбрали!
– Выбрали, да. И я выбирал. Правда, я уже и не вспомню, почему я хотел, чтобы это был ты. Все хотели, и я хотел… Да мне на это начхать, забыл и забыл. А ты сам помнишь? А? Зачем оно тебе, Студент?
День восьмой, девятый. Редактор пропал с концами. В городе закипает настоящая война, он должен ее остановить, но не знает как. Приехал к Буровому, сам. Оказал честь. Буровой посмотрел на него так, будто едва узнал.
– А что я могу? – сказал Буровой. – В Богатяновке я шишка, так здесь у меня и не режут никого без спросу. А в городе шишка – ты. Тебе и крутиться.
Непрерывный фарфоровый звон дробнее и чаще, он перешел в гудение, в тонкий писк, резал мозг ультразвуком, а маленькая голова китайского мудреца превратилась в размытое облачко тумана.
Студент сдался, велел Султану подыскать приличный дом где-нибудь на окраине. Хрен с вами со всеми.
Ночью вдруг стало тихо. Он подошел к фарфоровой статуэтке. Не дрожит, не звенит, не качается.
– Как мне быть? Где я скосячил? Что мне сделать, чтобы все стало как надо?
Не дрожит. Не звенит. Не качается. Молчит.
– В чем дело? То дребезжишь круглыми сутками, то не шевелишься даже! Батарейка закончились, что ли?
Студент скрипнул зубами, протянул руку к статуэтке… Нет, вспомнил. Нельзя, будет плохо.
– Втравили меня в этот шлак – и свалили! Ага! Расхлебывай как хочешь! Суки вы!
Руку пронзила дикая боль. Палец, на котором сидел львиный перстень, стал черным и распух от прилившей крови. Перстень заметно уменьшился в диаметре, сжался, уже не кожа и мясо, а сама кость трещала под его давлением. Студент заорал, затряс рукой. Чем сильнее давил перстень, тем стремительнее росла опухоль, палец набухал, увеличивался, вытягивался, извивался, как змея, черный, страшный, на конце выклюнулась заостренная плоская голова… Цап! Студент едва успел убрать голову. Упал. Там, где змеиные зубы только что мазанули по воздуху, остался сдвоенный светящийся красный след.
Он завыл, заколотил рукой о стену, как припадочный. Вскочил, полетел на кухню, схватил со стола нож, занес над левой кистью.
– Б…дь!!! Сейчас отхерачу на фиг!!! И насрать!!!
Резко, с раздраженным хлопком, откинулась занавеска на кухонном окне. Зазвенели на карнизе металлические кольца. С подоконника упала переполненная пепельница.
За окном на фоне заходящей луны открылся силуэт семиэтажного дома на противоположной стороне улицы. На его крыше с каких-то незапамятных времен красовалась надпись из огромных фанерных букв: «СЛАВА НАРОДУ-ТРУЖЕНИКУ!» Буквы старые, обветшавшие, у «т» покосилась перекладина, из-за чего вместо «труженику» можно было прочесть «груженику».
Сейчас там были новые буквы и новая надпись. Ее даже подсветили невидимыми прожекторами.
«ОТХЕРАЧЬ СЕБЕ БАШКУ, СТУДЕНТ!»
Голова закружилась. Он покачнулся, со стуком уронил нож. «В лучшем случае я сошел с ума, – подумал он. – Это в лучшем… В худшем случае все еще гораздо хуже…»
На него в упор смотрели желтые змеиные глаза.
– Но я не знаю!!! Не знаю, что мне делать!!!
…Шум в гостиной. Он не бежал, какое там. Его уже ничем не удивишь. Поплелся, еле волоча ноги.
С книжных полок слетали вниз книги. По одной, по две, целыми рядами. Некоторые падали сразу, некоторые зависали в воздухе на секунду-две, раскинув обложки-крылья. Некоторые летели через комнату, словно снаряды, с неожиданно громким, пугающим стуком врезались в стену, в дребезжащие окна… Книг было не так уж и много. В основном альбомы по искусству, приключенческая литература, что-то из классики (исключительно для солидности, нечитанное ни разу), журналы, стопки газет…
Студент опустился на корточки, сел на пороге комнаты. Случайно опустив глаза, обнаружил, что и перстень, и палец обрели прежний размер и вид. Но это его даже не особо взволновало.
Он отрешенно смотрел на творящийся в гостиной… Не знал, как это назвать. Шабаш, светопреставление, наваждение, фиг его знает. Смотрел, пока все не прекратилось, пока с верхней полки не слетела последняя книга и, описав странную траекторию, как попавшая в помещение птица, не забилась под телевизионную полку.
Осторожно протянул руку и поднял валявшийся ближе всех полный сборник репродукций Репина, юбилейное московское издание пятдесят четвертого года. Сборник лежал раскрытый, вверх обложкой. Он перевернул его. Репродукция картины «Арест пропагандиста». Темная убогая хата, бородатый молодой человек с тяжелым взглядом, жандармы, выпотрошенный чемоданчик с агитлитературой… Известная картина, украшавшая все советские учебники по истории.
Только у молодого человека не было бороды. Он гладко выбрит, одет в широкие, по последней моде, брюки с манжетами и белую нейлоновую рубашку. На пальце холодным металлическим светом сияет перстень. Ничего себе пропагандист! Никакой хаты, ничего подобного. Роскошная городская квартира с шелковыми обоями, картинами и телевизором, на заднем плане виднелся столик с крошечной фарфоровой статуэткой. Вместо жандармов – три мента и молодой хлыщ в гражданском. Чемоданчика тоже не было. А была набитая десятирублевиками сумка из тайника в полу, между лагами… Часть общака, один из его тайников.
Рядом второй альбом, тоже раскрытый: «Западноевропейская гравюра XIV–XVII вв.». Казнь Карла Первого Стюарта 30 января 1649 года. Эшафот, плаха, обезглавленный труп в знакомых уже ему брюках с манжетами, кровь вытекает из шеи аккуратными параболами. Крепкий мужчина в немыслимых для тех времен спортивной куртке и кепке держит за волосы отсеченную голову с закатившимися глазами и открытым в мучительной гримасе ртом, демонстрируя ее публике. Все это в немного упрощенном, угловатом, условном отображении, в той манере гравировки, какая существовала во времена Кромвеля и Английской революции. Но голова – его, Студента, голова. Вне сомнений. А мужичок в кепке – Буровой собственной персоной. Очень даже похож…
Наугад схватил третий альбом, всмотрелся в открытую специально для него (теперь это совершенно ясно) страницу.
Владимир Серов «Ходоки у Ленина». В горле булькнул нервный смешок: повезло же… Разумеется, вождя мирового пролетариата на картине не было. Он сам, в костюме-троечке, с перстнем на пальце, сидел, облокотившись на стол, внимательно слушал, что впаривают ему застывшие в почтительных позах «ходоки» – Севан, Мотя Космонавт и Леденец. Только не было ни комнаты в Смольном, ни убранных в белые чехлы кресел. Простой деревенский дом, что-то вроде жилища Мерина в Нахаловке, обычные стулья, табуретки, печь-голландка, на подоконнике – силуэт фарфорового китайца. В качестве подсказки, чтобы совсем уже было ясно, что к чему, за окном открывался вид на поле и озеро. Значит, окраина. Северный поселок. И Северное водохранилище. Или Ростовское море. Или вообще – левый берег Дона, Левбердон…
Да-а-а, картина ясная: предупредили его! Дескать, лягавые с обыском нагрянут и сумку найдут, Буровой против него заговор готовит и скоро грохнет, а жить надо в доме, на окраине, так спокойней.
Значит, надо съезжать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Китаец ожил, зазвенел, закивал головой. Да-да-да. В правильном, мол, направлении мыслишь!
«У дьявола есть не только рога, но и чувство юмора», – подумал Студент. Вскрыл тайник в полу, переложил деньги в другой схрон, хитро обустроенный в наружной полутораметровой стене. И ведь верно, место куда более надежное, за двумя рядами кирпичей, переложенных оконной замазкой. Хоть со стетоскопом простукивай, ничего не услышишь.
Прибрался в гостиной, расставил книги по полкам. За окном серел жиденький рассвет. Надпись, прославляющая трудовой народ, находилась на прежнем месте, словно никуда и не исчезала. Логично. Не только рога и чувство юмора, но и чувство меры…
Лег и быстро уснул спокойным сном.
Хотя было довольно рано, дверь открыли почти сразу. На пороге стоял молодой парень – высокий, жилистый, с дерзким взглядом из-под развитых надбровных дуг, выпирающей вперед квадратной челюстью и золотыми зубами. Эти признаки, кроме зубов, конечно, если верить теории Ломброзо, выдавали в нем преступника, склонного к насилию. Хотя одет был прилично и прическа аккуратная – ухоженные удлиненные волосы, ровный пробор… Но общего впечатления это не меняло – отпетый босяк, профессиональный уголовник!
Он с кривой улыбкой рассматривал Лобова, которого выбрали звонить как наиболее безобидного на вид. Так волк может рассматривать сунувшуюся к нему в нору болонку. Конечно, вчера случилась какая-то путаница с фотороботом, но лицо хозяина определенно показалось знакомым. Похоже, они пришли к кому надо.
– Здравствуйте. Несколько минут назад из окон вашего дома раздавались выстрелы и крики о помощи. Вы ничего не слышали?






