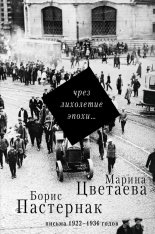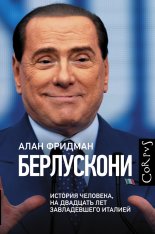Укрощение королевы Грегори Филиппа
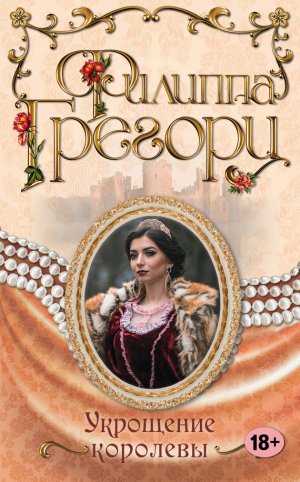
– Ваше Величество так мудры, – осторожно отзываюсь я. – И ум ваш изворотлив. Однако Томас Кранмер готов и без того служить вам во всем. Неужели вам так необходимо строить ему западню, чтобы добиться послушания?
– Он – мой противовес, который я выставляю против Гардинера.
– Тогда ему придется дотащить нас до Германии, – к разговору неожиданно присоединяется Уилл Соммерс. Я не осознавала, что он тоже слышит нашу беседу: все это время он тихо сидел на полу, прижавшись спиной к опоре балдахина и перебрасывая из руки в руку маленький золотистый мяч.
– Почему это? – спрашивает Генрих, всегда благодушно относящийся к выходкам своего шута. – Покажись, Уилл, я там тебя не вижу.
Шут подскакивает, подбрасывает свой мяч в воздух и ловит его, почти напевая:
– Придется Томасу вести нас через горы, к самой Германии, потому что Стефан тянет нас в Альпы, прямиком в Рим.
Король смеется, слыша эти слова.
– Я уже придумал, чем уравновесить Гардинера, – говорит он. – Я собираюсь поручить ему проповедь-наставление и литанию на английском.
Я потрясена.
– Английский молитвенник? На английском?
– Да, чтобы люди, приходя в церковь, могли слушать молитвы на родном языке и понимать их. Как они могут истинно исповедоваться, если не понимают ни слова? Как они могут молиться всей душой, если для них нет смысла ни в едином слове молитвы? Они там просто стоят в церкви и бормочут: «Бу-бу-бу-бу, аминь».
Именно об этом я думала, когда переводила Псалтирь епископа Фишера с латыни на английский.
– О, какой великий дар народу Англии! – Я почти заикаюсь от восторга. – Молитвенник на родном языке! Какое облегчение душам! Как бы я была рада, если б мне тоже было позволено присоединить свои усилия к выполнению этого задания!
– А я скажу королеве «доброе утро», – внезапно перебивает меня Уилл Соммерс. – Доброе утро королеве утра.
– И тебе доброе утро, Уилл, – отвечаю я. – Это шутка?
– Это утренняя шутка. А идея короля предназначена для того, чтобы стать планом этого утра. А после обеда вы можете найти ситуацию в совершенно ином виде. Этим утром мы посылаем за Кранмером, а вечером – оп-ля! – милорд Гардинер становится источником мудрости и всех знаний, а вы будете утренней королевой, чье время прошло и не настало вновь.
– Цыц, – велит король. – А что ты думаешь, Екатерина?
Однако, несмотря на предупреждение шута, я не могу сдержать слов.
– Я считаю, что это возможность написать истину и сделать это красиво, – говорю я с энтузиазмом. – А красота в написанном восславит Бога и поведет к нему людей.
– Только нельзя жертвовать истиной в угоду красоте, – настаивает Генрих. – Иначе это станет ложным маяком. Перевод с латыни должен быть точным, не стоит слагать из него поэму.
– Слово нельзя искажать, – соглашаюсь я. – Господь говорил простым языком с простыми людьми. Наша церковь должна поступать так же. Я считаю, что в простом языке есть своя красота.
– А почему бы тебе не написать новых молитв, самой? – неожиданно предлагает Генрих. – Своею собственной рукой?
На какое-то мгновение мне кажется, что он узнал о переведенной мною Псалтири, которая была напечатана без упоминания моего имени. Может, его шпионы донесли ему, что я уже перевела молитвы и обсудила их с архиепископом?
– Нет, нет, я не посмею… – мямлю я.
Но его интерес вполне искренен.
– Я знаю, что епископ Кранмер очень высокого мнения о тебе. Почему бы тебе не написать молитвы? И почему бы не перевести мессу с латыни и не показать ему? Принеси и мне почитать. А принцесса Мария работает с тобой, не так ли? И Елизавета?
– С учителем, – осторожно говорю я. – В рамках ее обучения, вместе со своей кузиной Джейн Грей.
– Я считаю, что женщинам следует учиться, – разрешает он великодушно. – Ибо женщина не должна оставаться необразованной. А у тебя к тому же высокоученый муж, ты в любом случае меня не перепрыгнешь!
Он смеется над одной только мыслью об этом, и я смеюсь вместе с ним. И даже не смотрю на шута, понимая, что он прислушивается к моим ответам.
– Как скажете, милорд, – спокойно отвечаю я. – Я с радостью возьмусь за работу, и она станет хорошим упражнением для обучения принцесс. Но только вы определите, как далеко с этим можно зайти.
– Можно зайти далеко, – заявляет король. – Настолько далеко, насколько сочинит Кранмер. Но если он зайдет слишком далеко, я отправлю вдогонку за ним моего пса Гардинера.
– Возможно ли найти компромисс в этом вопросе? – Я рискнула сказать это вслух. – Кранмер может писать или не писать молитвы на английском, и они либо будут изданы, либо нет.
– Мы найдем, каким путем мне идти, – отвечает Генрих. – Ибо мой путь богодухновен, я – Его посланник на земле. Он говорит со мной, и я слышу его.
– Видишь ли, – Уилл внезапно наклоняется к камину и обращается к спящей легавой, поднимая ее большую голову и устраивая ее у себя на колене. – Если б это сказала она или я, нас бы сочли сумасшедшей и идиотом. Но если эти слова говорит король, то их считают не чем иным, как истиной изреченной, посланной с небес; раз уж он – помазанник Божий, то и ошибаться не может.
– А я и не могу быть не прав, – Генрих прищуривается, глядя на шута, – потому что я – король. Я никогда не ошибусь потому, что король стоит выше простого смертного, лишь чуть пониже ангелов. Я не бываю не прав потому, что со мною говорит Господь, и, кроме меня, Его никто не может слышать. Так и ты, мой шут, никогда не будешь мудрым, потому что ты – мой идиот. – Он бросает взгляд в мою сторону. – А у нее никогда не может быть своего мнения, которое не есть мое, потому что она – моя жена.
* * *
В ту ночь я молю Бога, чтобы Он послал мне благоразумия и осмотрительности. Всю свою жизнь я была послушной женой, сначала робкому и глупому мальчишке, потом властному и холодному старику. Им обоим я была послушна и покорна, ибо таков был мой долг, положенный мне Всевышним и вдолбленный в сердце каждой женщины. Теперь я замужем за королем Англии, и мой долг ему состоит из трех частей: как жены, как подданной и как прихожанки Церкви, которую он возглавляет. И если я стану читать книги, которые ему не нравятся, или пестовать мнения, с которыми он не согласен, то проявлю по меньшей мере неверность, или же, что еще хуже, это будет изменой. Я должна думать, как он, днем и ночью. Но я не понимаю, зачем Богу было давать мне разум и запрещать думать? А за этой мыслью следует другая: если Он даровал мне сердце, значит, хотел, чтобы я любила. Я прекрасно знаю, что связь между этими двумя предложениями не имеет отношения к философии. Скорее, это мысли поэта и писателя, которого слова увлекают не меньше, чем их смысл. Бог даровал мне разум – значит, Он хочет, чтобы я думала. Бог дал мне сердце – значит, я должна любить. Я постоянно слышу эти слова в своем сердце, но никогда не произношу их вслух, даже здесь, в пустой часовне. Но, когда я поднимаю взгляд от того места, где стою у ограды алтаря и смотрю на икону с распятием, я вижу лишь мрачную улыбку Томаса Сеймура.
* * *
Нэн врывается в мою комнату с птицами, где я кормлю с руки пару желтых канареек, насыпая в ладонь крошки хлеба. Я с удовольствием рассматриваю маленькие живые глазки, хохолки и яркое оперение, кружевные контуры каждого пера и крохотные цепкие коготки. Они – сгусток непостижимого чуда жизни, порхнувшего мне на ладонь.
– Тише, – говорю я, не поворачиваясь в ее сторону.
– Ты должна кое-что услышать, – говорит Нэн голосом, в котором проскальзывает с трудом сдерживаемая ярость. – Отвлекись от птиц.
Я поворачиваюсь к ней, чтобы отказаться, но натыкаюсь на мрачное выражение ее лица. За ней стоят бледная Екатерина Брэндон и Анна Сеймур с потерянными глазами.
Осторожно, чтобы не спугнуть птах, я опускаю руку в клетку, и они перескакивают на свои жердочки, а одна из них тут же принимается чистить перья, словно важный посланник крупного государства, оправляющего свой наряд между государственными встречами.
– В чем дело?
– Вышел новый указ о преемственности престолонаследия, – говорит Нэн. – Перед отправлением на Францию король решил назвать своего преемника. Во время принятия этого решения с ним были Чарльз Брэндон и Эдвард Сеймур, и Ризли – Ризли! – был там во время составления указа.
– Я знаю об этом, – спокойно отвечаю я. – Он обсуждал это со мною.
– А он сказал тебе, что после принца Эдварда трон должны занять твои дети?
Я резко разворачиваюсь к ним, и птицы в испуге разлетаются.
– Мои дети?
– Осторожнее со словами, – Анна Сеймур суетливо оглядывается, словно боится, что попугай донесет об измене епископу Гардинеру.
– Да, да, – киваю я. – Я просто удивлена.
– Ваши дети и любые другие, – Екатерина Брэндон говорит очень тихо, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. – В этом-то и дело.
– Какие другие дети?
– От любой будущей королевы.
– Любой будущей королевы? – опять повторяю я и смотрю на Нэн, а не на Екатерину или Анну. – Он что, собирается жениться снова?
– Едва ли, – успокаивает Анна Сеймур. – Он просто составляет указ, который будет в силе даже в том случае, если он вас переживет. Предположим, если вы умрете раньше его…
Я слышу, как у Нэн прерывается дыхание.
– Умрет? От чего? Да она в дочери ему годится!
– Он должен был об этом позаботиться! – настаивает Анна Сеймур. – Скажем, случается страшное, и вы заболеваете, что приводит к вашей смерти…
Екатерина и Нэн обмениваются непонимающими взглядами. У Генриха явно есть привычка переживать своих жен, причем ни одна из них не болела.
– Тогда ему придется жениться снова, чтобы постараться родить еще сына, – заканчивает мысль Анна. – Это не говорит о том, что он это планирует, или о том, что собирается это сделать. Или что у него есть кто-то на примете.
– Нет, – яростно шипит Нэн. – У него этого и в мыслях не было, кто-то явно вложил эту идею ему в голову. И сделал это только что. А твой муж как раз присутствовал при этом.
– Может быть, так и составляются указы о преемственности? – предположила Екатерина.
– Нет, – Нэн категорична. – Если б она умерла и король женился снова, и в этом браке у короля родился бы еще один сын, то он наследовал бы трон после Эдуарда по праву рождения и пола. У короля нет необходимости прописывать это отдельным указом. Если б она умерла, то в случае нового брака лишь при появлении новых наследников может появиться и необходимость в новом указе о преемственности. Сейчас нет смысла об этом беспокоиться. Все это устроено для того, чтобы вложить в наши головы идею нового брака.
– Наши головы? – спрашиваю я. – Он хочет, чтобы я думала, что он собирается удалить меня от себя и жениться снова?
– Или он хочет подготовить к этому свое королевство, – тихо говорит Екатерина Брэндон.
– Или его советники подумывают о новой королеве. Новой королеве, которая поддерживала бы старые традиции, – отвечает Нэн. – Ты их разочаровала.
На мгновение мы замолкаем.
– Чарльз сказал, кто предложил это добавление к указу? – спрашивает Анна.
Екатерина лишь слегка пожимает плечами.
– Мне кажется, это был Гардинер, но я не ручаюсь в этом. Кому еще могла понадобиться новая, седьмая королева?
– Седьмая королева? – повторяю я.
– Да, – подтверждает Нэн. – Как король Англии и глава церкви Генрих может делать все, что захочет.
– Это я знаю, – холодно отвечаю я. – И не сомневаюсь в том, что именно так он и поступает.
Дворец Уайтхолл, Лондон
Лето 1544 года
Томас Кранмер все время занят работой над литургией. Он приносит ее королю, молитву за молитвой, и мы втроем читаем ее и перечитываем. Кранмер и я читаем оригинальный текст на латыни, перефразируем его и читаем Генриху, который слушает, отбивая ритм рукой по подлокотнику, словно внимая музыке. Иногда он одобрительно кивает мне или архиепископу и говорит: «Прислушайся! Слышать Слово Господне на родном языке подобно чуду!» Иногда он хмурится и замечает: «Какая неловкая фраза, Кейт. Цепляется за язык, как черствый хлеб. Этого никто не сможет произнести гладко. Это надо переделать. Ты как считаешь?» И я тогда беру эту фразу и перекладываю ее до тех пор, пока она не начинает звучать.
Об указе о преемственности он не говорит ни слова, я тоже не затрагиваю этой темы. Тем временем указ проходит через Парламент и принимает статус закона без малейшего протеста, потому что я так и не решаюсь сказать ему, что понимаю, что он готовится к моей смерти, хотя я по возрасту гожусь ему в дочери, что он готовит место для следующей королевы, которая придет мне на смену, хотя я не слышала от него ни слова недовольства мною. Гардинер удален от двора, Кранмер стал здесь частым гостем, а король выказывает удовольствие от совместной работы с ним и мной.
Он явно настроен всерьез перевести и издать перевод, чтобы затем предложить его церквям. Иногда король говорит Кранмеру:
– Да, только это должны слышать в галерее, где стоит бедный люд. Слово должно быть слышным, его должны понимать и различать даже в бормотании старого священника.
– Старики-священнослужители не станут его читать, если вы не заставите их это делать, – предупреждает его Кранмер. – Здесь многие считают, что месса не может быть мессой, если она не на латыни.
– Они сделают все так, как я велю, – отвечает король. – Это же слово Господне на родном, английском языке, и я дам его своему народу, что бы там ни хотели старые глупцы, всякие гардинеры. А королева переведет старые молитвы и напишет новые.
– Вы вправду сделаете это? – спрашивает у меня Кранмер с мягкой улыбкой.
– Я как раз размышляю об этом, – осторожно отвечаю я. – Король так добр, предлагая мне эту возможность…
– Он прав, – отвечает архиепископ с низким поклоном. – Подумать только, какую Церковь мы построим, где мессы будут читаться на родном языке, а молитвы будут написаны истинными верующими! Самой королевой Англии!
* * *
Весеннее тепло приносит облегчение и ноге короля. Гноя вытекает все меньше, и король веселеет на глазах. Кажется, что совместная работа со мной и архиепископом вернула ему былую радость от научных занятий и разожгла с новой силой его любовь к Господу.
Ему нравится, когда мы приходим к нему отобедать, когда он ест в одиночестве и ему служит лишь один паж, подносящий ему пирожные. Сейчас Генриху приходится надевать очки для чтения, и ему не хочется, чтобы двор видел его с водруженными на нос стекляшками в золотой оправе. Он стыдится того, что стал хуже видеть, и боится ослепнуть, но смеется, когда однажды я беру его толстые щеки в ладони, целую его и говорю, что он похож на мудрого филина и что он весьма хорош в очках и ему следует носить их не снимая.
Днем я ухожу на свою половину и работаю над созданием литургии вместе с фрейлинами. К нам часто приходит Томас Кранмер и присоединяется к нашим усилиям. Текст получается небольшим, но очень сложным: в нем нет ни одной легковесной строки. Каждое слово здесь должно быть выбрано и оценено верой.
В мае архиепископ приносит мне первый напечатанный экземпляр, кланяется и кладет его мне на колени.
– Это оно? – с удивлением спрашиваю я, поглаживая пальцами гладкий кожаный переплет.
– Это оно, – подтверждает он. – Результат моих и ваших трудов и, скорее всего, самое большое мое достижение. И, может быть, величайший дар, который вы можете дать своему народу. Теперь они могут молиться на родном языке. Они смогут воистину стать божьим народом.
Я не могу оторвать руки от переплета, словно касаюсь руки Всевышнего.
– Господи, этот труд останется в веках!
– И вы внесли свой вклад в него, – великодушно отвечает архиепископ. – Вы добавили ему женский голос, и теперь и мужчины, и женщины будут произносить эти молитвы; возможно, даже станут рядом преклонять колени, как равные пред лицом Господа.
Сент-Джеймсский дворец, Лондон
Лето 1544 года
Наступают солнечные дни, и король постепенно восстанавливает силы. Он доволен своей кампанией против Шотландии, и в июне мы отправляемся в перестроенный Сент-Джеймсский дворец на венчание его племянницы, моей фрейлины и подруги Маргариты Дуглас с шотландским дворянином Мэттью Стюартом, графом Ленноксом. Здесь король может гулять в саду, и он начинает двигаться с легкостью и даже снова стрелять из лука. Однако он больше никогда не сможет играть в теннис. Генрих наблюдает за молодыми придворными и смотрит на них так, словно они его противники, хотя он гораздо старше их самих и старше их отцов. Он больше никогда не скинет свой камзол и не станцует на лужайке. Особенно пристально он наблюдает за молодым женихом, красавцем Мэттью Стюартом.
– Он завоюет для меня Шотландию, – шепчет Генрих мне на ухо, когда жених и невеста идут рука об руку по боковому нефу церкви.
Проходя мимо меня, племянница Генриха шаловливо мне подмигивает. Перед моими глазами идет самая непокорная невеста, счастливая наконец, в возрасте почти тридцати лет, после двух громких скандалов, в которых участвовали мужчины из рода Говардов, получить разрешение на замужество.
– Он завоюет для меня Шотландию, и тогда принц Эдвард женится на маленькой королеве Шотландии, Мэри, – и тогда я увижу объединение Англии и Шотландии.
– Это было бы прекрасно, если б стало возможным.
– Конечно, это возможно.
Король поднимается на ноги и опирается на руку пажа, и мы тоже отправляемся по проходу. Я иду рядом с ним, и наше странное трио медленно продвигается в сторону открытых дверей. В честь этой свадьбы, так много значащей для безопасности Англии, будет устроен великий пир.
– Когда шотландцы встанут на мою сторону, я смогу спокойно взять Францию, – говорит Генрих.
– Милорд муж мой, достаточно ли вы хорошо себя чувствуете, чтобы идти в поход самому?
В ответ король награждает меня широкой улыбкой, такой же беззаботной, как у молодых офицеров его армии.
– Я могу сидеть верхом, – говорит он. – Как бы нога ни подводила меня, когда я хожу пешком, на коне я сижу уверенно. А если я могу сидеть верхом, то и смогу вести свою армию на Париж. Ты увидишь.
Я поднимаю взгляд на него, чтобы запротестовать, – ведь половина членов Тайного совета уже обращались ко мне с просьбами поддержать их призыв к королю не ходить в поход самому; даже испанский посол говорил, что император не советовал Генриху этого делать, – как вдруг замечаю среди сотен людей в огромной церкви знакомый поворот темноволосой головы, профиль, линию скулы, драгоценный камень в шляпе и быстрый взгляд, брошенный на меня из-под нее. В то же мгновение я узнаю своего любовника, Томаса Сеймура.
Я бы узнала его где угодно, даже если б он стоял спиной ко мне. Король оступился и выругал пажа за то, что тот не успел поддержать его, я делаю шаг назад и цепляюсь за руку Нэн. Тускло освещенная церковь начинает вращаться перед моими глазами, и я, боясь упасть в обморок, сжимаю руку сестры еще сильнее.
– Что случилось?
– Живот скрутило, – стараюсь ответить я как ни в чем не бывало. – Просто такая часть месяца.
– Осторожно, – говорит Нэн, не сводя с меня взгляда и не замечая Томаса, а у того хватает здравого смысла отойти подальше от нас.
Я делаю несколько неуверенных шагов, часто моргая. Я больше не вижу его, но чувствую на себе его взгляд, чувствую его присутствие в церкви, почти ощущаю запах его тела. Я ощущаю прикосновение его груди к своей щеке, как клеймо. Мне кажется, что все смотрят на меня и знают, что я – его любовница, что я его шлюха. Что однажды я умоляла его любить меня всю ночь напролет, словно я была его полем, а он – моим плугом.
Я впиваюсь ногтями в свою ладонь, почти проткнув ее до крови. Король подзывает второго пажа, который встает с другой стороны от него. Генрих потянул ногу и теперь старается справиться с болью и неустойчивостью шага, и не смотрит на меня. Никто не замечает моей минутной слабости. Все глаза устремлены на короля, подмечая, что тот стал сильнее, но все еще нуждается в помощи. Генрих бросает вокруг гневные взгляды, не желая слышать, что он все еще слишком слаб, чтобы ехать во главе собственной армии. Он кивает мне, чтобы я подошла ближе.
– Идиоты, – бросает король.
Я изображаю улыбку и киваю, но не слышу его. Мы входим в парадный зал под звук горнов, а я вспоминаю вкус губ Томаса и то, как он кусал мою губу во время поцелуя. На меня обрушивается волна воспоминаний, таких острых, словно это все происходило со мною прямо сейчас: вот он целует меня и покусывает за губы, пока ноги мои не подгибаются и он не относит меня на кровать…
Мы с Генрихом проходим сквозь кланяющихся нам придворных, чтобы сесть на свои места на возвышении, но я не вижу ничего, кроме освещенного свечами лица Томаса.
К Генриху подходят двое крепких слуг, чтобы помочь ему подняться на две невысокие ступени, усесться и устроить удобно ногу. Я сажусь на свое место рядом с ним и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на придворных через широко распахнутые двери, ведущие в залитый солнцем и выложенный красным кирпичом внутренний дворик. Затем делаю глубокий вдох и жду неизбежный момент, когда Томас Сеймур подойдет ко мне, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
Внезапно я ощущаю рядом с собою движение: на соседнее со мной место садится принцесса Мария.
– С вами всё в порядке, Ваше Величество? – спрашивает она.
– А что?
– Вы так бледны…
– Просто немного болит живот, – говорю я. – Ну, понимаешь…
Мария кивает. Она сама редко не испытывает боли, при этом знает, что мне нельзя не присутствовать на этом пиру или каким-либо образом выказать свое состояние.
– У меня в комнате есть настойка листьев клубники, – говорит она. – Я могу послать за нею.
– Да, да, пожалуйста, – быстро соглашаюсь я.
Мой взгляд обегает комнату. Томас должен будет подойти и засвидетельствовать свое почтение королю перед тем, как к столу потянутся бесконечные вереницы слуг с подносами с непременными яствами свадебного застолья. Он должен подойти и поклониться, чтобы потом занять свое место за столом высокого дворянства. И все будут следить за тем, как он кланяется мне, но никто не должен заметить, что я побледнела. Никто не должен знать, что мое сердце бьется так громко, что мне кажется, что это слышит принцесса Мария за шумом и шорохом, сопровождающим усаживание двора за стол. Не выдаст ли он свое волнение? Я пытаюсь представить, не подведет ли его на этот раз его смешливая дерзкая храбрость? Или он решил вообще не приходить на пир? Или он сейчас где-то в саду, пытается настроить себя на то, чтобы подойти ко мне? Возможно, он не находит в себе сил поприветствовать меня, как некогда знакомую, или поздравить с недавней свадьбой и возвышением в статусе? Но он же должен понимать, что ему этого не избежать; значит, сейчас будет самый удобный момент для этого…
Как раз в тот момент, когда я решила, что он слишком медлит и, наверное, нашел оправдание не являться на пир, я вижу его. Томас прокладывает себе дорогу меж столами, опережая слуг, улыбаясь одному, похлопывая по плечу другого, проходя мимо людей, окликающих его по имени и приветствуя их в ответ. Вот он предстает перед возвышением, на котором стоит трон короля, и Генрих смотрит на него.
– Том Сеймур! – восклицает он. – Как я рад, что ты вернулся! Должно быть, ты гнал изо всех сил, ведь путь был неблизкий…
Томас кланяется, даже не глядя на меня, и улыбается королю такой знакомой, легкой улыбкой.
– Я гнал, как конокрад, – признается он. – Я так боялся, что опоздаю и что вы будете уже вооружены и отправитесь в поход без меня…
– О, ты как раз вовремя, – говорит король. – Я заканчиваю вооружать армию и намереваюсь выступать уже в течение месяца.
– Я так и знал! – восклицает Томас. – Я знал, что вы никого не станете ждать! – Король одаривает его лучезарной улыбкой. – Ну что, возьмете меня с собой?
– О, тебя бы я взял обязательно. Ты должен стать командующим армией. Я доверяю тебе, Том. Твой брат громит шотландцев, ставя их на место. Я рассчитываю на тебя, на то, что ты покроешь свое имя славой и защитишь наследие твоего племянника во Франции.
Томас прижимает руку к сердцу и кланяется.
– Я лучше умру, чем подведу вас. – За все это время он так и не посмотрел на меня.
– Можешь поприветствовать твою королеву, – говорит Генрих.
Томас поворачивается ко мне и адресует мне низкий бургундский поклон, самый грациозный жест из существующих, и рука с длинными пальцами касается краем зажатой в ней роскошной шляпы пола.
– Какая радость видеть вас, Ваше Величество, – говорит он совершенно спокойным и холодным голосом.
– Добро пожаловать ко двору, сэр Томас, – осторожно говорю я. Я слышу эти слова словно со стороны, будто маленькая девочка, произносящая заученный урок в классе. Так положено приветствовать вернувшегося ко двору советника. – Добро пожаловать ко двору, сэр Томас.
– Какую работу он проделал для нас! – Генрих поворачивается ко мне и похлопывает меня по руке, лежащей на подлокотнике моего трона, так и оставив ее там, словно показывая, что он владеет как рукой, так и моим телом. – Сэр Томас заключил договор с Нидерландами, который обеспечит нам безопасность, пока мы будем наступать на Францию. Он убедил в необходимости этого соглашения саму правительницу, королеву Марию. О, этот человек большой шельмец… Ну что, Том, она красива?
По колебанию Томаса я могу судить, что этот вопрос был невежлив, учитывая тот факт, что королева не отличалась особой красотой.
– Она умна и милосердна, – говорит он. – И предпочитает войне с Францией добрый мир.
– Вот уж причуда, и вдвойне! – присоединяется к беседе Уилл Соммерс. – Умная леди, стремящаяся к миру… О чем еще ты нам расскажешь, Том? О честном французе? Об умном немце?
Двор разражается смехом.
– Ну что же, ты вернулся как раз ко времени, к началу войны. Ибо время мира подошло к концу! – восклицает Генрих и поднимает свой вместительный бокал, обозначая тост.
За столом все встают и поднимают свои бокалы, и пьют в честь войны. Слышен шум и скрежет от передвигаемых сидений по деревянному полу. Томас кланяется и возвращается к своему столу. Когда он садится на место, кто-то наливает ему вина, кто-то хлопает по плечу. И он по-прежнему не смотрит на меня.
Дворец Уайтхолл, Лондон
Лето 1544 года
Он не смотрит на меня. Он вообще не смотрит на меня. Когда я танцую в кругу и мой взгляд переходит с одного улыбающегося лица на другое, я никогда его не вижу. Он либо разговаривает с королем, либо беседует и смеется с кем-то из друзей в углу зала, либо за игральным столом, либо смотрит в окно. Когда двор отправляется на охоту, он сидит на высоком черном жеребце, опустив голову, поправляет сбрую или похлопывает коня по шее. Стреляя из лука, он смотрит только в цель, а играя в теннис, сосредотачивается только на мяче. По утрам, на утренней мессе, сопровождая короля и подставляя ему плечо, он никогда не смотрит на верхние галереи, где молюсь я и мои фрейлины. Во время долгих служений, когда я подглядываю сквозь пальцы, закрыв лицо руками, я вижу, что он не закрывает глаза в молитве, а пристально смотрит на дароносицу. И тогда его лицо, освещенное падающим сквозь окно над алтарем светом, кажется мне ангелоподобным. Я закрываю глаза и молча молюсь: «Господи, помоги мне! Забери у меня эту страсть, сделай меня такой же слепой к нему, как слеп он ко мне!»
– Томас Сеймур вообще со мною не разговаривает, – как-то замечаю я Нэн, когда мы оказались наедине перед обедом. Мне интересно, обратила ли она на это внимание.
– Да? Он беспечен, как щенок, и вечно с кем-то флиртует. Но ведь и его брат тоже не проявляет к тебе никакого внимания. Эта семейка крайне высокого мнения о себе, и, конечно, они не захотят, чтобы мачеха Парр заставила всех забыть, что матерью принца была Сеймур. Но со мною он всегда идеально вежлив.
– Сэр Томас разговаривает с тобой?
– Только мимоходом и только из вежливости. У меня нет на него времени.
– Он спрашивал тебя обо мне?
– А почему он должен о тебе спрашивать? – потребовала ответа Нэн. – Он и так все видит. А если захочет, то может спросить у тебя сам.
Я пожимаю плечами с безразличным видом.
– Просто создается такое впечатление, что с тех пор, как он вернулся из Нидерландов, у него больше нет времени ни на кого из фрейлин. А раньше был такой дамский угодник! Может быть, все мысли его сейчас с тою, кто не с ним…
– Может быть, – отзывается Нэн. Видимо, что-то в моем лице напоминает ей о нашем давнем разговоре. – Только тебя это не должно волновать.
– А меня это и не волнует, – соглашаюсь я.
* * *
Теперь я вижу Томаса каждый день, и это всерьез подрывает мою до того уверенно развивающуюся любовь и уважение к королю и отбрасывает меня к тем чувствам, которые обуревали меня перед свадьбой. Словно бы этого года и не было. Я зла на себя: как же так, целый год прожить в благополучном браке – и вот тебе раз, снова влюблена, как девчонка! Мне снова приходится падать на колени и молить Господа, чтобы Он остудил мою кровь, отвратить мои глаза от Томаса, вернуть мои помыслы к исполнению долга и снова полюбить мужа. Мне приходится напоминать себе, что Томас не играет со мною и не терзает мне сердце. Он делает именно то, о чем мы с ним договорились: держится от меня как можно дальше. Мне приходится напоминать себе, что, когда я любила его и наслаждалась знанием, что и он любит меня, я была вдовой, совершенно свободной женщиной. А теперь я – жена, и чувствовать то, что чувствую я сейчас, грешно; это предает мои клятвы мужу. Я молюсь Всевышнему, чтобы Он сохранил меня в отношениях спокойной, исполненной любви и нежности к королю, которые установились между нами, и помог мне оставаться верной женой как наяву, так и в мечтах. Из-за появления Томаса все мои мысли путаются и ко мне снова начинают приходить сны, и сны эти не о счастливом браке и долге послушной жены, а о темных влажных ступенях, о свече в моей руке и об удушающей вони разлагающейся плоти. Во сне я подхожу к запертой двери и пытаюсь ее открыть, а смрад становится все сильнее. Я должна узнать, что находится за этой дверью. Я просто должна это знать. Я очень боюсь, но, как и во всех кошмарах, не могу остановиться. Вот в моей руке появляется ключ, и я прислушиваюсь возле замочной скважины, не донесется ли оттуда звук, какой-нибудь признак жизни. Но в этой комнате тихо, и оттуда пахнет смертью. Я вставляю ключ, поворачиваю его, и дверь пугающе распахивается.
Я просыпаюсь от испуга и резко сажусь на кровати, судорожно ловя воздух. Король крепко спит в соседней комнате, и из открытой двери доносится раскатистый храп и жуткий запах его раны. В спальне так темно, что я понимаю, что до рассвета еще далеко. Я устало выбираюсь из кровати, чтобы посмотреть на новые часы, стоящие на столе. Золотой маятник покачивается из стороны в сторону, и часы издают звук, похожий на стук сердца. Я чувствую, как мое тревожно бьющееся сердце постепенно успокаивается и начинает вторить ритму часов. Сейчас только половина второго, и от рассвета меня отделяют долгие часы. Я укутываюсь в теплый халат и сажусь рядом с очагом, где догорает огонь. Меня одолевают мысли о том, как мне пережить эту ночь и следующий день. Я устало опускаюсь на колени и снова начинаю молиться о том, чтобы Господь забрал у меня эту порочную страсть. Я не искала встреч и любви с Томасом, но и не стала бы противиться этому, если б это случилось. Эта любовь стала западней для меня, я увязла в ней, как бабочка в меде, и чем больше боролась с ней, тем глубже утопала. Я не смогу так жить, стараясь выполнить свой долг перед хорошим, добрым мужчиной, нежным и щедрым мужем, который крайне нуждается в заботе и любви, в то же время мечтая о другом, которому я не нужна, но от одной мысли о нем меня охватывает пожар.
А потом, несмотря на то что я пала жертвой страха и страсти, со мною происходит нечто очень странное. До рассвета по-прежнему далеко, но мне кажется, что комната постепенно наливается светом и угли в камине разгораются ярче. Я поднимаю голову и понимаю, что мой лоб больше не покрыт холодным потом. Я чувствую себя отдохнувшей, словно спала всю ночь и проснулась лишь зрелым, ярким утром. Запах, доносящийся из спальни короля, исчезает, и я чувствую, как мое сердце снова, как когда-то, заполняет сочувствие к нему. Его оглушающий храп меня больше не беспокоит, и я ощущаю радость, что он хорошо и крепко спит. Мне кажется, я слышу голос Бога, словно Он рядом со мною, сошел ко мне в ночь моего духовного испытания, чтобы одарить милостью Своею меня, которая грешила и грезила о грехе. Но, даже видя это, Он даровал мне прощение.
Так я и стою на коленях на каменной плите перед камином, пока серебристый звон часов не отбивает четыре часа, и тогда понимаю, что провела в молитве не один час. Я взывала и услышала ответ. И между мною и Богом не было священника, который принимал у меня исповедь и отпускал грехи, и Церкви, ожидавшей от меня десятину; не было значков паломников[10] или чудесных исцелений. Мне не нужно было ничего из этого, чтобы войти в присутствие Божье. Я просто попросила у него милости – и получила ее, как Он и обещал в Библии.
Я поднимаюсь с пола и возвращаюсь в кровать, немного дрожа от того, что мне кажется великим потрясением и воодушевлением. Я получила благословение Божье, именно так, как Он обещал. Он сошел ко мне, грешнице, и милостью Его я получила прощение и отпущение грехов.
Дворец Уайтхолл, Лондон
Лето 1544 года
Армия готовится к отправлению на Францию. Томас Говард уже отплыл с авангардом, но король все медлит.
– Я вызвал своего астронома, – говорит он мне, когда мы идем с утренней службы. – Идем со мной, послушаем, что он скажет.
Астроном короля так же хорошо, как и любой европейский ученый, разбирается в движении звезд и планет и может определить лучшую дату для любого события, в зависимости от того, какая планета стоит в доминирующем положении. Ему выпадает сложная задача – балансировать между описанием известных и хорошо видимых движений небесных тел, что является наукой и искусством предсказания будущего, что уже само по себе есть нарушение закона. Если он позволит себе предположить, что король заболеет или получит ранение, это уже будет изменой; любые события из будущего, которые становятся доступны его взору, должны быть описаны с крайней осторожностью. Но Николас Кратцер уже много раз составлял для короля гороскопы и знает, как именно подавать ему совет или предупреждение, чтобы не нарушить закон.
Генрих зажимает мою руку под своим локтем и опирается на пажа, чтобы проследовать в свои покои. За нами следуют дворяне из свиты короля и мои фрейлины. Где-то там, среди них идет Томас Сеймур, но я не оглядываюсь. Мне кажется, что Господь спросит с меня за данное слово, поэтому я никого не стану искать глазами.
Мы проходим через приемный зал, и большая часть свиты остается там, а с нами идет только несколько человек. Там, в одной из комнат короля, на середину выдвинут огромный стол, на котором разложены схемы и карты, прижатые к поверхности стола маленькими золотыми астрологическими знаками. Николас Кратцер уже ждет нас там, поблескивая голубыми глазами и держа в одной руке длинную указку, а в другой теребя пару золотых символов. Увидев нас, он низко кланяется и остается ждать распоряжений короля.
– Я вижу, ты подготовился. Хорошо. Я пришел тебя послушать. Рассказывай, что ты думаешь. – Король подходит к столу и тяжело на него опирается.
– Правильно ли я понял, что у вас достигнут союз с Испанией, чтобы вместе идти на Францию? – уточняет астроном.
Генрих кивает.
– Даже я об этом знаю! – перебивает Уилл Соммерс из-под стола. – Если это и было предсказание, то я мог бы сделать его и сам. Или найти на дне кружки с элем любой пивной за пределами Тауэра. Для этого мне не надо смотреть на звезды. Дайте мне денег на кувшин эля, и я сделаю вам любое предсказание!
Астроном улыбается, глядя на короля. Судя по всему, его совершенно не задевают слова шута. Я замечаю, что в комнату за нами зашли еще несколько человек. Томаса среди них нет. Двери плотно закрываются. Может быть, он остался ждать в приемном зале или отправился на конюшню, проведать лошадей, или в свои комнаты. Наверное, он избегает меня ради нашей же безопасности. Как бы я хотела быть в этом уверенной! Но мне никак не справиться с навязчивым страхом, что его просто больше не тянет ко мне, что он избегает меня для того, чтобы избавить нас обоих от стыда и неловкости за некогда пылавшую, но теперь угасшую любовь.
– Итак, сначала я покажу вам гороскоп императора Испании, вашего союзника, – говорит Кратцер. Он выкладывает одну схему поверх остальных и начинает рассказывать, что влияние императора возрастет этой осенью.
– А вот гороскоп короля Франции, – и по комнате проносится заинтересованный гул, когда по схемам становится ясно, что Франциск Французский входит в фазу слабости и разрухи.
– Многообещающе, – замечает Генрих, явно довольный предсказаниями. Потом он смотрит на меня. – Как тебе кажется?
Я не слушала их, но изображаю вид вдумчивый и заинтересованный.
– О да!
– А вот гороскоп Вашего Величества.
Николас указывает на самую сложную схему. Там есть всё: символы Марса, псы войны, копье, стрела, башня; все это тщательно вырисовано и раскрашено.
– Видишь? – не унимается король, подталкивая меня локтем. – Воинственно, не правда ли?
– В вашем доме поднимается Марс, – говорит астроном. – Редко у кого я видел такое сосредоточие мощи.
– Да, да, – одобряет король. – Я об этом знал. Ты увидел это по звездам?
– Разумеется. Только вот здесь таится опасность…
– Какая опасность?
– Символы Марса также обозначают и боль, жар в крови и боль в ногах. Я беспокоюсь о здоровье Вашего Величества.
В комнате раздается одобрительный ропот. Мы все беспокоимся о здоровье короля. Он думает, что может отправиться на войну, как молодой, в то время как не в силах дойти до обеденного стола без помощи и поддержки с обеих сторон.
– Мне уже лучше, – спокойно говорит король.
Астроном кивает.
– Конечно, прогнозы у вас хорошие, – говорит он. – Если лекари смогут удержать в узде жар от вашей старой раны. Только, Ваше Величество, помните, что эта рана была нанесена оружием и, подобно ране, полученной в войне, она будет причинять больше боли по мере роста Марса.
– Значит, она будет меня слегка беспокоить во время похода, – по-прежнему спокойно отвечает король. – Так говорит твой гороскоп, астроном. Это твои предсказания.
Я тихо улыбаюсь. Меня всегда восторгала упрямая отвага короля.
Астроном кланяется:
– Да, разумеется, таковы мои предсказания.
– Дойдем ли мы до Парижа?
Вопрос очень опасен. Все королевство, весь двор отчаянно не желали, чтобы король продвигался походом слишком глубоко во Францию, но ни у кого не хватало смелости сказать ему об этом.
– Вы дойдете так далеко, как захотите, – благоразумно отвечает астроном. – Такой полководец, как вы, с вашим опытом сражений за свою землю, будет сам решать, куда и как продвигаться, как только увидит размеры и размещение сил противника, ландшафт, погоду и боевой дух своих солдат. Единственное, что я могу здесь посоветовать, это не возлагать слишком тяжелые для выполнения задачи на саму армию. Но что может сделать с такой армией, как ваша, такой король, как вы? Об этом не знают даже звезды.
Король доволен предсказанием. Он кивает пажу, и тот протягивает Кратцеру тяжелый кошель. Все присутствующие в тот момент рядом стараются не ощупывать его взглядами.