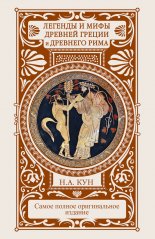Яблоко от яблони Злобин Алексей
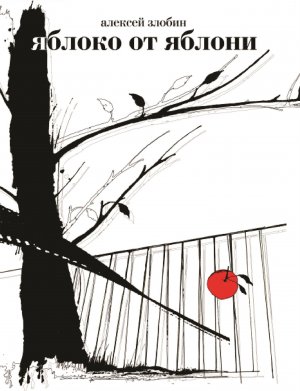
Первым сорвался режиссер-стажер Юрий Владимирович Оленников:
– Вашу мать, безобразие, группа! – Он завис в свирепой паузе, собрал общее внимание, продолжает: – Когда вы наконец научитесь слушать режиссера, я вас спрашиваю!
Все недоуменно оглядываются по сторонам, а Юра витийствует, впадая в набатную нотацию, что совершено несообразно с его прежним образом.
– Че шумишь? – тихо любопытствую я. – Все же вроде нормально: работаем, готовим кадр.
– А вы не вмешивайтесь, Алексей Евгеньевич! – ревет Юра мне, стоящему в шаге перед ним.
– Рехнулся ты, что ли, в чем дело?
– Я сказал налить в эту лужу больше воды, почему не сделали?
– Сейчас нальем.
На подъеме к площадке показывается Светлана Игоревна с корзинкой.
Рабочие несут воду, заливают лужу, я что-то указываю, уточняю, и вдруг за спиной кричит Кармалита:
– Ты не смеешь так разговаривать с Юрием Владимировичем, он режиссер, и ты обязан беспрекословно подчиняться!
Я немею – сговорились они, что ли, что за цирк?
А Светлана Игоревна вопит, да так громко, что либо ее сейчас удар хватит, либо меня – контузия. В этот момент за ее спиной вырастает Герман, и комариным писком тонет ее крик в негодующем громе его баса:
– Светка, я сейчас уйду с площадки, это безобразие, что за хамство – орать на члена съемочной группы, тем более на режиссера!
– А я, Лёшенька, не на режиссера ору, – хрипит Кармалита, – правда, Юра? Я на Злобина ору!
– А я Злобина и имею в виду, – грохочет Герман. – Не смей при мне оскорблять членов режиссерской группы!
Как-то питерская актриса Оля Альбанова на гастролях в Чехию навестила наши съемки в Точнике, где в арканарской яме мы месили грязь под проливным дождем. Время от времени прибегала Светлана Игоревна и «моторила» площадку, что-нибудь кричала – до хрипоты, продрогшая, промокшая насквозь, с прилипшей к губе, погасшей на ветру сигаретой. Оля вздохнула: «Какая у тебя трудная работа, я даже не представляла. А Кармалиту как жалко!»
Да, жалко. Она изо всех сил пытается примирить абсолютную бескомпромиссность Германа, его, как сказал Фоменко, гениальный эгоизм с реальными условиями съемки, инерцией огромной группы, срывами сроков и тем, что многое, многое не получается. Она говорит ему, что он красивый и сильный, не пускает на первые просмотры материала, чтобы, если «счастье есть», – предупредительно порадовать, а если «счастья нет», – настроить соответственно. Порой кажется, она – его шарик воздушный, хрупкий, готовый в любой момент хлопнуть и исчезнуть. Но чаще – спасайся, кто может! – в силу неуемности натуры, необузданной ревности к единственному Лёшечке. Вот и теперь – ну мечтал ли я оказаться в этом жерле семейного Везувия?
– Я не на режиссера ору, а на Злобина!
– Светка, убью! Сию же минуту замолчи! – с навеса гасит Герман и нежно обращается к Юре Оленникову: – Давай, Юра, отдрессируй артистов.
Наступает внезапная тишина, будто и не было этих воплей. Появляется Ярмольник:
– Всем добрый день!
– Добрый день, Лёня, – корректно приветствует артиста Алексей Юрьевич и продолжает самым неожиданным и ошарашивающим меня образом: – Да, Алексей Евгеньевич, – подчеркнуто вежливо говорит он, – прошу вас, распорядитесь эту лужу углубить, к тому столбу привязать осла, здесь и здесь положить манекены в монашеских рясах.
– Хорошо, Алексей Юрьевич.
– Юрушка, – зовет Герман Оленникова, – пойдем обсудим кадр.
Они уходят, растягивая по съемочной площадке шлейф покоя и здоровой рабочей атмосферы.
– Лёха, привет!
– Привет, Леонид Исакыч, что это с ними со всеми?
– Прости, кажется, я тебя погубил.
И Лёня просто, без обиняков объяснил, в чем дело:
– Мы сели разговаривать: я, Клименко, напротив Герман, Кармалита и Извеков.
Герман говорит: «Группа устала и распустилась, только Юрка Оленников один все тянет, а Злобин обнаглел вконец. Как все трудно идет, не выдерживаю, наверное, я не режиссер, не профессионал». А Клименко, представляешь, жует форель, глядит в тарелку, не слушает ни фига и соглашается: «Да-да, Алексей Юрьевич, абсолютно с вами согласен – конечно, вы не профессионал и не режиссер!» Кармалита бледнеет, Витя Извеков ломает зубочистку, а у Юрича желваки ходуном, и сопит свирепо. Я вижу – запахло жареным, возвращаю Германа к его мысли, чтобы отвлечь, заодно и тебя решил поддержать: «Алексей Юрьевич, – говорю, – Лёшка Злобин замечательно работает, увольте всю группу, ха-ха, в первую очередь Оленникова, ха-ха-ха, и оставьте одного Злобина». Я, конечно, пошутил… отчасти… но Герману, видимо, стало не до шуток. Он со всем согласился, поблагодарил Клименко за искренность и мне руку пожал. Так что прости, сдал я тебя. Обещаю, если уволят, голодать не дам – будет работа, заберу тебя в Москву.
Потом был банкет по случаю сотого кадра, и эта шутка – черт меня дернул шутить. Гуляли до утра. Из Праги приехал Петр Вайль, журналист и писатель с Радио Свобода, они с Германом давние друзья.
Впечатался в память нежный утренний кадр: идут на рассвете в обнимку через площадь два пожилых, неожиданно помолодевших человека, не от водки, конечно, а так, расвспоминались, отогрелись:
– Вот я, Петя, прости ты меня – барин. Я должен стоять на балконе усадьбы и командовать крестьянам: работай хорошо, не ленись! А ты, Петр, мировой голос совести, ты целым странам говоришь: «Греция, вы не правы, Турция, откройте тюрьмы, Россия – покайтесь!»
– Ты совершенно прав, Лёша, но почему-то ты никогда меня не слушаешь.
– Что, я не слушаю?
– Ну да.
– Правильно, я же барин.
– Конечно, барин, и все-таки ты не прав.
И медленно удаляются две обнявшиеся фигуры – глаз не оторвать.
Когда завершали съемки в Точнике, долго снимали трудный кадр с большой насыщенной жизнью второго плана. Скачущие всадники, горящие костры, трюки…
Герман посмотрел на все в целом, сказал, что это марсианское кино, и перекрыл двумя фигурами по первому плану. А второй так и работал в сложно построенном взаимодействии. Если это кто-нибудь увидит, то в самых общих чертах, тем более что основные дубли сняли уже в темноте, при свете костров, в глубоком тумане. Но видимо, не бывает напрасным прекрасное.
Я громко объявил конец смены и завершение сложного объекта. Обе группы, и чешская, и наша, ликовали, будто во время салюта Победы.
Теперь подходит к концу экспедиция – остался пустяк, две-три смены на «тропе смерти».
В юности казалось, что жизнь, ее развитие – это стремление к совершенству, к более совершенному, чем ты есть. Сейчас вспоминаю, что тогда, прежде, считал себя более совершенным, нежели теперь. И весь путь оказывается путем признания себя, принятия себя. Такого несовершенного, несчастного и не то что греховного, а так – беспомощного в собственных глазах.
Прочитал у кого-то: стыд – это гнев, обращенный вовнутрь. Всплыл эпизод: я вел видеоконтроль, записывал съемку, и важнейший дубль сцены, сам не понимаю как, стер. Герман, издерганный, что у Лёни что-то не получалось, потребовал этот дубль. Хотелось сгореть, провалиться сквозь землю. Узнав, что дубль стерт, Герман даже кричать не стал. А мне не забыть.
Сидя за дальним столиком кафе, наблюдаю за нашими. Все разговоры, темы, все слова считываются легко и безошибочно. Стали они мне ближе? Не знаю, не думаю. Здесь, когда мы неразлучно вместе, нам важнее, дороже наши различия. Уже четыре месяца, и мы вымотались. Интересно, как люди воевали четыре года? Весь мир был тогда больным и свихнутым. Куда бы ни пришел – везде война. А здесь мешает, что есть дом.
Всякое «хорошо» напоминает о детстве. Утро пасмурно, горы дышат туманом, по траве роса, по волосам – морось…
Вся минувшая, ночная шумная веселость с ее суетой забыта – никак не отражается, не помещается, не проникает в это утро, утро другой планеты, утро возраста.
Вдруг привиделся и услышался спектакль, который давно хотел поставить, пришло решение. Это признак оттаивания, возвращения. Как в реанимации «эффект палатки»: одеяло поднимается вследствие эрекции выздоравливающего. И глаз сразу переходит в игровую, фантазийную реальность. Все, с кем еду в автобусе, вдруг увиделись маленькими детьми: и Слава с Антоном, и художник Олег Николаевич, и Юра Оленников – все. Я вижу их маленькими и с веселым интересом рассматриваю каждого, находя подтверждение фантазии.
Мы едем в Чески Крумлов. Вспоминаются Таллинн, и Рига, и детские летние месяцы в Прибалтике, куда ездили с отцом. Отчего так хорошо? Но как вспомню о нем, об отце… через кого многое мне открылось, – тут же вспоминаю, что его уже нет. И Чески Крумлов превращается в декорацию, из которой ушли артисты.
…Подоконник в бельэтаже гостиницы. Только что отшумела ночная гроза. Светает.
Я смотрю в окно. Мне 28 лет. Когда было пять, я смотрел так же. Ранний подъем.
За ночь сделалось пасмурно. Утро серое, теплое, легкий дождь ретуширует башни костелов и ратушной площади. Все хорошо, и не видеть этого – глупо. Стыдно. Пошло. В зеркало смотрю – гадкий, толстый, сытый.
– Папа, я больше не буду таким… Не буду никогда, и тогда мы встретимся.
- Отец присел, раскинув руки,
- а я бегу к нему, я тоже
- раскинул руки; день разлуки
- избыт, забыт и подытожен.
- Закат в саду на Черной речке.
- Отец присел, садится солнце,
- и я бегу, а он смеется…
- Бегу крестом на крест отцов,
- в объятья, в неизбежность встречи.
- И он возьмет меня на плечи —
- и мы уйдем, в конце концов.
Но прошло время, и снова я такой, даже много худший. Где же кротость голубя и мудрость змея?! Только – стыд, суета и ад мелочей.
Завтра выходной, как здесь говорят, вольный.
Вчера зашел к Юре в номер. Он, обхватив руками колени, раскачивался из стороны в сторону, разве что не стонал.
– Какое горе, Юрий Владимирович?
– Лёшка, я в ужасе – что будет дальше, какой-то тупик, страшно.
– Что именно?
– Куда мне возвращаться? Родителям четыре месяца не звонил, боюсь – а вдруг померли, Н. меня уже забыла, наверное, квартиры нет – сдал еще до отъезда, с братом враздрызг, сына потерял – мне тридцать пять лет!
– Ну вот, задумался! Слушай, у тебя носки грязные есть?
– Ну есть, а что?
– Пойди постирай носки.
– Зачем?
– Встань и постирай!
Юра нехотя поплелся в душевую, и десять минут лилась вода. Вернулся, развесил носки на батарею.
– Теперь позвони родителям.
Юра ушел звонить. Вернулся довольный:
– Живы. Н. я тоже позвонил – она меня ждет.
Если бы Юра, которого я ждал в номере, и Юра, который вернулся сейчас, встретились – они бы не узнали друг друга.
С тех пор, когда теснит и кажется, что непродых, я говорю себе: «Лёша, постирай носки» – и иду стирать. Сейчас, записывая это, без работы, без снятого фильма, так и не став режиссером, я стираю носки – пишу страницу за страницей этот дневник про Германа, про когда-то настоящую жизнь. И мне легче.
И вот сижу на чемодане. Один. Вежливая гостиничная девушка вызвала мне такси до аэропорта. Вечером того же дня в Петербурге на Моховой встречаю Михаила Семеновича Богина, который привел меня когда-то на эту картину. В коляске маленькая дочка, рядом молодая Мишина жена:
– Ты из экспедиции?
– Угу.
– Закончили съемки?
– Нет, но я уже вернулся.
– Понял. Заходи через часок, водки выпьем – у меня день рождения.
Не зашел. Почему? Знать бы, что встреча последняя.
А еще через день на «Ленфильме» директор сияюще приветствует меня:
– Алексей, зайдите в бухгалтерию.
– Так ведь еще не зарплата?
– Зарплата – персонально для вас.
Там меня рассчитали. Все четко – до копейки. Ни тебе разговоров с Германом, ни с Виктором Михайловичем, продюсером. А просто – получите расчет.
По дороге со студии наблюдал чудесный эпизод в метро. Двери открываются: на платформе инвалид на каталке, кто-то дает ему двух рыбок в полиэтиленовом мешке. Он сует руку, достает средних размеров окуня, принюхивается. Вдруг окунь – взбрык! – выскальзывает из рук и упрыгивает по полу от инвалида. Тот звереет, хватает палки и катит за окунем. Рыба упорно пляшет к выходу в сторону эскалатора. Наконец беглец пойман и с отчаянной жестокостью шарахнут башкой о мраморный пол. Присутствующая интеллигенция морщится, а какой-то дедок вопит:
– Так ему, падле! Нехуй! Распрыгался, понимаешь!
Удовлетворенный счастливой охотой инвалид возвращается на место, держит окуня за окровавленную морду и обнаруживает, что у него сперли шапку с деньгами. Дед-болельщик шмыгает с шапкой в уходящий поезд. Двери закрываются.
Вечером позвонил Юра, сообщил, что Клименко уже не работает на картине. Теперь перерыв на два месяца, как раз построят декорации и освободится оператор Владимир Ильин, с ним Герман снимал «Хрусталева».
В сухом остатке
Даже не знаю, что в большей мере определило для меня эту личность, ее значение в моей жизни. Этот напряженный, продолжительный период общения, работы, страстей – или обрыв связи. В образовавшейся дистанции многое переосмыслилось, прояснилось, стало понятно, чт в сухом остатке.
За время до весны 2001 года случилось многое: похоронили Мишу Богина и следом Николая Лаврова, я отработал свою первую картину в качестве режиссера на дебюте Сережи Бодрова «Сестры». Как жаль, что дебют стал последней его картиной. Но это другая история, скажу одно: несмотря на бльшую ответственность и полномочия, я чувствовал себя ненужным, все казалось каким-то игрушечным и случайным после работы с Германом. Я почувствовал и осознал горечь отсутствия настоящего процесса, недостатка трудностей, преодоление которых приносило счастье, я ощутил себя в сухом остатке.
По студии ходили знакомые персонажи в средневековых костюмах и страшном гриме, кипела работа в павильоне на первом этаже «Ленфильма» – все это было уже не про меня и казалось какой-то дурацкой ошибкой, сбоем, вызывало недоумение. Есть гаденькая киношная присказка, которую особенно любят повторять продюсеры: «В кино незаменимых нет». Не ты, так другой, не справился – всегда есть дубль.
В своем случае я ощущал иное – я сам отказался от своей незаменимости и встал на поток, где лица неразличимы и всем, в общем-то, плевать, ты или не ты здесь и сейчас, на этом месте в эту минуту.
Жестокость и несправедливость Германа оскорбляла, подчас доводила до слез; мириться с его особенностями было практически невозможно; но, поверьте, безразличие – хуже, много хуже. И еще немаловажный фактор – масштаб личности, уровень собеседника. Пожалуй, задним числом, когда все отболело и забылись обиды, можно уверенно сказать, что именно болело и что мучило в работе с этим человеком. Не в нем дело, не в сложностях характера, в этом я никогда не разберусь, да и ни к чему. А про себя, про свою боль знаю одно – это была болезнь роста. Расти трудно, и мышцы ноют после тренировок, и болят ушибы от пропущенных ударов, но тот, кто действительно что-то по-настоящему выбирал в жизни, знает: боль эта – во благо.
А после понимаешь еще точнее и проще: тот, кто бился с тобой, нанося удар за ударом, что-то непременно и постоянно требуя и вымучивая, боролся не с тобой, а за тебя. Даже если и не ставил себе такой задачи. Просто его уровень выше и серьезнее, и стремление к нему, попытка прорваться естественно связаны для тебя с болью, как родовая мука, – а в ней не только младенец терпит, правда ведь?
По Питеру талым снегом и низкими тучами поползла весна 2001 года, не суля облегчения после безработной зимней спячки, загулов и томительных воспоминаний о настоящем деле.
Однако вдруг, вдруг… Как часто бывает, то долгое ничто, то это «вдруг» обрушивается на тебя какой-нибудь лукавой дилеммой. Позвонили из Самары, пригласили в маленький театр ставить большой спектакль – «Улыбки летней ночи» Бергмана.
И тут же позвонил Герман.
Этот звонок ошарашил бы меня, если бы не короткая встреча накануне в просмотровом зале «Ленфильма». Показывал свою учебную работу Юра Оленников, позвал меня. В зале были и Кармалита, и Алексей Юрьевич.
– Здравствуйте!
– Привет, Лёшка.
Потом он что-то говорил о Юриной работе, а я слушал взахлеб – о родная музыка, о дым отечества! Вот сейчас бы ему впору повторить: «Лёшка, меня любить – это не профессия!» – да, я был не с ним, а стало быть, не в профессии. Прощаясь, я сказал два слова: «Спасибо, соскучился».
И вот 8 марта утром звонит телефон.
– Да, слушаю?
А в трубке басок:
– Как ты понимаешь, я не с женским днем звоню тебя поздравить, свободен сегодня?
– Конечно.
– Приходи, поговорим.
Фальстарт
В подъезде Германа 144 ступени и девять площадок, их квартира последняя, на шестом этаже.
Раза четыре я нажимал звонок и слышал за дверью:
– Светка, открой!
Потом тяжелое шарканье по коридору:
– Лёшка, ты?
– Я, Алексей Юрьевич.
– Светка ушла, кажется, ключи забрала, ты не можешь меня открыть?
– С удовольствием, но как?
– Да, действительно никак. Хорошо, что пришел, сварить тебе кофе? Впрочем, я не знаю, где у нас кофе.
– Спасибо, Алексей Юрьевич, я не буду, наверное.
– Ну как хочешь. Дело в следующем: я устал от их жалоб на тебя, ты вконец обнаглел и зарвался, как Мейерхольд…
«Интересно, – подумал я, – а он знает, какое сегодня число, время года, тысячелетие? Будто не прошло для него три четверти года с нашей последней встречи».
– Кто – они, Алексей Юрьевич?
– Да все – директор, администрация, группа – жалуются.
– До сих пор? Польщен. На вас они, кстати, тоже жалуются.
– Кто?
– Да все.
– Пожалуй, неудивительно.
– Вот-вот, мало ли кому охота…
Он перебивает:
– Ты не знаешь, где Светка оставила эти чертовы ключи?
– Может, ей позвонить?
– Может, а как? Где телефон? Ты знаешь ее номер?
Я набрал номер на мобильнике:
– Светлана Игоревна, Алексей Юрьевич хочет вас слышать…
– Да не хочу я ее слышать, пусть скажет, где ключи, – несется из-за двери; а из трубки:
Лёша, передай трубочку Алексей Юрьевичу. Котя, дорогой, не волнуйся, ключи у меня, что?
– Светлана Игоревна, это Лёша Злобин, я не могу передать трубку, я на лестнице стою, а Алексей Юрьевич в квартире за дверью, дверь закрыта, ключей нет, он хочет с вами поговорить.
– Да не хочу я с ней говорить, пусть дверь откроет! – бурчит Герман.
– А в чем дело, Лёша? – удивляется Кармалита. – Дверь изнутри открывается без ключа.
– Алексей Юрьевич, дверь открывается без ключа!
– Откуда я знаю?!
– Это не вопрос, это сообщение, Светлана Игоревна говорит, нужно пумпочку покрутить влево. И она сама сейчас придет уже скоро и сварит нам кофе.
– Я не хочу кофе.
– Но дверь, может быть, откроете?
Щелкнул замок, дверь открылась. Удивленный этим фактом, на пороге стоял и улыбался Алексей Юрьевич.
– Спасибо, Лёшка, – сказал он мне.
– Спасибо, Светлана Игоревна, – сказал я в трубку.
– Молодцы, ребята, – сказала Светлана Игоревна.
Руку Герман подает так: «На, пожми», – небрежно соглашаясь с условностью приветственного жеста. Рука неожиданно мягкая и маленькая, совсем не согласуется с привычным обликом боевого бегемота. Одинокого боевого бегемота, древнего зверя, медленно идущего в одиночестве напролом по опустевшей от врагов муравьиной чаще; его враг невидим, он то ли призрак, то ли память. В рукопожатье – ускользание, потому и кажется узкой ладонь, что не ухватываешь ее в основании. Только пальцы. Его внимание не сосредоточено ни на этом жесте, ни на этом моменте вообще. Разговор ведется с той точки, в которой сейчас сквозит или блуждает его мысль, он сразу выясняет важное для себя, как тогда за обедом в Чехии:
– Как тебе кажется, если Румата поднимет руку от бревна и, не замечая, что она в кровавой слизи, проведет по лицу и лицо станет кровавой маской?
– Здорово, Алексей Юрьевич.
– Ну хорошо, пока…
А мимо уже идет кто-то следующий, Коля Астахов, например:
– Коля, а что если Румата…
Так он проигрывает важнейшие кадры фильма, представляя их воображению прохожих. Поэтому он никогда не запомнит, как открывается дверь, если нет ключей, и где в доме кофе.
Мягкая некрупная рука ускользает в приветствии, Герман идет в кухню, садится в углу:
– Собственно, я все уже сказал. Хочешь кофе? Я, правда, не знаю, где кофе.
– Спасибо, хочу. Но я тоже не знаю, где кофе, а вы, Алексей Юрьевич, так ничего и не сказали, кроме того, что они жалуются.
– Ну и пусть жалуются. Мы сейчас входим в павильоны, пока строится декорация на дамбе, до июля, наверное. Потом дай бог осилить дамбу – там будет сложно.
– Прекрасно, и?
– Что – и? Послезавтра выходи на работу.
– Здорово, но я не могу.
До этого момента смотревший будто сквозь меня Алексей Юрьевич сфокусировался и как будто назвал меня по имени, имя звучало так:
– Почему?
– Послезавтра я еду в Самару ставить спектакль.
– Отказаться не можешь, перенести?
– Слово дал, там ждут, премьера в репертуарном плане, да к тому же я сам хочу сделать этот спектакль.
– Какой?
– По Бергману.
– Достойно. Совсем обалдели.
– Что?
– Они сказали, что ты свободен.
– Кто?
– Ну все – Марина, Феликс.
– Видимо, у них устаревшая информация, но мне никто не звонил, откуда взяли, что я свободен?
– Вот и говорю – обалдели. Хорошо, езжай в свою Самару к своему Бергману, вернешься когда?
– В мае.
– Значит, в мае и будет послезавтра.
В коридоре слышится шум, вернулась Кармалита.
– Света, свари Злобину кофе, а то ведь Бергман ему не предложит.
– Какой еще Бергман, Лёшечка?
– Какой-какой – Ингмар, из Самары. Ладно, Лёшка, дуй в свою Самару, до мая подождем. Светка, а Феликсу скажи, что его двадцатилетний стаж в КГБ неактуален, Злобин-то, оказывается, тю-тю!
– Да что ты, Котик, обалдели они совсем?
– Не знаю, свари лучше кофе.
– А где кофе? Вы разве еще не пили кофе?
Я прощаюсь:
– До свидания, Алексей Юрьевич, до мая.
В Самаре на банкете один из гостей поднял тост, тем более ценный, что этот актер репетировал в «Улыбках» главного героя в паре с другим актером, народным и опытным, – и тот его сожрал. Бывает. А тост звучал так: «Ребята, дорогие, у вас все получилось, молодцы. Но получилось бы еще лучше и больше было бы радости от процесса, если бы вы… Ну вот вы объявили себя экспериментальным театром и пригласили молодого режиссера, знаете, одно пожелание на будущее, или сожаление о неслучившемся, как хотите: надо доверять, уж если позвали – надо доверять – это ваша профессия. А в недоверии режиссеру – только война и залог недоверия зрителя. Простите, дай вам бог!»
Я живо вспомнил гремучий мартовский денек, 27-е: готовили банкет за кулисами, чтобы после репетиции праздновать Международный день театра, а репетиции не было, все сидели в зале, накопились вопросы, точнее – претензии. Это называется обструкция: одни не хотят, другие не понимают, то есть тоже не хотят, третьи хотят и понимают, но молчат – их дело сторона, не ссориться же между собой, режиссер уедет, а им здесь жить. Гробовое молчание.
– Ну, – говорю, – какие вопросы, пожелания?
Отвечали неохотно, сбивчиво и подолгу, свелось все к следующему:
– Не понимаем вашего метода репетиций, какое-то кино, вы же в кино больше работали? Вот мы и не понимаем, Станиславский говорил…
Когда хотят угробить, непременно зовут Станиславского, и К. С., весь в бровях и с сединой, приходит и утробным басом валит насмерть: «Не верю!»
– Кто, – спрашиваю, – еще не понимает, кроме вас и вас?
Молчание.
– Видите ли, автор, которого вы приняли к постановке, Ингмар Бергман – в некотором смысле кинематографист, более того – инсценировка сделана по киносценарию с бесконечной сменой мест действия, наплывами, внезапными переходами и блестящими лаконичными диалогами. Это действительно требует несколько иного, непривычного подхода, иначе действие потеряет живость. И надо не бояться «играть в кино», быть ироничными, дурачиться даже в самых серьезных местах. Просто быть смелее.
А по поводу себя скажу, я тут поймал оттенок раздражения, когда вы произнесли это словечко «киношник». Знаете, да – киношник, но вы же сами меня позвали.
– Я вас не звала! – сипит пожилая актриса.