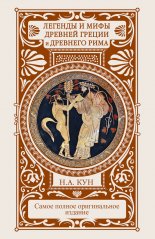Яблоко от яблони Злобин Алексей
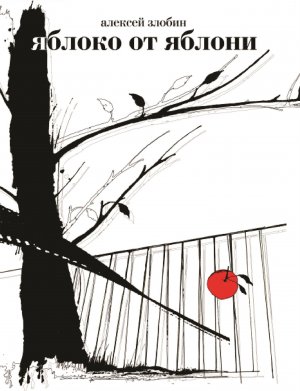
Когда во Франции Герман позвонил Тарковскому, тот уже тяжело болел, не мог говорить.
А я в Питере хотел в третий раз посмотреть «Хрусталева», пришел в единственный кинотеатр, где его показывали, мне сказали: «Показ состоится, если будет продано больше двух билетов», но второго не нашлось, и гэбиста на велике рядом не было.
А он снимает, несмотря ни на что. Для кого – трудный вопрос.
Не любит слово «импровизация»:
– Давайте остановимся, не будем импровизировать, здесь надо подумать, переждать.
Всмотреться, вслушаться, увидеть – вспомнить. А вокруг сплошной поток, вал, производство, сроки, обязательства, нелепая «готовность», ложное «понимание».
Представляю себе: несется мощная горная река, шум, брызги сверкают на солнце. А ты сидишь и сосредоточенно держишь внимание на своем отражении, на том, что неподвижно. Время идет, и вдруг в эту неподвижность вплывает рыба.
Снято.
Едет в загородном автобусе мужик с собакой, улыбается, смотрит на меня. И я будто вижу его насквозь – его жизнь, заботы, переломы. Он выходит у автопарка, чтобы потом вернуться в мой сценарий, обрасти моими вымыслами. И при следующей встрече вымыслы оказываются правдой.
Поселок Грузино.
Дозорька, декабрьская ранняя тьма за окном. Снегири – привет от отца.
Человек с изувеченным лицом, его дом с тремя кошками и собакой Алисой – все как в сценарии, больше сценария. Что-то я угадал тогда, мельком увидев это лицо, разбитое в аварии в 1993-м году. В город не выезжает, живет в поселке сторожем. Его навещает жена, она работает в детдоме. А был когда-то Василий Долгополов чемпионом Ленинграда по гребле.
Потом мы шутили: выбрали для съемок самый короткий день в году. Это нас так мобилизовало, что всю натуру отсняли за полтора часа. Могло не быть ничего, но вечером позвонил Андрей Вакорин: «Завтра снимаем?» Я растерянно сказал: «Да». Взяли две камеры, утром Андрей вызвал второго оператора – Женю Кордунского.
Вася показал фото на водительских правах: «Смотри, какой был!» – и грустно улыбнулся. На снимке обычный полковник – никогда бы не обратил внимания. Но авария стерла форму до содержания. Вася сел у печки, поставил бутылку водки – и полилось. Мы не успели снять первый монолог, самый горький и всеобъемлющий. Я впился глазами в Васю, а операторы без команды не включили камеры, потому что тоже обожглись услышанным. Из этого монолога росли остальные. Много историй, одна наскакивала на другую. Про сценарий пришлось забыть, только бы успевать следить за ним, не упускать ничего, держать его внимание на плаву наводящих вопросов.
У него все – в прошлом, все лучшее – там. Он и нас поместил в прошлое как недопустимую, невозможную в настоящем радость. Радость стороннего внимания к нему. Когда уходили, уже был пьян, открыл глаза:
– А знаете, ко мне приезжали кино снимать. К обычному сторожу, Васе Долгополову…
Настоящего у него нет, все, что было после аварии, – все один день. Стерло человеку лицо. И хлынула судьба.
– Вася, сколько тебе лет?
Задумывается надолго, потом машет рукой.
– Я – сорок девятого года.
Заговорил о сыне.
– А сыну сколько?
– Не знаю, он семьдесят первого.
– Вася, что значит одиночество?
– Один и ночь.
Я решил назвать работу «Бабочка». По контрасту и потому что – нежная душа в этом камне из шрамов.
Многие, кто посмотрел, сказали: «Вася ваш похож на Германа».
Задание выполнено. Пусть Алексей Юрьевич выздоравливает поскорей и посмотрит.
Кино – это дежавю, кино – это страшное внушение, оно может быть, даже если тебя самого нет, как страх или счастье, мелькнувшие мимо. Кино невозможно сочинить, придумать, хотя на стадии сценария можно, но сценарий – не кино. Кино нельзя вообразить – я воображаю себя в некоторую реальность: ах, я принц или Фантомас… нельзя… мне кажется… кино – это: «Я вижу!»
Когда ты вдруг растерялся, «потеряв кино», отходишь в сторону, закрываешь глаза: «Эврика! – вспомнил». Поворачиваешься к съемочной площадке, к экрану, к человеку, к цветку, к эпизоду на улице, к плевку на асфальте и говоришь: «Я вижу».
Если не видишь – не кино.
Кино нужно видеть, а не видишь – зря стараешься.
Дом Васи я видел, и самого его видел, и собаку его. В кармане лежал сценарий, я так и не достал его ни разу. Вася сел, открыл рот – и пошло кино. Мы возвращались по ночной обледеневшей трассе, в сумке на коленях лежали две кассеты с материалом, и я бормотал:
– Только бы не авария, только бы не врезаться, а если что – лишь бы кассеты не раскололись – там же кино!
– Лёшка, где ты его нашел?
– Встретил, Алексей Юрьевич, в загородном автобусе. А мама сказала, что Вася похож на вас.
– Злобин, не ври, – встряла Кармалита. – Лёшка еще красивее.
– Светка, неужели? Чем этот беззубый человек со шрамом?..
– Конечно, Лёшечка, ты у меня еще лучше. Но Злобин молодец. Если этот беззубый, весь в шрамах, полуспившийся человек вызывает у меня интерес и хочется жить рядом с ним, – кино получилось.
Но стреляного воробья на мякине не проведешь:
– Да, молодец Злобин – обманул. А теперь, Алексей Евгеньевич, все же придумайте ваш текст, который этот человек скажет, и чтобы я ему поверил, что это его текст, его жизнь.
Пусть он пишет письмо своей бабе в город, чтоб приехала, носит эти письма в магазин кассирше, та всякий раз обещает передать, Вася уходит, а она письмо в коробочку кладет, и писем этих там… много. Одним словом – делай кино.
А я и не думал, что кино можно делать. Но пришлось.
Небо – подвал – двор
– У тебя гриппа нет?
– А у вас?
– Проходи.
Герман долго настраивал телик, сели смотреть, за эти минуты я думал, что ноготь сгрызу.
Мы говорили в его квартире, на последнем этаже под крышей дома на Кронверкской.
Из окна был виден двор «Ленфильма», железные ворота павильона. Но наш разговор поначалу не касался ни студии, ни павильона, где вот уже сколько лет жила декорация Германа, меняясь и перестраиваясь. Это был самый счастливый разговор – спокойный, свободный, независимый.
– Лёшка, то, что ты сделал, – хорошо, это безусловный скачок…
Собственно и все, вторая часть фразы поставила меня в тупик:
– Я хочу, чтобы ты повел картину дальше в качестве режиссера, моего помощника. Ты прикрепляешься на картину! Найди нам пару-тройку наших лиц, пока мы снимаем сцену с Аратой.
Я и возразить ничего не успел. Тягостно при одной мысли – не выдержу простоев и ожиданий, унылости – не выдержу.
И Юра Оленников ушел от Германа. Он снял свой дипломный фильм, про мальчика, у которого умерла мама. Прототипом мальчика был его сын Егорка, первая жена Юры покончила с собой. Юра пытался восстановить отношения с сыном, но не вышло. Зато снял фильм. Как-то мы вместе ехали со съемок, чуть не врезались в грузовик. Минуты через три, слегка придя в себя, Юра сказал: «Да, звоночек». Это был его день рождения. Осенью, когда Юра закончил съемки, в его день рождения у него умерла мама.
Не хочу, не хочу, не хочу – ныть каждой косточкой, чувствуя себя рабом зависимым, обманутым.
Дальше были темные сводчатые стены декорации, артисты и массовка в средневековых костюмах, изнурительные два дня репетиций, когда я должен был решить, возьмусь или нет. Пока что на площадке работал Юра Фетинг, но, по словам Германа, он вот-вот должен был уйти на свою картину, и тогда милости просим.
Признаться, я не хотел. Но и не мог отказать Герману, тем более после такого доверительного товарищеского разговора. Два дня я томился, решил наконец: берусь – и пошел к продюсеру.
– Алексей, сейчас мы возьмем вас на прежнюю должность, ассистентом, с прежним окладом, а когда Юрий Фетинг уйдет, переведем.
– Это невозможно.
– Почему, денег мало?
– Нет, Виктор Михайлович, вы можете оставить прежний оклад, я не рублюсь за деньги, но в договоре должно быть написано «режиссер».
– Почему?
И вместо того чтобы просто ответить: «Так сказал Герман», я пустился в объяснения.
Мы не договорились. Фетинг проработал на картине еще полгода, а я вечером того же дня ушел.
Был короткий разговор с Кармалитой:
– Светлана Игоревна, я ухожу.
– Что? Как? Почему?
– Мне нужно переговорить с Алексеем Юрьевичем.
– Это невозможно, будет скандал, я сама поговорю, а ты позвони завтра.
И завтра, и послезавтра, и неделю еще мы так и не поговорили.
Ему что-то сказали, что было удобно, и он не брал трубку.
А меня пригласили режиссером к Игорю Масленникову на детскую комедию.
Спустя три недели Герман спросил Феликса, второго режиссера:
– Феля, почему Злобин ушел к Масленникову?
– Лёша, там больше платят.
И Герман повысил всей группе зарплату.
Фрагмент дневника
Кусочек светофильтра, буквально 34 см, может стоить до восьми тысяч долларов. Если его забудут вытащить из камеры во время ночной съемки. Как много в кино зависит от соринки, стеклышка, сучка в глазу – капризнейшее из искусств.
Мы не сняли. Приехали, подготовились, сделали четыре дубля, оказалось – не вынули какой-то фильтр. Тут же пошел дождь, а за ним – рассвет. И мне, сказать по чести, было почти безразлично. А правильно ли это? Не быть ангажированным, относиться к кино как к службе, не болеть о деле, не радеть. Может быть – в отношении этого, весьма поверхностного фильма, где пепел Клааса не стучит ни в чье сердце.
На этой работе – мухи дохнут. Позволил себе за обедом две рюмки под хорошую закуску. Будь здоров, Лёшечка, поздравляю: ибо, во-первых, ты хлебнул на работе, а во-вторых, обедаешь, когда группа работает. Как Герман пророчил: «Ты стал обычным ленфильмоским бездельником!»
Через неделю мы столкнулись в коридоре студии, у павильона. Открылась дверь, вышел Герман, один, без Светланы, и медленно пошел во двор.
Я догнал его у темно-зеленого джипа, где дожидался шофер:
– Алексей Юрьевич, мне нужно объясниться.
Герман тяжело повернулся:
– А, Лёшка? О чем нам говорить, ты просто сдрейфил…
– Это не так, Алексей Юрьевич.
Но он не слушал меня.
– Просто испугался ответственности, обосрался. А я ведь только хотел помочь тебе, поддержать. Твой отец, Женька, был самым талантливым на курсе, он был лучшим, но из него ничего не вышло. Из тебя, видимо, тоже. Будь здоров.
Он сел в джип и уехал. А я пожалел, что у меня не оказалось гвоздя под рукой проколоть ему колесо.
Приснилось, что сижу в сумасшедшем доме, убегаю, а меня все время возвращают, причем один и тот же человек приходит, берет меня за руку, уводит обратно и говорит: «Я снова приду, как только ты перестанешь думать обо мне!»
Сказать, что с годами все забылось, – неправда, вранье, ничего не забылось – вот же эти записки. Но вектор отношения поменялся.
Расставаясь с ним, я чувствовал, что уже никогда ни с кем в кино, в этой сумасшедшей профессии, не будет так интересно. И я не ошибся.
Вряд ли меня это радует.
Мы не общались и не созванивались, о том, что происходит на картине, я узнавал от друзей. Один за другим менялись режиссеры-стажеры, ссорились и вновь мирились Герман с Ярмольником. Уходили из жизни, не дождавшись озвучания, исполнители ролей: проректор Театралки Павел Романов, мой педагог по режиссуре Вадим Сергеевич Голиков, Анатолий Шведерский, Петр Меркурьев – Петя, внук Мейерхольда, – он много и талантливо писал некрологи, был человеком с большим юмором, играл у Германа придворного поэта. Без сознания, в коме, с запущенным раком увезли в клинику Владимира Ильина – германовского оператора. Столько отдать сил, времени, жизни и – не доснять эту картину! По горькой иронии доснимать позвали Клименко. Все на круги своя… Не ошибиться бы, что свое, а что – нет.
Как-то 31 декабря я позвонил Герману – без ответа. Утром узнал, что в новогоднюю ночь его с сыном избили в Доме кинематографистов в Репино. Гуляла пьяная кампания, вели себя непристойно, обижали официантку – Алексей Юрьевич пошел их усмирять. Лёша маленький бросился на помощь отцу, оба в больнице.
Потом была «Ника», киноакадемия присудила Герману приз «За честь и достоинство».
Я уже несколько лет был москвичом, а он приехал дневным поездом, чтобы ночью же уехать.
– Здравствуйте, Алексей Юрьевич, поздравляю вас.
– Лёшка, привет! Странно, меня чтут за то, чем должен обладать любой школьник. Рад тебя видеть. Знаешь, а возвращайся в Ленинград – скучно здесь, в Москве.
Да, скучно.
В зале стемнело, на экран пошла проекция фрагмента из еще не смонтированной картины. Тот самый кадр, когда Румата кровавой рукой проводит себе по лицу. Когда включили свет, на сцене стоял Леонид Исаакович в костюме Руматы. Он остроумно и основательно заявил, что Герман – инопланетянин.
В антракте я ушел, кто-то из членов киноакадемии давал интервью у гардероба:
– Герман! Да он один такой, один, понимаете – один.
Дверь захлопнулась, сырые московские сумерки моросили тенями прохожих, и только последнее грустное слово стонало, прищемленное дверью:
Один, один, один.
Человек Божий, режиссер…
– Лёшка, меня любить – не профессия.
– Конечно, я, дилетант, и не претендую.
Профессионалов – и так хватает.
Еще колечко
Ахматова
- Когда человек умирает,
- Изменяются его портреты.
21 февраля 2013 г.
Я почти уже написал книгу о нем, теперь придется переписывать. Почему? Потому, что он уже ее не прочитает.
Давно, еще школьником, на прогулке у Эрмитажа увидел фонтан. Произошло что-то: вдруг перестало ощущаться время, смолк шум города, я забыл, куда шел, – только эта бегущая брызжущая вода, только фонтан – медленно, вечно, завораживая… И через это уже вспомнил, что весна, что еще только юность и что это – единственное мгновение.
И что же это за фонтан? Всегда – разное.
Включите камеру
– Еще дубль! Внимание, съемка! Приготовились!
Хлопушка с номером дубля отбегает от камеры, сорок человек, неделю репетировавших в павильоне, исправно повторяют наработанное, а камера идет от одного к другому за плечом главного героя. Он останавливается, оборачивается, по лицу чуть мелькает грустная улыбка, что-то увидев краем глаза или услышав позади себя, он смахивает случайную от ветра или дыма слезу.
– Стоп! Еще дубль! – кричит режиссер.
И все повторяется в седьмой раз: идет по закоулкам декорации герой, возникают чьи-то лица, горят плошки с жиром, он оборачивается – и уже никакой грустной улыбки, только случайная от ветра слеза.
– Снято, молодец! Всем спасибо – смена окончена.
Все расходятся. В том числе и дрессировщик с двумя ласковыми козочками. Он забавно говорит с ними совершенно козлиным тембром: и-де-ее-м-те-ее. Идем-те-ее.
Когда режиссер уходит, актер бежит к монитору и просит показать дубли. Их почему-то только два: предпоследний и последний, шестой и седьмой, а номера на хлопушке «1» и «2». Предшествующие пять, оказывается, не снимались, не включали камеру.
После трех дней репетиций снимается следующая сцена. Актер знает, что камеру не включат, пока он не перестанет «играть», пока полностью не угаснут рефлексы самоконтроля и представления о себе в этом кадре, пока он не «забудет» про камеру и тело не отвыкнет включаться по команде «начали». Ему безразлично происходящее, он знает – пленка не идет. И не потому, что им жаль дорогой пленки, а просто этот тучный угрюмый человек всерьез играет в режиссера и не тратит зарядов зря.
– Внимание, репетиция, чисто технически – для камеры! Начали!
Актер просыпается в телеге, зевает, пинает кучера, и телега трогается.
– Снято!
Актер смотрит, как гаснут один за другим приборы на колосниках под потолком павильона, безучастно позволяет разгримировать себя – смена окончена.
И через неделю репетиций следующей сцены он уже не думает, включит камеру этот пожилой ребенок или не включит. Объявит ли съемку, а сам покажет оператору сложенный из пальцев «нолик», или потребует очередную репетицию и тихо поднимет указательный палец, означающий единичку – первый дубль.
Актер уже ничего не знает, не думает ни о каких обстоятельствах роли и живет, как тигр в зоопарке, – идет и идет километр за километром куда-то вперед, не замечая клетки. А зеваки с улицы думают – мечется взад-вперед.
Тучный человек ложится спать, ему видятся неснятые кадры – когда-то давно, по каким-то причинам не включилась камера: где этот аист, пять раз подряд взлетавший перед идущим по полю обозом, – режиссер в этот момент ругался с оператором, с которым потом расстался… но аист улетел.
Или подбежала перед съемкой актриса: «Я поняла, здесь нужно плакать, просто все сыграть через слезы!» Оператор долго ставил свет, а она сидела перед камерой и держала состояние – как точна и хороша она была (но камеру не включили), а потом репетировали, и на репетиции она выложила все – и это было здрово, и все смеялись, но камеру не включили. А по команде: «Внимание, съемка!» актриса не смогла повторить: были и слезы, и резкие порывы, и отталкивание партнера… но мышцы лица уже помнили, когда улыбка сквозь слезы, а когда сжатый в скорби рот, мышцы знали, а не удивлялись, повторяли, а не жили впервые,– это тоже был неснятый кадр.
Сколько раз потом режиссер гениально хитрил, когда после команды «стоп» камера все равно шла, и самые дорогие живые моменты, когда актеры «выключались», попадали в картину. Сколько раз он снимал, вообще не объявляя ни репетиции, ни съемки: его обученная группа незаметно рассасывалась из кадра и заболтавшиеся на скамеечке артисты даже не подозревали, что их снимают.
Он был уже опытным, сильным режиссером, щемили память эти навсегда не снятые кадры, и всякий раз, включая камеру, он думал: «А вдруг?»
С Германом поначалу казалось, что слишком все серьезно, пафосно, все принципы и правила раздуты, доведены до абсурда. Все эти крики, испуганные или казнящие взгляды. В этом было мало юмора, и я зло тяготился. Но воспитывался глаз, не пропускающий никаких деталей, вырабатывалось категорическое небезразличие к актерскому существованию, болезненное чувство правды. То, что вначале так бесило и не понимал – «пустые и полные глаза», – что это значит? Да то же, по сути, что пустой или полный артист на сцене. Только в театре, будучи органичным и наполненным, можно еще добавить некоторый плюс, по негласной договоренности со зрителем, – невидимое подмигивание, реализуемое на поле взаимных симпатий. А в кино это невозможно, соврать нельзя: пленка – это пленка, документ, она без души, она – фиксатор. Зритель в кино откликается на увиденное, в котором не принимает участия. В отличие от театра нет литургического сопереживания, нет живого контакта. Поэтому и говорят «кинокартина». Сопереживает ли человек закату? Или ужасающему виду преступления либо катастрофы? Нет. Он может хотеть поделиться этим, держать за руку любимую, или друга, или оппонента – не важно. Это тоже будет сопереживание между зрителями, сопереживание в зале. Но кино останется прежним, у него – свое время. Оно снято объективом, когда-то, в какой-то момент. И в этом его грандиозное преимущество перед театром. Спектакль не вернешь, он случился однажды и не повторится уже никогда. Только в театре можно спросить: «Ну, как сегодня?» И это «сегодня» – уже ушло. А кино, если оно настоящее, конечно, способно вернуть время. Вернуть в том неприхотливом смысле: «Ты мне дал – я возвращаю». Мало кто исхитрился поймать время в сетку кадров на приманку объектива. Но о многих в данном случае не говорят. Театр происходит вне времени, он случается с людьми, его природа мистериальная, потому невозвратная. Кино, если оно настоящее, взято временем в плен, и оно же – а иначе не бывает между узником и стражем – держит время в плену. Загляните в глазок камеры – что вы там видите? Себя двадцать лет назад – здорово, правда? Но не ошиблись ли вы, возможно, это ваш дедушка?
Не разделяю, что лучше, что хуже, кино или театр, – просто нащупываю разницу.
Когда работал у Германа, про многое переживал: этого не знаю, так не смогу, и всегда давила или восхищала дистанция. То, что он взвалил на себя, что взялся разруливать, в чем объявил себя распорядителем, и не самозвански, а с явно выраженным талантом, – все это мощно дистанцировало, отдаляло Германа. Кто решится – вставайте рядом.
Но я не хотел. Не боялся – не хотел. Мое кино другое, и жизнь моя – про другое.
А быть ассистентом у кого бы то ни было потом – оказалось скучно.
Вновь я посетил
В апреле 2010 года мне в Ташкент на съемки позвонил Саша Чутко, актер огромного дара и обаяния. Можно было бы пошутить – и размера тоже. Я помню всех, кого Герман пробовал на роль Руматы, и не помню претендентов на роль Дона Рэбы. Наверное, Александра Чутко Герман утвердил сразу, и Саша терпеливо играл свои сцены со всеми кандидатами на главную роль. Всякий раз он тревожился – а вдруг «Юрич» разочаруется в нем? Но не тут-то было – для режиссера органика Чутко была тестом правдивости его партнеров. Саша был взволнован:
– Лёша, я наконец-то съездил на озвучание к Герману, он спрашивал о тебе, просил дать твой номер.
– Дал?
– Дал.
В июне я позвонил Герману сам:
– Искали, Алексей Юрьевич?
– Лёша, мы со Светланой в Германии, я после операции – устал, сил мало, надо заканчивать картину, делать озвучание – помоги.
1 сентября. Начало учебного года, я снова выбрал ученичество.
Перепрыгивая лужи, мчусь в просмотровый зал, бегу – боже, какая юность!
Мы в зале вдвоем – Светлана Игоревна в последнем ряду за столиком под лампой читает закадровый текст и неозвученные реплики фильма. А с экрана несется рабочая фонограмма со всеми командами, криками, подсказками – неповторимый шум «кухни», которую, жаль, никто из зрителей никогда не услышит.
«Удар – и Русь пощады просит, удар – и Венгрия в крови», – Герман как-то цитировал Заболоцкого, он спутал, но получилось лучше, чему у автора: «Глядишь – и Русь пощады просит, глядишь – и Венгрия в крови» – талантливая забывчивость талантливого человека. Смотрю кино: ничего общего с повестью Стругацких, более того – ничего близкого моим ожиданиям – другой фильм!
После просмотра спрашивают:
– Ну как?
– Я, пожалуй, недельку помолчу.
– Много юмора в картине, правда?
– Чего? – переспрашиваю. – Это не кино, а расстрел в упор, контузия взрывом.
Смешного в картине – да, много, страшно смешного, но юмора… Юмор – чувство дистанции, а здесь – автор взрывает себя и заодно нас.
Бльшая часть зрителей уйдет на первой трети фильма.
Каждая отдельная сцена – шедевр. Взятые вместе – огромная, фабульно не сцепленная, но жестко ритмически организованная хроника о том, как «не вышло». Как ничего не получилось из затеи под названием «жизнь». Очень страшно по смыслу, по сути, по мировоззрению. Как в блокаду машины по льду Ладоги шли с открытыми дверями – «Успеть выпрыгнуть!» – так и здесь, зрительный зал должен быть нараспашку.
Сюжетные линии порваны, мешало знание сценария, я все хотел за чем-то следить, а следить было не за чем – жизнь здесь так и не началась, в этот ад не сошел Бог, ад даже ничего не узнал о Боге, и это то, во что мы усиленно себя вколачиваем.
Как горько и страшно, если из нас тоже ничего не получится.
Картина гениальная. Зная все приемы, я не понимаю, как это сделано. Невозможно восторгаться картиной, невозможно сказать даже, получилась она или нет. Можно смело сказать – это не кино!
Но это «не кино» своей настоящностью делает все прочее, что прежде называлось «кино», просто бессмыслицей.
Болит голова, очень тяжело.
Кого хватит на такое, а еще год или больше идти над пропастью без доски и каната – верой.
Через пару часов мы должны встретиться.
Наш роман с Алексеем Юрьевичем всегда непредсказуем. Друзья спрашивают:
– Лёшка, на сколько уезжаешь?
– Может быть, на неделю или на год – как пойдет.
У тонателье № 2 под стеклянным потолком, обрызганные сентябрьским солнцем, стоят, как постаревшая фотография, редактор Евгений Прицкер, звукорежиссер Николай Астахов, Нелли Аржакова и девочка-администратор; с чашечкой кофе у автомата притулился продюсер Виктор Извеков.
Светлана Кармалита впереди, а Герман идет, как всегда, с палочкой, но теперь по-настоящему тяжело.
– Здравствуйте, мои дорогие, как странно, что я вас вижу и при этом вы, кажется, меня тоже видите.
Подошла сияющая после отпуска Ольга Багирова:
– Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Как вы постройнели, похудели!
– Да, теперь на три размера меньше гроб нужен – экономия, да? А мне, знаете, Володя Ильин приснился: такой лужок, солнечный, прохладный, птички поют, и бежит ко мне навстречу Володька, и тащит в руках две покрышки новенькие: «Гляди, Лёша, что я достал, как раз для моей „Нивы“, до чего же повезло!» И понял я, ребята, что это рай. А вот Светку в рай не пустят. Там, конечно, есть отделение для хохлов и даже гуцулов, в нем почему-то еще и овцы. Но ее туда все равно не пустят.
– Это почему же, Лёшечка?
– Им нужен тот, кто ад вверх дном перевернет,а кто же, кроме тебя? Ну, все там готово?
– Готово, Алексей Юрьевич, – улыбается Николай Астахов.
Евгений Прицкер протягивает Герману журнал с репродукциями:
– Это, Лёша, твой дядя – Константин Клюге.
– Да-да, у бабки была сестра-близнец, Клюге – ее сын. Его недавно убили в Париже. Продали роскошную квартиру напротив дома Миттерана, где-то растрепал о деньгах, пришли русские братки, пытали дядьку-старика с женой; они как-то убежали, но от потрясения и пыток он помер. А мне стыдно. Мы ехали из Канн после «Хрусталева», я был не в духе, никого видеть не хотел. Он ждал в Париже, хотел поддержать, я позвонил, сказал, что не приеду. «Ах так, – говорит, – тогда считай, что у меня нет племянника». А я: «Ах так, тогда считай, что у меня нет дяди». И не встретились. А он талантливый художник был, в сорок третьем в Шанхае пришел в советское посольство: «Я хочу вернуться!» – «Фамилия?» – «Клюге» – «Как? Слушайте, Клюге, выйдите на улицу и впредь ближе чем за квартал к посольству нашему не подходите. Мало нам фашистов!» Этому энкавэдэшнику дядя обязан жизнью, вернулся бы он с такой фамилией, никто бы его не спас, никто, никакая проститутка.
– Алексей Юрьевич, все давно готово, пойдемте работать.
– Коля, подожди, – перебивает Кармалита. – Лёшечка, какая еще проститутка?
– Которая Шаламова спасла. Он ее в госпитале от гонореи вылечил, а она потом в штабе лагеря приговоры распечатывала, и ей попался шаламовский, смертельный, там четыре буквы стояло: «КРТД», третья буква означала «троцкист», а это расстрел. Так вот, она опечаталась, одну букву пропустила. Иначе не было бы у нас Шаламова, поняла?
– Конечно, Котик, тем более что я эту историю сама знаю и, если помнишь, я же тебе ее и рассказала. Только, по-моему, она не проститутка была…
Я вспомнил аналогичный рассказ латвийской актрисы Гуны Зарини. У ее деда в Латвии был богатый хутор. Вскоре за нашей оккупацией пришли немцы, а в округе по лесам партизаны. И немцы, кого ловили, приводили к деду: «Знаешь этого, кто таков?» И если дед знал, тот жив оставался. Однажды привели паренька, сопливого совсем, дед сразу усек – партизан: «Ну, знаешь его?» И дед сказал: «Знаю, мой работник, в лесу батрачит». А потом снова наши пришли, начали врагов искать, составлять расстрельные списки, деда, конечно, взяли. Но не расстреляли: в энкавэдэшной тройке тот паренек сидел, он фамилию деда вычеркнул.
– Алексей Юрьевич, мы работать пойдем?
– Пойдем, пойдем, Коля! А во Франции проститутки дешевые, а отели дорогие. Поэтому у них все по минутам – пятнадцать минут на человека, не успел – плати еще. И как вкалывают – поток! А наши? Их снимут на всю ночь, в ресторан сводят, номер оплатят, а они вольют клиенту димедролу в водку, он и вырубается – не может ничего. Никто в этой стране не любит работать. Ну что, ребята, пошли слушать? Знаете еще, мы, конечно, великая страна, по нам текут великие реки, у нас великая поэзия, Достоевский великий и Толстой, но больницы наши – как в русско-турецкую войну у турков для русских. А там, в германской клинике, где я лежал, справа компьютер, слева компьютер, идешь по коридору, а за тобой тоже компьютер, как собачка, тащится, и ты с ним разговариваешь…
Это произносится уже на спуске в звукостудию, Алексей Юрьевич держится за поручень, другой рукой стучит по ступеням палкой, следом, как собачка, тащится первосентябрьская компания, собравшаяся после долгого перерыва.
Вот уселись смотреть материал, слушать Дона Рэбу, что озвучил Саша Чутко. Вся сцена целиком с первого же кадра за горло схватила и не отпускала. Слишком много всего – и ничего лишнего. Грандиозно. Какие-то реплики не шли, казались Герману чужеродными:
– Не могу, ребята, чужое в меня входит нарывами, надо переозвучить. Вызывайте Злобина.
– Так Злобин же здесь.
– Извини, Лёшка, я имел в виду Чутко. А ты что думаешь, получилась сцена, может тк кто-то еще?
Прежде он об этом не спрашивал, но теперь можно – картина смонтирована.
– Нет, – говорю, – так не сможет никто.
– Жаль, я-то помру скоро. И картину эту не доделаю.
А вот это прежде было, без конца: «Помру, помру».
– Типун тебе, Лёшечка, на язык, я тебя не отпущу никуда!
Ну вот, и это было. Герман рассказывает очередную байку:
– Я как-то в Японию приехал, меня в аэропорту наглый такой гэбист встречает. «Ну что, – говорит, – привез селедки и черного хлеба?» «А ты что, – говорю, – тоскуешь по родине?» – «Не то слово!» Сели в машину, он мне хор Пятницкого врубил, «Калинку-малинку». Я шалею: тут Япония за окнами, а этот со своей пердячей тоской. «Знаешь, – говорю, – я вернусь в Москву, кому надо словечко замолвлю – будешь ты в Москве большим начальником». Он музыку выключил и едет в хмуром молчании, а потом расхохотался: «Представляешь, мне по званию положено коверкота полтора метра на костюм, две шкурки каракуля на воротник и две пары калош. До сих пор с тридцать шестого года формуляры не менялись. Здесь-то калош днем с огнем, а в Москве, поди, найдутся еще?» «Так что, не поедешь?» – спрашиваю. – «Нет уж, лучше здесь потоскую!» Потом в ресторане сидели, я водочку пил, а он предпочел саке. Вот так-то.