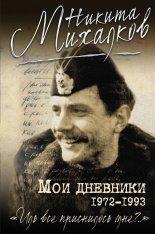Джентльмены-мошенники (сборник) Андерсон Фредерик
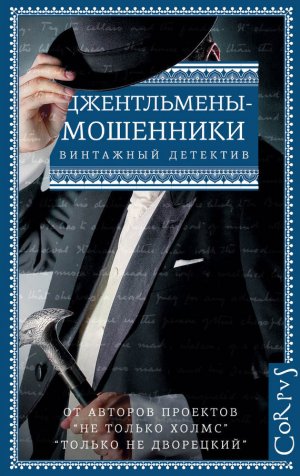
Он дружески ткнул меня в бок и был явно настроен откровенничать и дальше, но, взглянув на меня, сдержался.
– Если вас так проняло, – усмехнулся он, потирая руки, – то что будет со стариком Джонсоном? Чтоб он повесился на крюке для картины!
Не помню, что я ответил. Сначала я молчал, приходя в себя от потрясения, потом уже по другой причине. Меня одолевали противоречивые мысли. Раффлс потерпел поражение! Сам Раффлс! Быть может, мне повезет? Или уже поздно? Неужели ничего нельзя сделать?
– До встречи, – сказал он, бросив последний взгляд на полотно, прежде чем свернуть его, – до встречи в Брисбене.
Представьте себе, что я испытал, когда он закрыл футляр!
– Это последний раз, – он положил ключ в карман, – на корабле она отправится прямиком в сейф.
Последний раз! Если бы я мог сделать так, чтобы он отправился в Австралию лишь с законным содержимым своего драгоценного футляра! Если бы мне удалось то, что не удалось Раффлсу!
Мы вернулись в гостиную. Понятия не имею, как долго он говорил и о чем. На смену портвейну пришел виски с содовой. Я едва пригубил, зато Крэггс выпил изрядно, и, когда я оставил его около одиннадцати, он плохо соображал. Последний поезд до Эшера отходил с Ватерлоо в 11.50.
Я взял кэб и помчался домой. Тринадцать минут спустя я уже снова был в отеле. Я поднялся по лестнице. Коридор был пуст; я помедлил секунду, прислушиваясь к храпу в гостиной, а потом тихо открыл дверь ключом, который предусмотрительно позаимствовал у хозяина.
Крэггс не шевелился: он крепко спал, растянувшись на диване. Но, на мой взгляд, недостаточно крепко. Я смочил платок в принесенном мной хлороформе и осторожно положил ему на рот. Два-три хриплых вдоха – и старик превратился в бревно.
Я убрал платок и достал ключи из кармана Крэггса.
Через пять минут я вернул их на место, а полотно обмотал вокруг тела под пальто. Прежде чем выйти, я глотнул виски с содовой.
На поезд я сел легко, настолько легко, что минут десять дрожал, сидя в вагоне первого класса для курящих и ожидая отправки, с ужасом прислушиваясь к шагам на перроне. Наконец я расслабился и зажег сигарету, наблюдая, как проплывают мимо огни Ватерлоо.
Несколько человек возвращались из театра. Отчетливо помню их разговор. Они были разочарованы представлением – одной из последних опер “Савоя”[33] – и с сожалением вспоминали времена “Фрегата “Передник” и “Пейшенс”. Один из них напел мотив, и возник спор, откуда эта мелодия: из “Пейшенс” или из “Микадо”. Они сошли в Сербитоне, а я на несколько пьянящих мгновений остался наедине со своим триумфом. Подумать только: мне удалось то, что не удалось Раффлсу!
Это было первое из наших приключений – и наименее постыдное, – в котором я сыграл главную роль. Моя совесть была чиста: в конце концов, я лишь ограбил грабителя. И сделал это сам, в одиночку, ipse egomet![34]
Я представил себе Раффлса, его удивление, его восторг. Впредь он будет обо мне лучшего мнения. Теперь все изменится. Мы получим по две тысячи каждый – достаточно, чтобы стать честными людьми, – и все благодаря мне!
Окрыленный, я сошел в Эшере и взял единственный кэб, стоявший под мостом. В лихорадочном возбуждении я прибыл в Брум-холл. В окнах нижнего этажа еще горел свет, и дверь отворилась, когда я взбежал по лестнице.
– Так и знал, что это вы, – весело приветствовал меня Раффлс. – Все в порядке. Для вас приготовили комнату. Сэр Бернард еще не лег, хочет пожать вам руку.
Я был разочарован, увидев своего друга в столь приподнятом настроении. Но я хорошо знал его: Раффлс из тех, кто встречает поражение с улыбкой. Меня этим не проведешь.
– Она у меня! – вскричал я. – Она у меня!
– О чем вы? – спросил он, отступая на шаг назад.
– О картине!
– Что?
– Картина. Он показал ее мне. Вам пришлось уйти без нее, я это понял. И я решил завладеть ею. Вот она.
– Ну что ж, посмотрим, – мрачно произнес Раффлс.
Я сбросил пальто и размотал полотно. Как раз в этот момент в холле появился неопрятный старый джентльмен и остановился, с удивлением глядя на нас.
– Для картины старого мастера она неплохо сохранилась, – сказал Раффлс.
Его тон показался мне странным. Наверное, завидует моему успеху, подумал я.
– Крэггс тоже так сказал. Я сам едва на нее взглянул.
– Так посмотрите сейчас. Клянусь честью, видимо, я подделал ее лучше, чем думал.
– Это копия! – воскликнул я.
– Да, та самая копия. Мне пришлось за ней порядочно побегать. Та самая копия, которую я так идеально состарил, что, судя по вашим словам, Крэггс ничего не заподозрил и мог пребывать в счастливом неведении до конца жизни. А вы взяли и украли ее!
Я онемел.
– Как вы это сделали? – поинтересовался сэр Бернард Дебенхэм.
– Вы его что, убили? – съязвил Раффлс.
Я не стал на него смотреть, а повернулся к сэру Бернарду Дебенхэму и начал рассказывать ему все, как было, срывающимся от волнения голосом, иначе я бы просто разрыдался. Постепенно я успокаивался и под конец лишь с горечью заметил, что в следующий раз Раффлс должен посвящать меня в свои планы.
– Это копия! – воскликнул я.
– В следующий раз! – вскричал он. – Мой дорогой Банни, вы говорите так, словно мы собираемся зарабатывать этим на жизнь!
– Хочется верить, что этого не случится, – улыбнулся сэр Бернард. – Вы очень отважные молодые люди. Будем надеяться, что наш друг из Квинсленда будет верен своему слову и не откроет футляр, пока не вернется домой. Его будет ждать мой чек, и я очень удивлюсь, если он еще раз потревожит кого-либо из нас.
Мы с Раффлсом молчали, пока не пришли в отведенную мне комнату. У меня не было никакого желания с ним разговаривать, но он взял меня за руку и сказал:
– Не сердитесь, Банни! Я чертовски спешил и не был уверен, что вовремя достану то, что хотел. Это была бы моя лучшая работа, если бы не вы. Но так мне и надо. Что до вашего участия в нашей истории, старина, то, признаюсь честно, я от вас не ожидал. В будущем…
– Не говорите мне о будущем! – взвился я. – Мне все это ненавистно! Я выхожу из игры!
– И я тоже, – сказал Раффлс, – только сначала сколочу себе состояние.
Дар императора
Когда король Каннибальских островов[35] корчил рожи королеве Виктории, а европейский монарх слал ему поздравительные телеграммы, негодование англичан было столь же велико, сколь и их изумление, потому что в ту пору это было не такое обычное дело, как сейчас. Но когда стало известно, что за поздравлениями, дабы придать им весу, последовал дар исключительной важности, возобладало мнение, что и белый, и черный правитель разом лишились всех своих четырнадцати чувств. Ведь дар представлял собой жемчужину немыслимой ценности, которую британские пиратские сабли давным-давно вынули из полинезийской оправы и которую королевская семья подарила монарху, ухватившемуся за возможность вернуть ее первоначальным владельцам.
Этот инцидент оказался даром божьим для прессы. Даже в июне газеты пестрели заметками, заголовками, зарисовками и броскими шрифтами; “Дейли кроникл” отдала половину литературной страницы под очаровательный рисунок островной столицы, тогда как новая “Пэлл-Мэлл” в передовой статье, заглавие которой представляло собой каламбур, советовала правительству ту же самую столицу разнести в щепки. В те времена я и сам, бывало, брался за перо, скудное, зато не бесчестное, и злободневная тема вдохновила меня на сатирическое стихотворение, которое имело больший успех, нежели все, что я писал прежде. Я сдал свою городскую квартиру и нанял недорогое жилье в Темз-Диттоне под предлогом бескорыстной страсти к реке.
– Первоклассно, старина! – сказал Раффлс (конечно, он тут же наведался ко мне), лежа на корме, пока я греб и правил. – Надеюсь, газетчики недурно вам платят, а?
– Ни пенса.
– Что за вздор, Банни! Я думал, они хорошо платят! Погодите немного, и получите свой чек.
– Да нет, не получу, – мрачно ответил я. – Я должен быть доволен уже тем, что меня напечатали. Редактор написал мне об этом, причем весьма многословно.
Только вот назвал я этого джентльмена его прославленным именем.
– Но вы же не хотите сказать, что уже писали ради денег?
Нет, в этом я ни за что не собирался признаваться. Хотя, по правде говоря, писал. Впрочем, раз уж мое преступление раскрылось, таиться дальше не имело смысла. Я писал ради денег, потому что отчаянно в них нуждался; если бы он только знал, в каком затруднительном положении я находился. Раффлс кивнул, словно уже об этом проведал. Собственные невзгоды вдохновили меня. Литературному дилетанту не так-то просто продержаться на плаву; я боялся, что пишу недостаточно хорошо и вместе с тем недостаточно плохо для того, чтобы добиться успеха. Я страдал от постоянной бесплодной погони за стилем. Я мог осилить стихи, но за них не платят. До заметок о своих впечатлениях и более низкопробного щелкоперства я не мог и не хотел опускаться.
Раффлс опять кивнул, на этот раз с улыбкой, которая осталась в его взгляде, когда он откинулся назад, не сводя с меня глаз. Я знал, что он думает о других занятиях, до которых я опустился, и, кажется, даже знал, что он сейчас скажет. Он так часто говорил это раньше – пусть повторит еще раз. У меня и ответ наготове имелся, но, по всей видимости, он устал задавать мне один и тот же вопрос. Его веки опустились, он поднял отброшенную газету, и я успел прогрести расстояние, равное длине старой красной стены Хэмптон-корта, прежде чем он вновь заговорил.
– И вам ничего не заплатили за эти стихи! Дорогой мой Банни, ведь они прекрасны не только своими художественными достоинствами, но и тем, как ясно в них сформулирована и подана ваша основная мысль. Вы мне поведали об этом больше, чем я знал прежде. Но неужто одна-единственная жемчужина действительно стоит пятьдесят тысяч фунтов?..
– Думаю, все сто, но “сто” не попадало в размер.
– Сто тысяч фунтов! – воскликнул Раффлс, жмурясь. И я снова подумал, будто знаю, что сейчас последует, и снова ошибся. – Если она столько стоит, от нее невозможно будет избавиться. Это не алмаз, который можно разделить на части. Ох, Банни, прошу прощения. Я совсем забыл!
И мы больше ни словом не обмолвились о даре императора; ведь в пустых карманах гордость цветет пышно, и никакие лишения не заставили бы меня первым сделать то предложение, которого я ждал от Раффлса. Ждал и даже отчасти надеялся, хотя понял я это только сейчас. Но мы больше не касались и того, о чем Раффлс якобы позабыл, – моего “отступничества”, моего “добропадения”, как ему нравилось это называть. Мы оба были немного молчаливы, немного напряжены, каждый погрузился в свои мысли. До того мы не виделись несколько месяцев, и когда я провожал его тем воскресным вечером (время близилось к одиннадцати), я воображал, что мы прощаемся на гораздо более долгое время.
Но пока мы ждали поезда, я заметил, как его ясные глаза всматривались в меня в свете станционных фонарей, и когда мы встретились взглядами, Раффлс покачал головой.
– Вы плохо выглядите, Банни, – сказал он. – Никогда я не верил в эту долину Темзы! Вам надо переменить климат.
Хотел бы я знать, на что он намекает.
– Вам совершенно необходим морской круиз.
– А зиму лучше провести в Санкт-Морице, или вы посоветуете Канны или Каир? Все это прекрасно, Раффлс, но вы забываете, что я вам говорил о моих финансах.
– Я ничего не забываю. Просто не хочу задеть ваши чувства. Но морского круиза вам все-таки не избежать. Я и сам хотел бы переменить обстановку, а вы поедете в качестве моего гостя. Проведем июль на Средиземном море!
– Но вы играете в крикет…
– К черту крикет!
– Ну, если бы вы говорили всерьез…
– Я и говорю всерьез! Вы поедете?
– Не раздумывая – если поедете вы.
И я пожал ему руку и помахал на прощание, в добродушном убеждении, что на том все и кончится. Мимолетная мысль, не больше и не меньше. Но скоро мне захотелось, чтобы это все-таки оказалось нечто большее; та неделя заставила меня мечтать о том, чтобы вырваться из Англии навсегда. Я ничем не занимался. Кормиться я мог разве что с разницы между суммой, которую платил за квартиру, и суммой, за которую сдавал на сезон свою. А сезон близился к концу, и в городе меня поджидали кредиторы. Можно ли быть совершенно честным? Я не влезал в долги, когда у меня водились деньги, и откровенную бесчестность не считал слишком постыдной.
Но от Раффлса, конечно же, не было никаких вестей. Прошло полторы недели; наконец в четверг вечером я нашел телеграмму от него у себя в квартире – после того как тщетно разыскивал его по всему городу и, отчаявшись найти, в одиночестве отправился обедать в клуб, членом которого все еще состоял.
“Готовьтесь отъезду Ватерлоо экстренным поездом Северогерманского Ллойда, – телеграфировал он. – 9.25 понедельник встречу вас Саутгемптон борту Улана билетами напишу”.
И он правда написал – письмо довольно беспечное, но исполненное серьезного беспокойства обо мне, моем здоровье и моих видах на будущее, почти трогательное в свете наших прежних отношений и особенно в сумраке нашей размолвки. Он говорил, что заказал две каюты до Неаполя, что мы обязаны посетить Капри, где живут поедатели лотоса[36], что там мы вместе погреемся на солнышке “и на время обо всем забудем”. Это было обворожительное письмо. Я никогда не видел Италии; так пусть же именно Раффлс откроет мне ее. Нет ошибки грубее, чем считать, будто эта страна не годится для лета. Неаполитанский залив в это время года божествен, как никогда, и он писал о “забытом, очарованном крае”, словно поэзия сама просилась на перо. Возвращаясь к земле и прозе, я мог бы счесть непатриотичным то, что он выбрал немецкий корабль, но никакая другая компания не предоставляет таких удобств за ваши деньги. Тут крылся намек на высшие соображения. Раффлс писал, как и телеграфировал, из Бремена, и я сделал вывод, что он использовал свои связи с властями в личных целях, дабы существенно сократить наши расходы.
Вообразите мое волнение и радость! Я сумел выплатить все, что задолжал в Темз-Диттоне, выжать из моего скромного редактора очень скромный чек, а из портных – еще один фланелевый костюм. Помнится, последний свой соверен я потратил на коробку сигарет “Салливан”, чтобы Раффлсу было что покурить в поездке. Но на сердце у меня было так же легко, как и в кошельке, когда в понедельник утром – самым ясным и солнечным утром того хмурого лета – скорый поезд умчал меня к морю.
Шлюпка ожидала нас в Саутгемптоне. Раффлса в ней не было, да я и не ожидал его увидеть до тех пор, пока мы не достигнем борта лайнера. Но и тогда я озирался тщетно. Его лицо не мелькало в толпе, облепившей поручни; его рука не махала друзьям. Я взошел на борт с тягостным чувством. Билета у меня не было, равно как и денег, чтобы купить его. Я не знал даже номера своей каюты. Сердце у меня ушло в пятки, когда я подстерег стюарда и спросил, нет ли на борту мистера Раффлса. Слава небесам – есть! Но где? Стюард не знал и вообще явно торопился по какому-то поручению, и пришлось мне отправиться на охоту в одиночестве. Но на прогулочной палубе я Раффлса не нашел, равно как и внизу, в салоне; в курительной комнате не было никого, кроме коротышки немца с рыжими усами, закрученными до самых глаз; пустовала и каюта Раффлса, куда в отчаянии я все-таки спросил дорогу, – только его имя на багаже слегка взбодрило меня. Почему он держался в тени, я, однако, постичь не мог, и лишь мрачные объяснения приходили мне в голову.
– А, вот вы где! Я искал вас по всему кораблю!
Несмотря на запрещающую табличку, я поднялся на мостик – последнюю свою надежду; там-то я и обнаружил А. Дж. Раффлса: он сидел на застекленной крыше, склонившись к одному из офицерских шезлонгов, в котором раскинулась девушка в белом тиковом жакете и юбке – хрупкая девушка с бледной кожей, темными волосами и поразительными глазами. Все это я успел заметить, когда он поднялся и быстро обернулся; дальше я мог думать только о быстрой гримасе, которая предшествовала искусно разыгранному изумлению.
– Неужто это вы, Банни? – воскликнул Раффлс. – Откуда вы взялись?
– Неужто это вы, Банни? – воскликнул Раффлс.
Я промямлил что-то, а он ущипнул меня за руку.
– Вы плывете на этом корабле? И тоже в Неаполь? Ох, ну надо же! Мисс Вернер, позвольте вам представить…
И он представил меня, даже не покраснев, как старого однокашника, которого не видел несколько месяцев, причем сделал это так нарочито церемонно и неуместно обстоятельно, что я ощутил одновременно смущение, подозрение и отвращение. Я чувствовал, что краснею за нас обоих, но мне было все равно. Учтивость покинула меня совершенно, но я даже не пытался взять себя в руки и достойно выйти из положения. Я лишь бормотал слова, которые Раффлс вкладывал мне в уста, и, без сомнения, выставил себя неуклюжим болваном.
– Так вы увидели мое имя в списке пассажиров и пошли разыскивать меня? Старина Банни! И все-таки я хочу, чтобы вы разделили со мной каюту. У меня чудесная комната на прогулочной палубе, но я опасаюсь, что ко мне могут кого-нибудь подселить. Мы должны позаботиться об этом, пока они не впихнули мне в соседи какого-нибудь чужака. В любом случае нам пора.
Тут в рубку вошел рулевой, а еще раньше, пока мы говорили, на мостик поднялся лоцман. Когда мы спустились, шлюпка как раз отплывала, пассажиры махали платками и пронзительно кричали слова прощания, а когда мы кланялись мисс Вернер на прогулочной палубе, мы почувствовали под ногами глухое медленное гудение. Наше плавание началось.
Однако между мною и Раффлсом не сразу установилось согласие. На палубе он подавлял мое упорное недоумение напором показного безудержного веселья; в каюте маски были сорваны.
– Вы идиот! – прорычал он. – Вы меня выдали – выдали снова!
– Как я вас выдал?
Последнее слово – самое оскорбительное – я проигнорировал.
– Как?! Мне казалось, любой болван поймет, что я хотел, чтобы мы встретились случайно!
– После того как вы сами купили оба билета?
– На борту об этом никто не знает. Кроме того, когда я брал билеты, этой мысли у меня еще не было.
– Тогда вы должны были дать мне знать, когда эта мысль появилась. Вы строите на меня планы и никогда не говорите о них ни слова, ждете, что я сам все пойму благодаря уж не знаю какому озарению. Откуда я мог знать, что вы что-то затеваете?
Мы поменялись ролями. Раффлс почти раскаивался.
– Если честно, Банни, я и не хотел, чтобы вы знали. Вы… вы стали таким благонравным кроликом, в ваши-то годы!
Мое прозвище и тон, которым он все это произнес, успокоили меня, но это было еще не все.
– Если вы боялись писать, – продолжал я, – вы должны были намекнуть мне, когда я поднялся на борт. Я бы все правильно понял, ведь я не такой уж пай-мальчик.
Мне показалось, или Раффлс был и впрямь слегка пристыжен? Если так, то за все годы нашего знакомства это был первый и последний раз; да и то я не могу поклясться, что не ошибся.
– Именно это я и собирался сделать – сказал он, – сидеть в каюте, а потом перехватить вас, когда вы пройдете мимо. Но…
– Вы нашли занятие получше?
– Не то слово.
– Очаровательная мисс Вернер?
– Она правда очаровательна.
– Большинство австралиек очаровательны, – сказал я.
– Откуда вы узнали, что она австралийка? – вскричал он.
– Я слышал, как она говорит.
– Нахал! – со смехом воскликнул Раффлс. – Она гнусавит не больше, чем вы. Ее родители немцы, она училась в Дрездене, а теперь путешествует одна.
– А как у нее с деньгами? – осведомился я.
– Идите к черту! – воскликнул он, и хотя он смеялся, я подумал, что пора сменить тему.
– Но послушайте, – сказал я, – ведь не для мисс Вернер вы притворялись, будто мы не знакомы? Вы ведете игру позатейливей, а?
– Полагаю, что да.
– В таком случае не хотите ли рассказать мне, что это за игра?
Раффлс окинул меня тем прежним осторожным взглядом, который я так хорошо знал. Этот знакомый взгляд, которого я не встречал уже много месяцев, заставил меня улыбнуться, и улыбка приободрила Раффлса – ведь я уже смутно догадывался о его намерениях.
– Вы же не уплывете в лоцманской шлюпке, когда узнаете, Банни?
– И не собираюсь.
– Тогда – помните ту жемчужину, о которой вы писали?..
Я не дождался, пока он закончит.
– Она у вас! – вскричал я. Лицо мое горело, когда я мельком увидел свое отражение в зеркале.
Раффлс, казалось, был ошеломлен.
– Еще нет, – сказал он, – но я намерен завладеть ею до того, как мы прибудем в Неаполь.
– Она на борту?
– Да.
– Но как… где… у кого она?
– У малорослого немецкого офицеришки, нахала с закрученными усиками.
– Я видел его в курительной комнате.
– Это он, он вечно там торчит. Герр капитан Вильгельм фон Хойманн, как указано в списке пассажиров. Он посланник императора по особым делам, и он везет жемчужину.
– Вы выяснили это в Бремене?
– Нет, в Берлине, у одного знакомого газетчика. Стыдно даже признаться вам, Банни, что я нарочно за этим туда поехал!
Я расхохотался:
– Вовсе не нужно стыдиться! Вы делаете ровно то, на что я надеялся, когда мы с вами недавно разговаривали на реке.
– Вы надеялись? – Раффлс вытаращил глаза. Да, пришла его очередь изумляться, а моя – стыдиться пуще прежнего.
– Да, – ответил я, – мне очень нравилась эта мысль, но я не собирался высказывать ее первым.
– Тем не менее вы бы послушали меня тогда, на реке?
Конечно послушал бы – и я прямо ему об этом сказал; не дерзко, нет, не смакуя подробности, как смаковал бы тот, кто наслаждается такими приключениями ради них самих, – а упрямо, вызывающе, сквозь зубы, как человек, который хотел жить честно, но потерпел неудачу. И раз уж об этом зашла речь, я сказал ему гораздо больше. Весьма красноречиво, смею заметить, я живописал мою безнадежную борьбу, мое неизбежное поражение – ведь для человека с моим преступным прошлым все это было безнадежно и неизбежно, пусть даже преступное прошлое записано только в моей душе. Старая история про вора, пытающегося зажить честной жизнью, – затея противоестественная, и ей скоро приходит конец.
Раффлс решительно со мной не согласился. Мой обывательский взгляд на вещи заставил его только покачать головой. Жизнь человека – та же шахматная доска; почему бы не примириться с тем, что белое и черное поля чередуются? Почему непременно нужно выбирать либо то, либо другое, как делали наши праотцы в старомодных пьесах или романах? Что касается самого Раффлса, ему нравится находиться на всех клетках доски, да и свет сияет ярче по контрасту с тьмой. Мои умозаключения он считает нелепыми.
– Но в своем заблуждении вы не одиноки, Банни, – ведь все дешевые моралисты проповедуют подобную чепуху. Старик Вергилий – первый и прекрасный образчик такого рода. Я-то могу выбраться из Аверна[37], как только захочу, и рано или поздно выберусь навсегда. Вероятно, я не могу по-настоящему превратиться в общество с ограниченной ответственностью. Но я могу отойти от дел, остепениться и прожить остаток дней безупречно. И возможно, на все про все мне хватит одной этой жемчужины!
– Но не боитесь ли вы, что она слишком примечательна, чтобы ее можно было продать?
– Мы могли бы заняться рыбным промыслом и выудить ее вместе с мелкой рыбешкой. Представляете: после того как нас месяцами преследовали неудачи и мы уже начали подумывать о продаже шхуны… Бог мой, об этом будут говорить по всему Тихому океану!
– Да, но сначала ее нужно достать. Этот фон-как-его-там может нам помешать?
– Он опаснее, чем кажется, и в придачу чертовски нагл!
Как раз в этот момент мимо открытой двери в каюту промелькнула белая тиковая юбка, а вслед за ней – закрученные кверху усы.
– Но с ним ли нам придется иметь дело? Разве жемчужину не отдадут на хранение корабельному казначею?
Раффлс стоял у двери, хмуро глядя на Солент, но тут обернулся и презрительно фыркнул:
– Друг мой, уж не думаете ли вы, будто весь экипаж в курсе, что на борту находится такая драгоценность? Вы сказали, она стоит сто тысяч фунтов; в Берлине говорят – она бесценна. Даже капитан вряд ли знает, что фон Хойманн везет ее с собой.
– А он везет?
– Должен везти.
– Значит, иметь дело нам придется только с ним?
Он ни слова не ответил. Что-то белое снова промелькнуло мимо, и Раффлс, шагнув вперед, присоединился к двоим прогуливающимся.
Не то чтобы я мечтал оказаться на борту более роскошного парохода, нежели “Улан” компании “Северогерманский Ллойд”, встретить более обходительного джентльмена, чем его капитан, или более славных ребят, чем члены его экипажа. Уж по крайней мере это я готов охотно признать. Но я возненавидел наше плавание. И тут не виноват ни один человек, так или иначе связанный с кораблем; не виновата погода, неизменно идеальная. Дело было даже не в моих метаниях – я наконец-то порвал со своей совестью, и решение стало бесповоротным. Весь страх ушел вместе с щепетильностью, и я готов был кутить между ясным небом и сверкающим морем с беспечностью, достойной Раффлса. Но именно Раффлс мне и мешал, хотя не только он. Мешал Раффлс, да еще эта колониальная кокетка, возвращавшаяся домой после учебы в Германии.
Что он в ней нашел? Вопрос напрашивался сам собой. Конечно, он видел в ней не больше, чем я, но чтобы меня позлить или, быть может, наказать за долгое отступничество, он отвернулся от меня и всю дорогу от Саутгемптона до Средиземноморья занимался только этой девчонкой. Они постоянно были вместе. Полная нелепость. Они встречались после завтрака и не расставались до полуночи, и не было ни единого часа, когда бы вы не слышали ее гнусавый смех или его тихий голос, нашептывающий ей на ушко милый вздор. Да, вздор и ничто иное! Ну мыслимо ли, чтобы такой человек, как Раффлс, с его-то знанием мира и опытом в отношениях с женщинами (этой стороны его личности я нарочно никогда не касался, так как она заслуживает отдельного тома), так вот, возможно ли, спрашиваю я, чтобы такой человек нашептывал что-нибудь, кроме вздора, легкомысленной девчонке? Это было бы ох как несправедливо.
Нет, я признаю, что в этой юной особе была изюминка. Глаза, кажется, действительно недурны, да и овал ее маленького смуглого личика был очарователен – насколько вообще может очаровывать сама по себе геометрическая форма.
Я даже признаю в ней смелость – на мой вкус, впрочем, чрезмерную, – завидное здоровье, пылкость и живость. Вряд ли мне представится возможность передать одну из речей юной леди (это довольно трудная задача), и оттого я еще больше волнуюсь, достаточно ли беспристрастно смогу описать ее. Сознаюсь, у меня были по отношению к ней некоторые предубеждения. Меня задевал ее успех у Раффлса, которого, как следствие, я с каждым днем видел все меньше и меньше. Да, стыдно признаться, но меня терзало чувство, очень похожее на ревность.
Ревность – грубая, неистовая и недостойная – мучила еще кое-кого. Капитан фон Хойманн закручивал усики в одинаковые завитки, выпускал белые манжеты поверх всех своих колец и нахально пялился на меня сквозь очки без оправы; мы могли бы утешить друг друга, но ни разу не перемолвились ни словом. Щеку капитана украшал ужаснейший шрам – подарок из Гейдельберга[38], – и мне иногда думалось: как, должно быть, ему хочется украсить таким же образом Раффлса. Не то чтобы подача никогда не переходила к фон Хойманну. Раффлс позволял ему “переходить в атаку” по нескольку раз на дню ради злорадного удовольствия выбить соперника из строя, как только он “начнет укрепляться”, – это были его собственные слова, когда я лицемерно осудил его за скверное поведение по отношению к немцу на немецком корабле.
– Вы добьетесь, что вас тут невзлюбят!
– Разве что фон Хойманн.
– Но разумно ли это, если именно его мы должны надуть?
– Самое разумное, что я когда-либо делал. Подружиться с ним было бы провалом – больно уловка расхожая.
Я был утешен, ободрен, почти доволен. Я опасался, не пренебрегает ли Раффлс делом, и сгоряча так ему и сказал. Мы уже приближались к Гибралтару, а еще ни слова с самого Солента. Он с улыбкой покачал головой:
– У нас полно времени, Банни. Мы ничего не можем сделать, пока не прибудем в Геную, а произойдет это в лучшем случае в воскресенье вечером. Плавание только началось, и мы только начинаем; давайте же делать побольше, пока можем.
Разговор этот происходил после обеда на прогулочной палубе. Произнеся последнюю фразу, Раффлс окинул внимательным взором всю палубу от носа до кормы и решительным шагом удалился. Я отправился в курительную комнату, чтобы почитать в уголке и понаблюдать за фон Хойманном, который очень скоро пришел туда, выпил одну кружку пива и принялся за другую.
Немногих путешественников соблазняет Красное море в разгар лета; на “Улане” плыло, по правде говоря, не так уж много народу. Однако на прогулочной палубе было ограниченное число кают, и именно этим мы с Раффлсом объясняли тот факт, что жили в одной комнате. Я мог бы разместиться один внизу, но я был нужен наверху. По желанию Раффлса я потребовал, чтобы меня поселили с ним. Наше совместное обитание, кажется, не вызывало подозрений, хотя никакой внятной цели я в этом не видел.
В воскресенье днем я спал на своей нижней койке, когда Раффлс, сидевший в одной рубашке на диванчике, отдернул занавеску.
– Ахилл, хандрящий на корабельной койке!
– А чем еще заниматься? – спросил я, потягиваясь и зевая.
Однако я отметил его жизнерадостный тон и теперь изо всех сил пытался понять, в чем дело.
– Я нашел занятие поинтереснее, Банни.
– Да уж пожалуй!
– Вы не поняли. В любовном состязании рекорды пусть сегодня ставит наш немчик. А у меня есть дела поважнее.
Я свесил ноги с кровати и подался вперед, весь внимание. Внутренняя дверь, деревянная решетка, была закрыта и заперта, да еще занавешена, как и иллюминатор.
– Мы прибудем в Геную до захода солнца, – продолжал Раффлс. – Именно там мы и совершим наш подвиг.
– Так вы по-прежнему намерены это сделать?
– А разве я говорил, что не намерен?
– Вы вообще маловато говорили.
– Так и задумано, дорогой мой Банни, – зачем портить приятное путешествие лишними разговорами? Но время пришло. Это нужно сделать в Генуе или уже не делать вовсе.
– На суше?
– Нет, на борту, завтра ночью. Можно и сегодня, но лучше завтра, на случай неудачи. Если нас вынудят применить силу, мы сможем уехать первым же поездом, и правда не выйдет наружу, пока корабль не выйдет в море и фон Хойманна не найдут мертвым или одурманенным…
– Только не мертвым! – воскликнул я.
– Ну разумеется нет, – откликнулся Раффлс, – иначе и удирать не придется; но если мы все-таки дадим деру, то ночь с понедельника на вторник – самое время, ведь корабль отправится дальше, что бы ни случилось. Но не думаю, что придется прибегнуть к насилию. Насилие означает признание своей чудовищной несостоятельности. За все эти годы сколько раз вы видели, чтобы я кого-то ударил? Вроде бы ни разу, но я всякий раз вполне готов пойти на убийство, если нет другого выхода.
Я спросил, каким образом он предполагает проникнуть незамеченным в каюту фон Хойманна, и даже в сумраке занавешенной комнаты заметил, как загорелись его глаза.
– Заберитесь-ка на мою койку, Банни, и увидите.
Я забрался – но ничего не увидел. Раффлс протянул руку и открыл дверцу вытяжки – что-то вроде люка в стене как раз над его кроватью, дюймов восемнадцать длиной и вполовину меньше высотой. Она открывалась наружу и вела в вентиляционную шахту.
– Вот, – сказал он, – наша дверь к счастью. Откройте ее, если хотите; много вы не увидите, так как далеко она не открывается, но если ослабить пару шурупов, все будет хорошо. Шахта, как вы заметили, более или менее бездонна: вы проходите под ней всякий раз, когда идете в ванную, а верх ее – застекленная крыша на мостике. Вот почему нужно обстряпать все, пока мы будем в Генуе, – в порту на мостике нет вахты. Вытяжка напротив нашей – из каюты фон Хойманна. Всего-то и нужно, что открутить пару шурупов, есть даже балка, на которой можно стоять во время работы.
– А если кто-нибудь посмотрит снизу?
– Вот, – сказал он, – наша дверь к счастью.
– Крайне маловероятно, что внизу кто-нибудь будет бодрствовать, настолько маловероятно, что мы можем позволить себе рискнуть. Нет, я не могу послать вас туда, чтобы вы за этим проследили. Важнейший момент – нас никто не должен видеть после того, как мы пойдем спать. Пара юнг несут караул на палубе, и они будут нашими свидетелями; бог мой, это будет величайшая загадка всех времен и народов!
– Если фон Хойманн не станет сопротивляться.
– Сопротивляться! У него не будет такой возможности. Он пьет слишком много пива, чтобы чутко спать, и нет ничего проще, чем усыпить хлороформом того, кто уже и так дрыхнет. Однажды вы и сами так сделали – впрочем, напоминать вам о том случае нечестно. Почти сразу после того, как я просуну руку через вытяжку, Хойманн уснет. Я вползу внутрь и просто перелезу через него, Банни, мальчик мой!
– А я?
– Вы будете передавать мне то, что я скажу, держать оборону в случае каких-либо неожиданностей и вообще оказывать мне моральную поддержку, которой вы меня разбаловали. Это роскошь, Банни, но мне дьявольски тяжело обходиться без нее с тех пор, как вы стали пай-мальчиком!
Он сказал, что фон Хойманн наверняка спит с запертой дверью, которую он, Раффлс, конечно же, отопрет, и поведал о прочих способах запутать следы, обыскивая каюту. Не то чтобы Раффлс ожидал долгих поисков. Фон Хойманн наверняка хранит жемчужину при себе, и Раффлс даже точно знал, где и в чем он ее держит. Естественно, я спросил, откуда ему это известно, и его ответ привел меня в замешательство.
– Это древняя история, Банни. Я уж не помню, честно говоря, в какой Книге она рассказывается; помню только, в каком Завете. Но Самсону там крупно не повезло, а главной героиней была некая Далила.
И он посмотрел так многозначительно, что я ни на минуту не усомнился в смысле его слов.
– Так Далилу играет прекрасная австралийка? – спросил я.
– В совершенно безвредной, невинной манере.
– Она разузнала подробности его миссии?
– Да, я заставил его использовать все возможные средства, а это был великолепный козырь, на что я и рассчитывал. Он даже показал Эми жемчужину.
– Эми, вот как! И она немедленно разболтала вам?
– Ничего подобного. С чего вы взяли? Я уж как только ни бился, стараясь вытянуть из нее эти сведения.
Его тон должен был предостеречь меня. Но у меня не хватило такта воспринять предостережение. Наконец-то мне стал ясен тайный смысл этого яростного флирта! Ослепленный собственным озарением, не замечая его хмурого взгляда, я покачал головой и погрозил ему пальцем.
– Ах вы хитрюга! – воскликнул я. – Теперь я все понимаю! Как я был недогадлив!
– Уверены, что исправились?