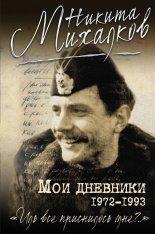Джентльмены-мошенники (сборник) Андерсон Фредерик
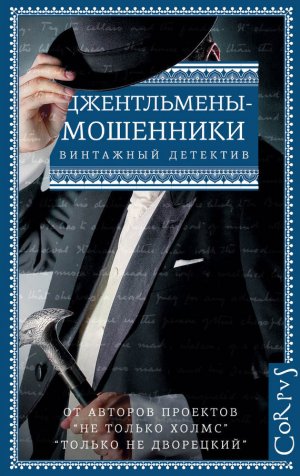
– Уверен! Теперь я понимаю, что не давало мне покоя всю неделю. Я просто не мог понять, что вы нашли в этой девчонке. Я и подумать не мог, что это тоже часть игры!
– Так вы думаете, это была часть игры и ничего больше?
– Конечно, старый вы жеребец!
– Вы не знали, что она дочь состоятельного фермера?
– Да есть дюжины состоятельных женщин, готовых выйти за вас хоть завтра.
– А вам не приходило в голову, что я могу завязать, начать все с чистого листа и жить долго и счастливо – где-нибудь на австралийских просторах?
– И вы говорите это таким тоном? Нет, точно не приходило!
– Банни! – крикнул он так резко, что я весь сжался в ожидании удара.
Но удара не последовало.
– Думаете, вы были бы счастливы? – осмелился я спросить.
– Бог его знает! – ответил он. И с этими словами ушел, оставив меня удивляться его словам, а более всего – тому, что послужило их причиной.
Из всех краж со взломом, которые Раффлс провернул на моих глазах, самой изящной и самой сложной стала та, что свершилась между часом и двумя ночи во вторник, на борту северогерманского парохода “Улан”, стоявшего на якоре в генуэзском порту.
Нам не встретилось никаких помех. Все было предусмотрено и шло по плану. Внизу и на мостике никого не было – только юнги на палубе. В двадцать пять минут второго Раффлс, без единого лоскутка на теле, зажав в зубах склянку, закупоренную ватой, и засунув за ухо крохотную отвертку, просунул ноги сквозь вытяжку над своей койкой; без девятнадцати минут два он вернулся – первой появилась голова, и в зубах по-прежнему была склянка, набитая ватой, чтобы заглушить стук похожей на огромный серый боб жемчужины о стекло. Раффлс развинтил шурупы и завинтил их снова; он открыл вытяжку в каюту фон Хойманна, а потом снова ее закрыл; так же он поступил с вытяжкой и в своей каюте. Что касается фон Хойманна, достаточно было приложить смоченную ватку к его усикам и немного подержать ее между раскрытых губ. После этого взломщик перелез туда и обратно через его копыта, не вызвав даже стона.
И вот она, награда! Жемчужина величиной с орех – нежно-розоватого оттенка, как ноготок леди, – этот трофей флибустьерских времен, дар европейского императора владыке Южных морей. Мы устроились поудобнее и пожирали ее глазами. Мы пили за нее виски и содовую, припасенные на ночь в предвкушении великого момента. Но момент был еще более велик, еще более триумфален, чем в наших самых смелых мечтах. Все, что теперь от нас требовалось, – это спрятать жемчужину (Раффлс вынул ее из оправы), так чтобы мы смогли выдержать самый тщательный обыск и по прибытии в Неаполь пронести ее на берег. Раффлс все еще искал для нее хорошее местечко, когда я уже лег спать. Сам я высадился бы немедленно, в ту же ночь, в Генуе и удрал бы вместе с добычей, но по дюжине причин, которые вот-вот должны были проясниться, Раффлс об этом и слышать не желал.
В общем и целом, не думаю, чтобы какие-то догадки или подозрения возникли до того, как мы снялись с якоря, но с уверенностью сказать не могу. Трудно поверить, что человека можно одурманить во сне хлороформом, а наутро он не почувствует никаких последствий и не учует подозрительного запаха. Тем не менее фон Хойманн на следующий день выглядел так, будто с ним ничего не случилось: на голове лихо сидит немецкая фуражка, усики щекочут козырек. Около десяти мы покинули Геную; ушел с корабля последний тощий, с синим подбородком чиновник; вытолкали взашей последнего торговца фруктами, который, вымокнув до нитки, отплыл на своей лодчонке, осыпая нас проклятиями; едва успел на борт последний пассажир – суетливый старик, заставивший большой корабль дожидаться его, пока он препирался с лодочником из-за пол-лиры. Но наконец мы отчалили, буксир открепился, маяк остался позади – и мы с Раффлсом стояли, перегнувшись через поручни и глядя на наши тени, дрожавшие на бледно-зеленой мраморной морской глади, вновь омывавшей бока нашего судна.
Фон Хойманн опять перешел в атаку – это тоже было частью плана. За этим занятием он должен был провести весь день, тем самым отодвигая роковой час; и хотя леди, похоже, скучала и то и дело бросала взгляды в нашу сторону, фон Хойманн горел желанием воспользоваться представившейся возможностью. Но Раффлс был угрюм и встревожен. Он не выглядел как человек, добившийся успеха. Я не мог предположить ничего иного, кроме того, что предстоящая в Неаполе неминуемая разлука изрядно портила ему настроение.
Он и не разговаривал со мной, и не позволял мне уйти.
– Постойте, Банни. Мне нужно кое-что вам сказать. Вы умеете плавать?
– Немного.
– Десять миль?
– Десять? – Я расхохотался. – Да я и одной не проплыву! А почему вы спрашиваете?
– Большую часть дня мы находимся милях в десяти от берега.
– К чему вы, черт возьми, клоните, Раффлс?
– Ни к чему, но я поплыву, если случится худшее. Полагаю, под водой вы совсем не сможете плыть?
Я не ответил на этот вопрос. Я едва расслышал его – мурашки побежали у меня по коже.
– Но почему должно случиться худшее? – прошептал я. – Нас ведь не разоблачили, нет?
– Нет.
– Тогда зачем говорить так, будто разоблачили?
– Могут разоблачить – на борту наш старый враг.
– Старый враг?
– Маккензи.
– Быть того не может!
– Бородатый человек, который поднялся на борт последним.
– Вы уверены?
– Уверен! Меня только огорчило, что вы не узнали его, как я.
Я промокнул лицо носовым платком. Теперь я вспомнил, что походка старика действительно показалась мне знакомой – да и шел он для своих лет слишком бодро, да и борода, если подумать, была какая-то неубедительная. Я посмотрел в оба конца палубы, но старика нигде не было видно.
– А вот это хуже всего, – сказал Раффлс. – Я видел, как он входил в каюту капитана двадцать минут назад.
– Но что привело его сюда? – в отчаянии вскричал я. – А вдруг это совпадение – может быть, он по чью-то еще душу?
Раффлс покачал головой:
– В этот раз вряд ли.
– То есть вы думаете, что по вашу?
– Я уже несколько недель опасаюсь этого.
– И все же вы здесь!
– А что мне делать? Я не хочу совершать никаких заплывов до тех пор, пока меня не вынудят. Я начинаю жалеть, что не внял вашему совету, Банни, и не покинул корабль в Генуе. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что Мак наблюдал и за кораблем, и за причалом до последнего момента. Именно поэтому он чуть не опоздал.
Раффлс достал сигарету и протянул мне портсигар, но я нетерпеливо покачал головой.
– Я все же не понимаю, – проговорил я. – Почему он гонится за вами? Он не мог догадаться о краже, ведь, насколько ему было известно, жемчужина находилась в полной безопасности. А у вас какие версии?
– Скорее всего, он просто шел по моему следу какое-то время, возможно, с тех пор, как наш приятель Крошей ускользнул из его рук в прошлом ноябре. Были и другие признаки. Не сказать чтобы я не был к этому готов. Но вполне возможно, что это всего лишь подозрение. Пусть попробует взять трофей, пусть попробует найти жемчужину! Какие у меня версии, мой дорогой Банни? Да я знаю, как он попал сюда, словно сам побывал в шкуре этого шотландца, и знаю, что он будет делать дальше. Он проведал, что я уехал за границу, и стал искать мотив; узнал о фон Хойманне и его миссии и сделал однозначный вывод. Прекрасная возможность поймать меня с поличным! Но ему это не удастся, Банни. Попомните мое слово, он обыщет весь корабль и всех пассажиров, как только обнаружится пропажа, но он будет искать напрасно. А вот и капитан зовет немчика в свою каюту. Через пять минут начнется!
Но ничего особенного не началось: ни суеты, ни обыска пассажиров, ни тревожного шепотка. Вместо переполоха на корабле царил зловещий покой, и мне было ясно, что Раффлса немало тревожит тот факт, что он ошибся в своих предсказаниях. Нечто грозное таилось в этом молчании – ведь произошла такая пропажа! Тянулись томительные часы, а Маккензи так ни разу и не показался. На обеде его не было – он ходил осматривать нашу каюту! Я оставил свою книгу на койке Раффлса и, забирая ее после обеда, дотронулся до одеяла. Оно еще хранило тепло чужого тела. Машинально я потянулся к вытяжке – как только я открыл ее, дверца на другом конце захлопнулась. Я дождался Раффлса.
– Хорошо! Пусть поищет жемчужину.
– Вы выкинули ее за борт?
– Считаю ниже своего достоинства отвечать на подобный вопрос.
Он развернулся на каблуках и большую часть дня провел при все той же мисс Вернер. Она была в простом платье из небеленого полотна, в котором выглядела одновременно скромно и нарядно: платье выгодно подчеркивало цвет ее лица, а алые прожилки на ткани оживляли простой крой. В тот день я действительно восхищался ею – ведь глаза у нее правда были красивые, да и зубы тоже, хотя я никогда не признавался себе в этом. Всякий раз я проходил мимо в надежде перемолвиться словечком с Раффлсом, сказать ему, что в воздухе веет опасностью, но он избегал даже смотреть на меня. Поэтому в конце концов я сдался. А потом увидел его в каюте капитана.
Его позвали первым. Он вошел улыбаясь и сидел с улыбкой, когда позвали меня. Каюта была просторная, что вполне соответствовало капитанскому званию. Маккензи сидел на диванчике, на полированном столике перед ним лежала борода; а вот перед капитаном лежал револьвер, и когда я вошел, старший помощник капитана, который позвал меня, захлопнул дверь и встал к ней спиной. Компанию дополнял фон Хойманн, нервно теребивший усики.
Раффлс поприветствовал меня.
– Замечательная шутка! – воскликнул он. – Помните жемчужину, которая вас так волновала, Банни, жемчужину императора, жемчужину, которую не купишь ни за какие деньги? Похоже, ее доверили нашему маленькому приятелю, чтобы он привез ее в Канудл-Дам[39], а бедолага возьми да и потеряй ее! И поскольку мы британцы, они возомнили, будто ее украли мы!
– Уж я-то знаю, что это вы, – вставил Маккензи, кивая на свою бороду.
– Замечательная шутка! – воскликнул он.
– Вы, вероятно, узнаете этот верноподданнический, полный патриотизма голос, – сказал Раффлс. – Смотрите, это наш старый приятель Маккензи из Скотленд-Ярда, прибыл из самой Шотландии!
– Дофольно! – крикнул капитан. – Фы дадите сепя опыскать, или мне фас застафить?
– Как хотите, – ответил Раффлс. – Но вам не будет никакого вреда, если вы дадите нам играть по правилам. Вы обвиняете нас в том, что мы проникли в каюту капитана фон Хойманна сегодня ночью и стащили эту дурацкую жемчужину. Что ж, я могу доказать, что пробыл в своей комнате всю ночь, и не сомневаюсь, что мой друг сможет доказать то же самое.
– Еще как смогу! – негодующе отозвался я. – Юнги могут засвидетельствовать.
Маккензи засмеялся и покачал головой над собственным отражением в полированном красном дереве.
– Да уж, хитро придумано! – сказал он. – И скорей всего, сработало бы, если б меня не было на борту. Но я только глянул на ихнюю вытяжку и скумекал, что знаю, как они провернули это дельце. Так или иначе, капитан, разницы никакой. Я просто защелкну наручники на этих молодчиках, а потом…
– По какому праву? – оглушительно взревел Раффлс. Никогда еще я не видел, чтобы его лицо так пылало. – Обыщите нас, если хотите, обыщите каждую вещь, каждый закоулок – но как вы смеете хоть пальцем нас тронуть без ордера!
– А зачем мне сметь, – отозвался Маккензи, копаясь в нагрудном кармане. Раффлс тоже запустил руку в карман. – Держите его! – завопил шотландец.
Здоровый кольт, бывший при нас не одну ночь, но ни разу за это время не стрелявший, грохнулся на стол, и капитан тут же схватил его.
– Хорошо же, – прорычал Раффлс помощнику капитана. – Отпустите меня, я не буду вырываться. Теперь, Маккензи, показывайте ордер!
– А вы его не попортите?
– Какой мне от этого прок? Показывайте! – повелительно произнес Раффлс, и сыщик подчинился. Раффлс поднял брови, читая документ, поджал губы, но внезапно расслабился и вернул бумагу с улыбкой, пожав плечами.
– Этого вам хватит? – осведомился Маккензи.
– Возможно. Поздравляю, Маккензи, – во всяком случае, у вас недурные карты. Два ограбления и ожерелье Мелроузов, Банни! – Он повернулся ко мне с грустной улыбкой.
– И все это легче легкого доказать, – сказал шотландец, пряча ордер в карман. – Для вас у меня тоже есть, – добавил он, кивнув на меня, – разве что не такой длинный.
– Потумать только! – укоризненно воскликнул капитан. – Мой корабль чуть не стал логофом фороф! Это пыло пы так неприятно, пфф! Я опязан закофать фас опоих до самого Неаполя!
– Ну уж нет! – воскликнул Раффлс. – Маккензи, вступитесь за нас – не предадите же вы своих соотечественников вопреки всякому закону! Капитан, мы не сбежим. Вы же сможете сохранить произошедшее в тайне всего на одну ночь? Взгляните, вот все, что у меня в карманах. Банни, выверните и ваши, пусть нас хоть догола разденут, раз думают, что у нас в рукавах может быть запрятано оружие. Все, о чем я прошу, – чтобы нам позволили выйти отсюда без наручников!
– Орушия, мошет, у фас и нет, – сказал капитан, – но как насчет шемчушины, которую фы форофали?
– Вы получите ее! – крикнул Раффлс. – Получите сию же минуту, если пообещаете, что не будет никакого публичного унижения!
– По рукам, – отозвался Маккензи, – до тех пор, пока будете паиньками. Ну, где она?
– На столе у вас под носом.
Мой взгляд опустился вниз, как и все остальные, но никакой жемчужины не нашел, только содержимое наших карманов: часы, записные книжки, карандаши, перочинные ножи, портсигары лежали на блестящей поверхности стола рядом с уже упомянутыми револьверами.
– Нечего нас дурачить, – сказал Маккензи. – Какая от этого польза?
– И не думаю! – рассмеялся Раффлс. – Я проверяю вас. Какой от этого вред?
– Шутки в сторону – она тут?
– На столе, клянусь всеми святыми.
Маккензи открыл портсигары и перетряс каждую сигарету. После чего Раффлс взмолился, чтобы ему позволили закурить, и когда его мольба была услышана, заметил, что жемчужина пролежала на столе гораздо дольше, чем сигареты. Маккензи тут же схватил кольт и открыл барабан.
– Не там, не там, – сказал Раффлс, – но уже горячо. Попробуйте патроны.
Маккензи вытряхнул их на ладонь и потряс каждым около уха – безуспешно.
– Ай, дайте их мне!
И в мгновение ока Раффлс нашел нужный, зубами вытащил пулю и торжественно возложил императорскую жемчужину на середину стола.
– После этого вы, возможно, окажете мне то скромное уважение, которое в вашей власти. Капитан, я немного злодей, как видите, и потому согласен и готов лежать в кандалах всю ночь, если вы находите это необходимым для безопасности корабля. Все, чего я прошу, – окажите мне сначала одну услугу.
– Это пудет зафисеть от того, что за услука.
– Капитан, на борту вашего корабля я сотворил гораздо большее зло, чем то, что известно вам. Я помолвлен – и я хочу попрощаться!
Полагаю, мы все были в равной степени изумлены, но выразил свое изумление один только фон Хойманн – из его уст вырвалось немецкое проклятие, и это, пожалуй, было первое, что он тут произнес. Однако он не замедлил дополнить проклятие живейшими возражениями против какого бы то ни было прощания. Его заставили замолчать, и коварный арестант добился своего. Ему были обещаны пять минут наедине с девушкой, пока капитан и Маккензи будут стоять неподалеку (но так, чтобы им ничего не было слышно) с револьверами за спиной. Когда мы друг за дружкой выходили из каюты, Раффлс остановился и сжал мою руку.
– В конце концов я вас все-таки подвел, Банни, – и это после всех наших приключений! Если бы вы знали, как мне жаль… Но много вам не дадут – я вообще не вижу, за что вам-то давать срок. Сможете ли вы простить меня? Ведь мы прощаемся на годы, а может, и навсегда, вы же понимаете! Вы были хорошим товарищем, когда нам приходилось туго; быть может, когда-нибудь вам не стыдно будет вспомнить, что вы остались хорошим товарищем до самого конца!
Он смотрел так выразительно, что я все понял. Последний раз в жизни пожимая эту сильную и изящную руку, я стиснул зубы и собрал в кулак все свое мужество.
Последняя сцена стоит перед моими глазами и будет стоять до самой смерти! Я помню каждую мелочь, каждую тень на солнечной палубе! Мы плыли среди островков, усеивающих путь от Генуи к Неаполю; по правому борту от нас удалялась Эльба – багровое пятно, над которым горело закатное солнце. Каюта капитана выходила на правый борт, и правая прогулочная палуба, залитая солнцем и расчерченная тенями, была безлюдна, если не считать нашей компании и бледной, худой коричневой фигурки на корме рядом с Раффлсом. Помолвлен? Я не мог в это поверить, до сих пор не могу. И тем не менее они стояли рядом, а мы не слышали ни слова. Они стояли в лучах заката, над длинной слепящей солнечной дорожкой, сверкавшей от Эльбы до обшивки “Улана”, и тени их доставали почти до наших ног.
И вдруг – мгновение, и готово – он совершил поступок, который до сих пор вызывает у меня одновременно и восхищение, и отвращение. Он обнял ее, поцеловал на наших глазах – а затем оттолкнул так, что она чуть не упала. Всем стало ясно, что сейчас случится. Старпом рванулся к Раффлсу, а я рванулся за старпомом.
Раффлс вскочил на поручень.
– Держите его, Банни! – крикнул он. – Держите крепче!
И я выполнил его последнее приказание, приложив все силы, не думая о том, что делаю, а только о том, что он этого требует, – и увидел, как вскинулись его руки, а голова нырнула вниз и гибкое, стройное тело прорезало закат так легко и изящно, словно он прыгнул с мостика для собственного удовольствия!
– Держите его, Банни! – крикнул он. – Держите крепче!
Что дальше творилось на палубе, я вам сказать не могу, так как меня там не было. Мой приговор, длительное заключение и вечный позор вряд ли заинтересуют или взволнуют вас, разве только вы убедитесь в том, что я, по крайней мере, получил по заслугам. Но одну вещь я должен рассказать, хотите верьте, хотите нет – всего одну вещь, и я закончу.
Меня отвели в каюту второго класса по правому борту, немедленно надели наручники и заперли дверь, будто я был добычей не хуже Раффлса. Тем временем с корабля спустили шлюпку, которая в тщетных поисках плавала туда-сюда, что, несомненно, потом было зафиксировано в каком-нибудь протоколе. Но то ли заходящее солнце, сверкавшее в волнах, ослепило всех, то ли я стал жертвой странной иллюзии.
Шлюпка вернулась, снова заработал двигатель, а арестант глядел из иллюминатора на освещенные солнцем воды, которые, как он думал, навсегда сомкнулись над головой его товарища. Внезапно солнце село за остров Эльба, дорожка пляшущего света мгновенно потухла и исчезла без следа, и я увидел (если меня не обмануло зрение), как вдалеке, в нескольких милях за кормой, на сером фоне мелькает темная точка. Рожок сзывал пассажиров к ужину – может быть, поэтому все, кроме меня, перестали всматриваться в даль. Я потерял из виду свою находку, затем снова обнаружил ее; вот она скрылась под водой, затем вовсе пропала, но тут же появилась опять. Маленькая точка, пляшущая в сумрачно-серой дали, плыла к багровому острову под темнеющим закатным небом в золотых и вишневых прожилках. Тьма поглотила ее, прежде чем я сумел разобрать, была это человеческая голова или нет.
Из сборника Раффлс: новые приключения взломщика-любителя, или Черная маска (1901)
Художник Ф. К. Йон
Та еще синекура
До сих пор не могу сказать, что удивило меня больше – телеграмма, призывающая обратить внимание на объявление, или само объявление. Я пишу, а телеграмма лежит передо мной. Отправили ее, по-видимому, с Вир-стрит в восемь часов утра 11 мая 1897 года, а получили меньше чем через полчаса в Холлоуэе[40]. И в этом-то унылом районе она вовремя нашла меня, неумытого, но уже засевшего за работу, пока жара не разошлась и на моем чердаке не стало невыносимо душно.
“Посмотри объявление мистера Матьюрина Дейли мейл может подойти настоятельно советую попытаться поговорю если нужно…”
Я воспроизвожу послание как есть, на одном дыхании – а тогда у меня самого перехватило дыхание, но я не привожу инициалов в конце, которые довершили сюрприз. Вне всякого сомнения, они обозначали имя одного врача, получившего рыцарское звание, до приемной которого было рукой подать от Вир-стрит и который когда-то называл меня родичем, посланным ему за грехи. А как он только не титуловал меня впоследствии! Меня клеймили позором семьи, но мне всегда чудилось, что у почтенного родственника так и просятся с языка более сильные выражения. Что посеешь, то и пожнешь, сам стелил постель, сам в ней спи. Если я возымею наглость еще раз сунуться в этот дом, вылечу отсюда гораздо быстрее, чем вошел… Все это и даже больше самый близкий оставшийся у меня родственник мог сказать несчастному в лицо, мог дернуть шнур звонка и дать бесчеловечные указания слуге – и вдруг он смягчается до такой телеграммы! Нет слов, чтобы описать мое изумление. Я буквально не верил глазам своим. Тем не менее их свидетельство все больше убеждало меня, ибо послание было совершенно в духе отправителя. Краткое до скаредности, до смешного категоричное, экономящее полпенни за счет смысла, но не скупящееся на “мистера” Матьюрина – как есть мой выдающийся родственник, от плеши до мозолей. Да и все прочее, если подумать, вполне на него походило. Он славился склонностью к благотворительности – в конце концов, репутацию надо поддерживать. Может, поэтому, а может, из-за внезапного порыва, на который иногда способны даже самые расчетливые люди: утренние газеты за чашкой чаю, случайно увиденное объявление – и все остальное на почве угрызений совести.
Да, на это стоило поглядеть своими глазами, и чем скорее, тем лучше, хотя работа камнем висела на мне. Я писал серию статей о тюремной жизни, стараясь вонзить перо в самое сердце системы. Филантропический литературный ежедневник публиковал мои “разоблачения”, причем самые тяжкие – с наибольшим смаком, а условия сотрудничества если и не вполне подходили для творческой работы, вполне устраивали меня, обеспечивая безбедное существование. Случилось так, что мой первый чек пришел как раз с восьмичасовой почтой, и вы поймете мое положение, если я скажу, что мне пришлось обналичить его, дабы приобрести “Дейли мейл”.
Что можно сказать о самом объявлении мистера Матьюрина? Если бы я разыскал его, оно говорило бы само за себя, но у меня его нет, и я помню только что-то о “сиделке-мужчине и компаньоне”, который “нужен для ухода за пожилым джентльменом слабого здоровья”. Сиделка-мужчина! В конце стояла совсем уж нелепость: “щедрый оклад для выпускника университета или частной школы” – и внезапно я понял, что получу это местечко, если приду по объявлению. Какой еще “выпускник университета или частной школы” мечтает о такой работе? Да и найдется ли хоть один подобный кандидат в таком же стесненном положении? И потом, мой смягчившийся родственник – он не просто обещал поговорить обо мне, он был тем самым человеком, к которому естественно было бы обратиться в подобном случае! Разве могут чьи-нибудь рекомендации соперничать с его советом в таком вопросе, как выбор сиделки? И неужели подобные обязанности непременно отвратительны и тошнотворны? Обстановка уж точно будет получше, чем у меня, особенно на моем чердаке, к тому же еда и все прочие условия, о коих я мог лишь мечтать, возвращаясь в свое омерзительное пристанище. Поэтому я заглянул к старьевщику, где новичком был разве что в своей нынешней роли, и уже через час красовался на крыше конки в приличном, хотя и старомодном костюме, слегка траченном молью, и в новой соломенной шляпе.
В объявлении был указан адрес квартиры, находящейся в Эрлс-Корт. Чтобы добраться до нее, мне пришлось совершить путешествие по пересеченной местности, прокатиться на поезде Метрополитан-Дистрикт-лайн[41] и под конец пройти семь минут пешком. Было уже далеко за полдень, когда я наконец достиг Эрлс-Корта и шагал по деревянной мостовой[42], приятно пахнувшей свежей смолой. Это было восхитительно – снова очутиться в цивилизованном мире. Тут были мужчины в пальто и дамы в перчатках. Единственное, чего я боялся, – как бы не столкнуться с кем-нибудь из старых знакомых. Но сегодня мне везло, я нутром чувствовал. Я получу эту работу и смогу иногда вдыхать запах деревянных мостовых, бегая по поручениям. А может, мой подопечный захочет однажды прокатиться в кресле-каталке?
Добравшись до места, я забеспокоился. Это был маленький дом в переулке, и я пожалел доктора, чья табличка висела на ограде перед окнами первого этажа: ему, должно быть, приходится туго, подумалось мне. Но себя жалеть было приятнее. Я окунулся в воспоминания о квартирах получше этих. Здесь и балконов-то не было. Швейцар без ливреи. Нет лифта, а ведь мой инвалид живет на четвертом этаже! Карабкаясь наверх – эх, если б не довелось мне жить на Маунт-стрит! – я столкнулся с удрученным субъектом, спускавшимся вниз. Румяный молодец в сюртуке распахнул мне дверь.
– Здесь живет мистер Матьюрин? – осведомился я.
– Ага, – отозвался румяный молодец с развеселой ухмылкой на физиономии.
– Я… я пришел по поводу его объявления в “Дейли мейл”.
– Вы уже тридцать девятый! – воскликнул румяный. – На лестнице вы встретили тридцать восьмого, а ведь еще не вечер! Простите, что разглядываю вас. Да, предварительное испытание вы прошли и можете войти. Вы один из немногих. Большинство мы приняли после завтрака, но теперь швейцар сразу заворачивает самые безнадежные случаи, и последний парень был за двадцать минут первым. Проходите.
Меня провели в пустую комнату с большим эркером, благодаря которому мой румяный друг смог осмотреть меня еще придирчивее при хорошем освещении – это он проделал без тени ложной деликатности, а затем посыпались вопросы.
– Университет окончили?
– Нет.
– Частную школу?
– Да.
– Какую?
Я ответил, и он вздохнул с облегчением.
– Наконец-то! Вы первый, с кем мне не пришлось спорить по поводу того, что является, а что не является престижной частной школой. Вас выгнали?
– Нет, – ответил я, замешкавшись, – нет, не выгоняли. И вы, надеюсь, меня тоже не прогоните, если я, в свою очередь, задам вам вопрос?
– Конечно, задавайте.
– Вы сын мистера Матьюрина?
– Нет, меня зовут Теобальд. Вы могли видеть мое имя внизу.
– Врач? – догадался я.
– Его врач, – уточнил Теобальд с удовлетворенным видом. – Врач мистера Матьюрина. По моему совету он собирается нанять компаньона, который помогал бы ему, и он хочет, чтобы это был джентльмен, если удастся такого найти. Пожалуй, он с вами поговорит, хотя за весь день он побеседовал только с двоими или троими. Есть кое-какие вопросы, которые он предпочитает задавать сам, и не стоит попусту вертеться вокруг да около. Поэтому я, пожалуй, доложу ему о вас, прежде чем мы двинемся дальше.
И он скрылся в комнате, которая находилась ближе всего к выходу, насколько я мог слышать, так как квартирка была очень маленькая. Однако нас разделяли две запертые двери, и мне приходилось довольствоваться доносившимся сквозь стену бормотанием, пока доктор не вернулся за мной.
– Я убедил моего пациента поговорить с вами, – прошептал он.
– Я убедил моего пациента поговорить с вами, – прошептал он, – но, должен сказать, за результат не ручаюсь. Ему очень трудно угодить. Приготовьтесь – он ворчливый инвалид, и не обольщайтесь – если и получите местечко, это та еще синекура.
– Можно узнать, что с ним?
– Конечно – когда получите место.
Доктор Теобальд вышагивал впереди с таким профессиональным достоинством, что я не мог не улыбнуться, следуя за фалдами его сюртука в комнату больного. Но эту улыбку я оставил за порогом темной комнаты, вонявшей лекарствами и мерцавшей склянками. В полутьме на постели лежал костлявый человек.
– Подведите его к окну, подведите к окну, – тявкнул писклявый голос, – и давайте посмотрим на него. Приподнимите штору. Да не настолько, черт возьми, не настолько!
Доктор воспринял ругательство как вознаграждение. Я уже не жалел его. Теперь мне стало совершенно ясно, что у него один-единственный пациент, который не сильно его обременяет. Я тут же решил, что не так-то много нужно умения, чтобы мы вдвоем удержали его в живых. У мистера Матьюрина, однако, было такое бледное лицо, какого я ни разу в жизни не видывал, а зубы блестели в полумраке так, словно иссохшие губы никогда не смыкались – даже когда он говорил, – и вам вряд ли удастся вообразить что-нибудь более жуткое, чем не сходящая с его лица спокойная ухмылка. С этой ухмылкой он и изучал меня, пока доктор придерживал штору.
– Так вы считаете, что сможете ухаживать за мной, а?
– Уверен, что смогу, сэр.
– В одиночку, подумайте! Я больше никого не держу. Вам придется готовить себе жратву, а мне мою бурду. Думаете, справитесь?
– Да, сэр, думаю, справлюсь.
– С чего это? У вас есть опыт такого рода?
– Нет, сэр, никакого.
– Тогда почему вы делаете вид, будто есть?
– Я всего лишь хотел сказать, что сделаю все, что в моих силах.
– Всего лишь, всего лишь! Надо думать, вы всегда делаете все, что в ваших силах?
Я понурился. Не в бровь, а в глаз. И что-то эдакое было в моем инвалиде, что заставило меня проглотить уже готовую вырваться ложь.
– Нет, сэр, не всегда, – просто ответил я.
– Хе-хе-хе! – захихикал старый мерзавец. – Хорошо, что вы это признаете! Да, хорошо, сэр, очень хорошо. Если бы вы не сознались, вас бы уже вышвырнули вон, с лестницы бы спустили! Но вы спасли свою шкуру. Вы можете больше. Так значит, вы окончили частную школу, и школа ваша очень хорошая, но вы не учились в университете. Верно?
– Совершенно верно.
– Что же вы делали по окончании школы?
– Я получил наследство.
– А потом?
– Растратил его.
– И с тех пор?
Я стоял как осел.
– И с тех пор, я спрашиваю?
– Один мой родственник расскажет вам, если спросите. Он выдающийся человек, и он обещал замолвить за меня словечко. Сам я, пожалуй, больше ничего не скажу.
– Но вы должны, сэр, должны! Не думаете же вы, что я верю, будто выпускник хорошей частной школы станет искать такого местечка, если только с ним не приключилось ничего эдакого? Я ищу первосортного джентльмена – впрочем, не так уж важно, какого он будет сорта, – но мне вы должны рассказать, что приключилось, даже если не рассказываете никому другому. Доктор Теобальд, сэр, катитесь к дьяволу, если не понимаете намеков. Этот человек может подойти, а может и не подойти. Вам больше нечего здесь делать до тех пор, пока я не пришлю его вниз с тем или иным ответом. Убирайтесь, сэр, убирайтесь; и если вы считаете, что можете на что-нибудь пожаловаться, запишите это в счет!
Возбудившись от нашей беседы, писклявый голосишко окреп, и последнее едкое оскорбление пациент выкрикнул вслед верному лекарю, когда тот уже удалился с таким видом, словно – я был уверен – намеревался поймать несносного больного на слове. Хлопнула дверь спальни, затем входная дверь, и каблуки доктора застучали вниз по общей лестнице. Я остался в квартире один на один с этим весьма необычным и довольно страшным стариком.
– К черту, скатертью дорога! – проворчал инвалид, немедленно приподнимаясь на одном локте. – Может, телом своим я и не могу похвастаться, зато по крайней мере у меня есть старая пропащая душа, моя собственная. Вот почему я хочу, чтобы рядом был первосортный джентльмен. Слишком уж я зависим от этого парня. Он даже не разрешает мне курить, сидит в квартире целыми днями и следит, чтобы я не курил. Сигареты вы найдете за “Мадонной на троне”.
Это была стальная гравюра великого Рафаэля, рама которой не прилегала к стене; стоило дотронуться до нее, как из-за рамы выпала пачка сигарет.
– Спасибо, а теперь огоньку.
Я чиркнул спичкой и держал ее, пока больной не затянулся, – и тут я вздохнул. Мне вдруг вспомнился мой бедный старина Раффлс. Колечко дыма, достойное великолепного А. Дж., поднималось от губ больного.
– А теперь возьмите и себе. Я курил и более ядовитые сигареты. Но даже этим далеко до “Салливан”!
Не могу повторить, что я сказал. Понятия не имею, что я сделал. Я только знаю… я только знал: это был А. Дж. Раффлс во плоти!
– Да, Банни, это был дьявольский заплыв! Но утонуть в Средиземном море не так-то просто. Закат выручил меня. Море пылало. Я почти не плыл под водой, но изо всех сил старался спрятаться в солнечных бликах; когда солнце село, я, должно быть, уплыл уже на милю. Все это время я был невидим. На это я и рассчитывал и надеюсь только, что меня не сочли самоубийцей. Меня наверняка рано или поздно вычислят, Банни, но уж лучше пусть меня вздернет палач, чем я брошу собственную калитку.
– Раффлс, дружище, подумать только – вы снова рядом! Мне кажется, будто мы опять на борту немецкого лайнера, а все, что случилось после, – просто страшный сон. Я думал, тот раз был последний!
– Я тоже так думал, Банни. Я очень рисковал и бился как мог. Но игра удалась, и когда-нибудь я расскажу вам как.
– О, я потерплю. Для меня достаточно, что вы лежите передо мной. Не хочу знать, как вы здесь оказались и почему, хотя боюсь, что с вами все не очень-то ладно. Я должен хорошенечко посмотреть на вас, прежде чем дам вам сказать еще хоть слово!
Чтобы хорошенечко посмотреть на него, я приподнял штору и сел рядом с ним на кровать. Понять, каково же на самом деле состояние его здоровья, я так и не смог, но отметил про себя, что Раффлс уже не тот и никогда не будет прежним. Он состарился лет на двадцать; на вид ему можно было дать не меньше пятидесяти. Волосы поседели – тут не было никакой маскировки, – и лицо тоже побелело. От уголков глаз и рта разбегались глубокие морщинки. В то же время глаза остались светлыми и живыми, как раньше, по-прежнему внимательными, серыми и блестящими, словно хорошо закаленная сталь. Даже рот, особенно с сигаретой, был ртом Раффлса и ничьим иным: сильный и решительный, как его хозяин. Разве что физическая сила покинула Раффлса, но этого было более чем достаточно, чтобы мое сердце обливалось кровью по любезному моему плуту, стоившему мне всех связей, которыми я дорожил, кроме связи между нами двоими.
– Что, постарел? – спросил он после долгого молчания.
– Немного, – признался я. – Но это скорее из-за волос…
– С волосами долгая история, которую я расскажу, когда мы обо всем поговорим… хотя я часто думал, что все началось именно с этого заплыва. Но остров Эльба – чудное местечко, уверяю вас. А Неаполь еще чуднее!
– Вы туда все-таки попали?
– А то! Это европейский рай для таких благородных особ, как мы. Но ничто не сравнится с Лондоном в смысле низкой теплопроводности: здесь-то никогда не становится слишком жарко, а если становится – сами виноваты. Это такая калитка, от которой вы не отойдете, если сами себя не выгоните. Поэтому я снова здесь, вот уже шесть недель как вернулся. И собираюсь затеять что-нибудь.
– Но вы не в слишком-то хорошей форме, старина, не так ли?
– Не в форме? Дорогой мой Банни, я мертв – лежу на дне морском, – и не забывайте об этом ни на минуту!
– Но вы здоровы или нет?
– Нет, я наполовину отравлен предписаниями Теобальда и вонючими сигаретами и чертовски ослаб от лежания в постели.
– Тогда с какой стати вы в постели, Раффлс?
– Уж лучше в постели, чем в тюрьме, вам-то это, боюсь, известно, мой бедный приятель. Говорю вам – я мертв, и единственное, чего я страшусь, – как бы ненароком не воскреснуть. Неужели вы не понимаете? Я не смею и носу показать на улицу – днем. Вы даже не представляете себе, какое количество совершенно невинных вещей не смеет делать мертвец. Я даже не могу курить “Салливан”, потому что никто никогда не питал к ним такого пристрастия, как я, пока был жив, – а ведь никогда не знаешь, что может вызвать подозрение.
– Что же привело вас в этот дом?
– Я мечтал о квартире, и один человек на корабле порекомендовал мне эту. Такой славный парень, Банни, – он был моим поручителем, когда пришла пора подписывать договор аренды. Понимаете, я лежал на носилках – поистине душераздирающая картина: старый австралиец в сердце Старого Света, совершенно один, надеется добраться до Энгадина, терпит неудачу, из сентиментальных побуждений оседает в Лондоне, чтобы здесь умереть, – вот история мистера Матьюрина. Если она не трогает вас, Банни, то вы такой первый. Но старину Теобальда она тронула до глубины души. Я его доход. Подозреваю, что он хочет жениться на мои деньги.
– Разве он не чувствует подвоха?
– Да что вы – он отлично все чувствует! Просто он не знает, что я знаю, что он знает, и в справочнике нет такой болезни, от которой он не лечил бы меня с тех пор, как заполучил в свои руки. Надо отдать ему должное, похоже, он считает, что я ипохондрик чистейшей воды, но молодой человек далеко пойдет, если останется при этой калитке. Он половину ночей здесь проводит, по гинее за каждую.
– Много же должно быть гиней, старина!
– Немало, Банни. Большего я не могу сказать. Но не думаю, что в ближайшее время их убудет.
Я не собирался допытываться, откуда брались гинеи. Как будто меня это волновало! Но конечно, я спросил Раффлса, каким же немыслимым образом он напал на мой след. Мой вопрос вызвал на его лице улыбку, с какой пожилые джентльмены потирают руки, а пожилые леди кивают при встрече. Прежде чем ответить, Раффлс выпустил идеально круглое колечко синего дыма.
– Я ждал, что вы спросите об этом, Банни, и должен признаться, что давненько не имел такого повода для гордости. Конечно, для начала я мгновенно распознал вас через эти тюремные статейки – они не подписаны, но чувствовалась рука моего кролика, побывавшего в клетке!
– Но кто дал вам мой адрес?
– Я выпытал его у вашего замечательного редактора: наведался к нему среди ночи – по ночам я выхожу прогуляться вместе с другими привидениями – и слезно умолял целых пять минут. Я ваш единственный родственник, на самом деле у вас другое имя – если бы он стал настаивать, я бы назвал мое. Но он не настаивал, Банни, и я, пританцовывая, спустился по лестнице с вашим адресом в кармане.
– Вчера вечером?
– Нет, на прошлой неделе.
– Так и объявление, и телеграмма – ваших рук дело!
Я, конечно же, от волнения забыл и о том и о другом, но мне, похоже, вообще не стоило объявлять о своем запоздалом открытии столь торжественно. Потому что Раффлс посмотрел на меня, как смотрел раньше, и меня ужалил его прищуренный взгляд.
– К чему все эти хитрости? – обиженно воскликнул я. – Почему вы не могли просто приехать ко мне в кэбе?
Он не сообщил мне, что я, как всегда, безнадежен. Он не назвал меня своим милым кроликом.