Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919) Хазан Владимир
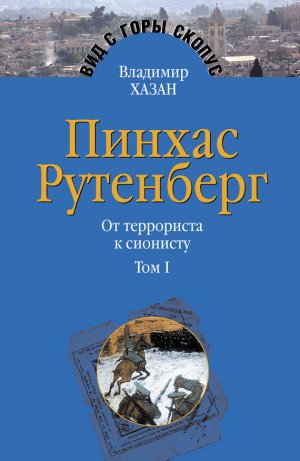
Прав был, скорее, О. Мандельштам, посвятивший 9-му января специальную статью (1922) и писавший о том, что
у исторических событий нет режиссуры. Без указаний, без сговору выходят участники на площади и улицы, глухим беспокойством выгнанные из укромного жилья. Неведомая сила бросает их на городские стогны, во власть неизвестного (Мандельштам 1990, II: 267).
Трудно ручаться, что «исторический анализ» Мандельштама приложим ко всем без исключения массовым народным выступлениям, но в отношении 9 января поэт, думается, не ошибался: и социал-демократы, и социал-революционеры были бессильны перед мощной стихией толпы, переживавшей нечто подобное религиозному экстазу: энергия аккумулировалась не одиночками, а шла изнутри самой многотысячной массы рабочих, их жен и детей, двигавшихся в этот день к Зимнему дворцу. Современник писал:
А раз родившись, эта идея <пожаловаться царю на свое тяжелое положение> пустила глубокие и широкие корни во всем рабочем населении Петербурга, – и уже скоро во всех отделах, во всех аудиториях только тем и занимались, что вырабатывали те требования, которые нужно поместить в петиции к царю (Мандельберг 1910: 55).
Об этом же вспоминает и Рутенберг, который, будучи представлен к Гапону эсерами, судя по всему, осуществлял «партийный надзор» за рабочей массой:
Я видел всю стихийность развертывающихся передо мною событий, все бессилие революционных партий и интеллигенции оказать какое бы то ни было влияние на них, не мог понять позиции правительства, допускавшего все это на свою же, так мне казалось, погибель (ДГ: 31).
Нет оснований не согласиться с С. Мстиславским, полагавшим, что можно спорить, насколько «практическое решение» Гапона было «"практическим” на самом деле»,
но что оно явилось конкретным предложением, противопоставленным в те дни «идеологическим» разговорам партийной интеллигенции, ведшей кружковую работу в рабочей среде, это – факт несомненный. И один уже этот факт отодвинул в январские дни партийное интеллигентское руководство и повел массы за Гапоном. Партийному руководству, чтобы не остаться вне событий, естественно пришлось так или иначе к этому движению примкнуть. Некоторые – как с.-р. Рутенберг, например, – взялись за это дело даже с очень большой горячностью: «идеологические основы» блока с гапоновским движением были, конечно, сейчас же без особого труда подысканы и установлены. Были ли они искренни? Нет. В такой же мере, как не могли быть искренни предположения (в частности, особо настойчиво выдвигавшиеся тем же Рутенбергом), что нам удастся подхватить и повести дальше, развертывая в доподлинное революционное выступление, движение, начатое Гапоном (Мстиславский 1928а: 8).
Гапон сделал то, что никто сделать в той ситуации не смог – возглавил массовую демонстрацию, и вряд ли кто отважился бы поэтому разыгрывать его как свою политическую карту. Нельзя, разумеется, утверждать, будто бы Рутенберг не имел никакого отношения к организации шествия или составлению народной петиции к царю – по свидетельству О.Н. Хоменко, он ее редактировал, а В. Войтинский однозначно заявлял даже о непосредственном авторстве Рутенберга (Войтинский 1923: 29–30). Одновременно с этим краски оказались несколько сгущены: так, желая придать образу Рутенберга побольше величия и в угоду этому искажая не только реальные события, но и само время, когда они произошли, нью-йоркская газета «Русское слово» в декабре 1917 г. писала:
Г. Рутенберг – известный социалист-революционер, ведший Гапона <курсив наш. – В.Х.> в кровавое воскресенье 9-го января 1904 г. <sic> во главе огромного шествия к Зимнему Дворцу…» (Як. 1917: 4).
Впрочем, человек инициативный и энергичный, Рутенберг сразу стал видной фигурой массового шествия: начальник Петербургского охранного отделения A.B. Герасимов в своих воспоминаниях сообщал, со слов Гапона, что не исключалась даже возможность покушения на Николая И, если он выйдет говорить с народом (Герасимов 1985/1934: 64). Санкт-Петербургское губернское жандармское управление, занимавшееся расследованием беспорядков в столице и привлекшее Рутенберга через несколько дней к дознанию, выдвинуло против него обвинение «в подстрекательстве толпы идти к Зимнему дворцу и грабить оружейные магазины для оказания вооруженного сопротивления» (из докладной записки вице-директора Департамента полиции С.Е. Виссарионова, составленной в марте 1909 г., см. Приложение I. 2). Однако поскольку Рутенберг не был арестован, покинул Петербург и уехал за границу, никаких серьезных доказательств у полиции, как видно, не было.
Одна из главных реальных заслуг Рутенберга в день Кровавого воскресенья заключалась в том, что он спас Гапона: после того как был дан сигнал к стрельбе по мирной демонстрации, он уложил попа на землю, потом увлек за собой подальше от смертельной опасности и в одном из проходных дворов срезал его длинные волосы и бороду. Вытащенный из-под пуль и поменявший внешность предводитель сам называл Рутенберга своим «спасителем» (Гапон 1925: 119). Приписываемое Талону некоторыми авторами переодевание в женское платье в духе мадам Шабельской – не более чем досужий вымысел (Баки б/г <1992>): 345).
Сам Рутенберг позднее вспоминал:
Я предложил остричь его и пойти со мной в город.
Он не возражал.
Как на великом постриге, при великом таинстве, стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего и, получая в протянутые ко мне руки клочки гапоновских волос, с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли:
– Свято.
Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия (ДГ: 35, ср.: Гапон 1918: 74)17.
Эта сцена с Рутенбергом в роли «цирюльника» воспринималась современниками как главный акт спасения Гапона (см.: Раупах 2007: 66-7) и не раз потом – с неизменными небольшими «отсебятинками» – калькировалась в пересказах советских популяризаторов гапоновского сюжета:
Через заборы и канавы, задворками и переулками Рутенберг привел переодетого священника в дом, населенный рабочими.
Рутенберг предложил Гапону остричь его, чтобы его не узнали. Растерянный, напуганный Гапон не возражал.
Рутенберг стриг Гапона, а кругом, как на великом постриге, с обнаженными головами стояли рабочие. Протягивая руки, они получали клочки гапоновских волос и, пряча их, с благословением, как на молитве, повторяли: – Свято!
Волосы этого провокатора разошлись потом между рабочими и хранились как святыня (Тарараев 1931: 24).
Гапон впоследствии не раз смаковал именно эту деталь – якобы припасенные дальновидным Рутенбергом ножницы: «Какой хитрец этот Рутенберг, – по свидетельству А. Герасимова, повторял он, – ножницы захватил с собой!» (Герасимов 1985/1934: 28). Негодуя против «предусмотрительного» Мартына, к этой сцене обращался и В.В. Розанов:
Когда скрывавшийся Гапон перескочил через какой-то забор и растерялся, как скрыться, аккуратный Рутенберг-Мартын моментально вынул из кармана ножницы, предусмотрительно захваченные с собою (в такое утро, как 9-го января!!), и остриг ему волосы. Гапон стал неузнаваем и скрылся. Он «спас» Гапона (Розанов 2004: 381)18.
Однако, судя по всему, никакого дальновидного плана у Рутенберга не было: ножниц с собою он специально не захватывал, а использовал для придания священнику светского вида свой перочинный нож, в котором были складные ножницы. Потом этот самый нож всплывет в сцене казни Гапона. Обращаясь к «анонимному очевидцу», а на самом деле к главному экзекутору А. Дикгофу-Деренталю, Рутенберг просит его прикрыть лицо мертвого Гапона: «Обрежь веревку и прикрой».
Он протянул мне перочинный ножик, в котором были небольшие складные ножницы.
– Этими самыми ножницами я ему обрезал волосы тогда, 9-го января… А теперь ими же… (<Дикгоф-Деренталь> 1909: 120).
Говоря языком Савинкова-писателя, автора романа о террористах, «то, чего не было» до 9 января, возникло в ходе произошедших событий, в итоге чего Кровавое воскресенье оказалось поворотным пунктом российской истории, а Рутенберг, участие которого в подготовке шествия вряд ли следует преувеличивать, превратился в одну из ключевых фигур русской революции. Для современников их имена, Гапона и Мартына-Рутен-берга, звучали рядом.
Имен Гапона и Петра Рутенберга, – писал впоследствии М. Вишняк, – я до этого не слыхал. Но их обращение к верховной власти мне импонировало тем, что было открытым, а не подпольно-анонимным, – что мне представлялось безответственным призывом фанатиков к низвержению строя руками малосознательных масс и одиночек-энтузиастов. Задуманное как мирная демонстрация и кончившееся кровью, 9-ое января убедило меня в несостоятельности моей антиреволюционной позиции (Вишняк 1954: 96-7).
Вытащив Гапона из-под пуль, Рутенберг отправил его в деревню под Петербургом. Считается, что он же помог ему скрыться за границу:
Рутенберг, имевший связи в революционных кругах (среди социалистов-революционеров), помог ему перебраться за границу, и через несколько дней Гапон благополучно добрался до Женевы (Зензинов 1953: 175).
Эту же версию повторяют и современные авторы (Гусев 1992: 25; Прайсман 2001: 160 и др.). Здесь имеется неточность: за границу Гапон переправился сам. Более достоверно эти события представлены в воспоминаниях Савинкова и Рутенберга. Первый свидетельствует о том, что приехавший в Москву Рутенберг
рассказал мне во всех подробностях то, что произошло в Петербурге, рассказал и про Гапона, упомянув о его желании выехать за границу. Я предложил мой запасной внутренний паспорт и обещал достать заграничный. Рутенберг через несколько дней отослал тот и другой Гапону, но последний не воспользовался ими: не дождавшись Рутенберга, он уехал из деревни и бежал без паспорта за границу (ВТ: 86).
В полном соответствии с этим Рутенберг пишет:
Я решил ехать с Гапоном за границу. Переслал ему паспорта, указания, где и как со мной встретиться (в России). Но его уже в деревне не было. Не дожидаясь от меня известий, он уехал оттуда сам и перешел границу близ Таурогена, раньше меня на день (ДГ: 38).
Литература о Гапоне – «первой фигуре русской революции» (Рутенберг) и одновременно agent provocateur, включает сегодня сотни названий: его биография и главное событие жизни – руководство шествием 9 января 1905 года, расстрел безоружных людей и реакция, произведенная этой бездарной со стороны властей политической акцией, а также последующая история политического и морального падения (предательство, попытки заманить в сети провокаторской деятельности Рутенберга, суд и казнь) изложены полно и во всех подробностях, начиная с работ, появившихся по «горячим следам» событий (см., напр.: Гуревич 1906; Никифоров 190619; Симбирский 190620; Феликс 1906; Семенов 1911: 163-81 и др.). Интерес к истории 9 января и к самой фигуре Гапона оживился в первые годы советской власти на волне всеобщего интереса к революционному прошлому, которое с годами все более и более канонизировалось и догматизировалось (см.: Гапон 191821; Гапон 1925 (переизд.: Гапон 1926, Гапон 1990); Троцкий 1922: 74–82; Айнзафт 1922; Карелин 1922: 103-16; Поссе 1923 (позднее включена в: Поссе 1929: 348–418); Сверчков 1925; Сверчков 1925а (отдельное издание: Сверчков 1930); Сверчков 1926: 5-103; Дейч 1926а: 40–80 (помимо своих воспоминаний, автор приводит интервью с рабочими, казнившими Гапона); Ростов 1927; Венедиктов 1931; Тарараев 1931, и др.). Гапону и Рутенбергу было уделено место в посвященной Азефу книге Б.И. Николаевского «История одного предателя» (1931), о чем уже выше шла речь. Несмотря на то что редко упоминаемые из-за их труднодоступности воспоминания В. Лебедева были приурочены к смерти Рутенберга (начинаются фразой: «В Иерусалиме 3 января <1942> скончался замечательный человек, Петр Моисеевич Рутенберг»), они чуть ли не целиком посвящены Гапону (Лебедев 1942). Взлет и падение героя и предателя первой русской революции среди других интересовали в 30-е гг. палестинских авторов (см. по крайней мере две книги на иврите, написанные на эту тему: первая принадлежит перу д-ра И. Рубина и называется «Провокаторы»; в ней, среди портретов русских провокаторов – А. Петрова, Д. Богрова, Е. Азефа, И.-М. Каплинского, имеется глава о Гапоне (Rubin 1933:169-97); о другой книге – Я. Яари-Полескина (Yaari-Poleskin 1939), непосредственно посвященной Рутенбергу, речь уже шла и еще будет идти.
Гапоновская тема (или шире – тема 9 января и последовавших за ним событий) приобрела новый импульс в последние два десятилетия в связи с открывшимися российскими архивами и общественным спросом на знание подлинных исторических реалий. При этом интерес к этой теме российских исследователей (см.: Лурье 1990; Равдин 1991: 138-47; Семанов 1991: 182-88; Кавторин 1992: 227–415; Ксенофонтов 1996; Будницкий 1996; Нефедов 2008: 47–60 и др.) совпал с развитием данной проблематики в работах западных (Sablinsky 1976: 312-20; Spence 1991; Geifman 1993 (рус. яз.: Гейфман 1997); Geifman 2000: 91-4 и др.) и израильских ученых (Прайсман 2001).
Среди работ последнего времени, пытающихся охватить материал о Гапоне в полном объеме и дать цельное представление о его достаточно сложной и противоречивой личности и судьбе, следует выделить книгу И.Н. Ксенофонтова «Георгий Гапон: вымысел и правда»22. К ее несомненным достоинствам относятся детально прописанная биография Гапона и подробная хронология событий, послужившая ее неотъемлемым историческим контекстом.
Источниковая база исследования Ксенофонтова достаточно обширна, хотя некоторые пробелы выглядят труднообъяснимыми. Так, для читателей остается тайной имя одного из участников казни Гапона – A.A. Дикгофа-Деренталя, напечатавшего свои воспоминания о ней, но в целях коспирации скрывшегося за криптонимом N.N., см.: <Дикгоф-Деренталь> 1909: 116-21 (перепечатаны в: За кулисами 1910: 211-21 и в парижском эмигрантском журнале «Иллюстрированная Россия». 1927. № 45 (130). 3 ноября). В книге же Ксенофонтова утверждается:
До сих пор никому не известны имена23 тех, кто судил Гапона, кроме имени Рутенберга, кто присутствовал при казни Гапона (Ксенофонтов 1996: 271).
Однако если говорить о книге в целом, нельзя без сочувствия отнестись к хотя и не абсолютно новому, но, без сомнения, небезосновательному выводу о том, что Гапон в известном смысле явился жертвой политико-провокаторской игры Азефа и стоящего за ним охранного отделения. С этой точки зрения, Рутенберга, что называется, использовали «втемную»: охранное отделение, с одной стороны – его руками устраняла фигуру, к которой был утрачен интерес, и одновременно отводило подозрение от Азефа как более важного агента, а Азеф – с другой стороны – стремился к ликвидации опасного «коллеги по профессии». Морально-политические проблемы, с которыми столкнулся Рутенберг, «назначенный ответственным за убийство Гапона», разумеется, только к этому не сводились, но сами по себе они, без преувеличения, составляли ядро того конфликта, что возник между ним и ЦК партии эсеров.
Существование книги И.Н. Ксенофонтова, как и ряда других источников, избавляет от необходимости подробным образом пересказывать историю Гапона и Рутенберга после 9 января. Поэтому далее мы лишь воспроизведем самую общую канву событий, чтобы не терять некой общей нити повествования. При этом особое внимание сосредоточим на материалах, имеющих тесную связь с биографией нашего героя.
Наличие многочисленных источников, кстати сказать, и некая, что ли, хрестоматийность азефо-гапоновско-рутенберговской истории не препятствует некоторым современным авторам излагать ее, используя какие-то фантастически недостоверные подробности, как это сделано, например, в книге В. Жухрая «Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы»:
Рутенберг, внешне красивый, мужественный, решительный в действиях, пользовался большой популярностью в эсеровских кругах. Тщеславный, похожий на Квазимодо, Азеф откровенно завидовал ему. А после того как обнаружил, что Рутенберг активно разыскивает источник утечки информации из ЦК партии и подозревает Азефа в тайных связях с царской полицией, решил заманить его в Россию под предлогом необходимости казни Гапона, а затем выдать его царской полиции. Азеф намеревался разом убить трех зайцев: избежать собственного разоблачения, убрать соперника, претендующего на лидерство в партии – Рутенберга, и заслужить благосклонность царской охранки. Осуществить замысел Азефу не удалось: Рутенберг, вопреки правилам, не поставил в известность руководителя Боевой организации эсеров ни о плане покушения на Гапона, ни о дате суда над ним. О всем случившемся Азеф узнал лишь после возвращения Рутенберга в Париж… (Жухрай 1991: 98-9)24.
Ничего похожего в действительности, конечно, не было: Рутенберг не подозревал Азефа в «тайных связях» с полицией, а тот не заманивал его в Россию «под предлогом необходимости казни Гапона». Наивно также выглядит и утверждение о том, будто член ЦК эсеров Азеф опасался партийного соперничества со стороны Рутенберга. Судя по всему, Рутенберг ни на какое лидерство не претендовал – по крайней мере, мы не располагаем на этот счет никакими сведениями, и эта непонятного происхождения версия свидельствует лишь о буйной фантазии исследователя. Азеф, во всяком случае так утверждал сам Рутенберг, был осведомлен и о месте, и о дате казни Гапона. В том же духе фактических «отсебятин» рассказ об убийстве Гапона продолжается у этого автора и далее.
По версии Р. Спенса (Spence 1991), книге которого вообще присущ своеобразный «савинкоцентризм», главную роль на последних этапах гапоновской истории играл не Рутенберг, а Савинков. Именно ему, как утверждает этот ученый, принадлежала инициатива ликвидации Гапона. В полном противоречии с фактами, он пишет:
Действуя по собственной инициативе, он <Савинков> завербовал Петра Рутенберга, разочаровавшегося в Гапоне его бывшего последователя, совершить ликвидацию. Однако Рутенберг не мог сделать этого без санкции партийного руководства. Его сопротивление вынудило Савинкова привести на конспиративную квартиру Азефа и Чернова. Они предложили Рутенбергу убить Гапона и Рачковского вместе (Spence 1991: 63).
Под пером «увлеченного материалом» исследователя картина выглядит, мягко говоря, надуманной. Правда, стремясь придать этой малоубедительной версии больше веса, Р. Спенс отсылает к работе Л. Бернштейн, где утверждается, что инициатором плана устранения Гапона был именно Савинков (Bernstein 1913: 128-30). Поскольку же никаких аргументов на этот счет в книге Л. Бернштейн не приводится, убедительности эта отсылка не только не прибавляет, но еще больше усиливает сомнения.
Как бы поэтому мы ни стремились избежать некоторых повторов общеизвестной темы, полностью сделать этого не удастся, хотя бы исходя из естественной необходимости воссоздать течение действительных событий.
Время после Кровавого воскресенья для Рутенберга стало временем активной деятельности, которую Савинков, не претендуя, правда, на особое литературное изящество и оргинальность, назвал «боевой подготовкой масс» (ВТ 113): возглавляемая Рутенбергом группа отвечала за приобретение оружия и его хранение в специально подобранных для этого местах (см.: Спиридович 1918: 195; Леонов 1997: 180). Савинков пишет:
Он <Рутенберг> должен был приготовить квартиры для складов оружия в Петербурге, изыскать возможность приобретения оружия в России, получить от армян, членов партии «Дашнакцутюн», транспорт бомб, нам ими уступленный, наконец, выяснить возможность экспроприации в арсеналах. Предполагалось впоследствии, когда окрепнет организация в Петербурге, расширить деятельность ее на всю Россию. Дальнейшим шагом в этом направлении была экспедиция корабля «Джон Крафтон» (ВТ: 113).
Летом 1905 г. Рутенберг вернулся в Петербург с двумя подложными паспортами: одним бельгийским – на имя архитекто-
ра Бартелеми, другим русским – на имя Черненко. Как уже говорилось, не будучи формально членом БО, Рутенберг, несомненно, был близок ей по духу. Да и не только по духу: он состоял в тесных отношениях с Савинковым и Азефом, пользовался их доверием25, вместе с ними принимал участие в разработке террористических операций, например, взрыва моста на Николаевской железной дороге, который, как пишет Савинков,
во-первых, отрезал бы Москву от Петербурга, а во-вторых, заставил бы бастовать Николаевскую железную дорогу. Была надежда, что если Николаевская железная дорога забастует, то забастует и весь Петербургский железнодорожный узел, а с ними и все рабочее население Петербурга (ВТ: 161).
Эта операция не была проведена в жизнь – ее участников едва не арестовали на месте. Не были осуществлены и некоторые другие планы «бомбистов»: одни – из-за крайней опасности и невыполнимости задуманного, совершению других, как это стало ясно уже после разоблачения Азефа, мешала его двойная игра, при которой левая рука препятствовала тому, что творила правая. Среди прочего не удался ввоз в Россию оружия на упомянутом выше пароходе «Джон Крафтон» (по иной транслитерации «Джон Графтон»).
Зафрахтованный в Англии «Джон Крафтон» должен был транспортировать в Россию оружие, закупленное на деньги, пожертвованные на русскую революцию японским правительством, которые шли через бывшего японского атташе и главного японского резидента в России полковника Акаши. За кулисами этой операции стоял член финляндской Партии активного сопротивления26 Конни Циллиакус, предложивший ЦК эсеров принять «от американских миллиардеров» (на самом деле все от того же Акаши) пожертвование в 1 млн. франков, что в те времена равнялось примерно 375 тыс. рублей. Условие, которое, по словам Циллиакуса, ставили жертвователи, сводилось к тому, чтобы деньги были распределены между всеми революционными партиями России независимо от их политических программ. Для переговоров с Циллиакусом в Лондон ездил Рутенберг (в его воспоминаниях, в которых основная часть называемых фамилий из конспиративных целей изменена, Циллиакус выступает под фамилией Соков, см.: ДТ: 44)27. После того как предложение было принято, ЦК эсеров выделил 100 тыс. франков на нужды руководимой Азефом Боевой организации, а оставшиеся деньги пошли на приобретение оружия, которое и должен был доставить в Россию «Джон Крафтон»28. Отвечать за эту операцию ЦК поручил старейшему революционеру Н.В. Чайковскому, «дедушке русской революции», как его иногда в шутку называли по аналогии с «бабушкой русской революции» Е.К. Брешко-Брешковской29. Оружие, или, по принятой в целях конспирации аллегории, «музыкальные инструменты» (см., например, в письме Азефа Чайковскому от 22 декабря 1905 г. – Письма Азефа 1994: 132), планировалось выгрузить у берегов Петербурга и Финляндии. Однако случилось непредвиденное: 26 августа (8 сентября) 1905 г. пароход сел на мель в Ботническом заливе у острова Кемь. Корабельной команде, в состав которой в основном входили латыши, не оставалось ничего другого как взорвать этот гигантский плавучий оружейный склад. Какую-то часть оружия предварительно снесли на берег, но основная партия затонула, и в Петербург ничего доставлено не было (см.: Изнанка революции 1906; Агафонов 2004/1918: 251-52; Поссе 1929: 359–374; Познер 1934: 259-78 и др.). По мнению Циллиакуса, эту операцию последовательно вел к провалу опытный провокатор Азеф: даже если судьба хранила бы пароход, необходимое оружие (винтовки, револьверы, патроны, материал для «адских машин» – взрывчатый желатин, детонаторы, бикфордовы шнуры и проч.) никогда не попало бы в российскую столицу. Обвинения Циллиакуса сводились к тому, что Азеф, участвуя в организации доставки оружия для массового народного восстания в Петербурге, одновременно делал все возможное для того, чтобы неразбериха и безответственность (а на крайний случай – и просто масштабная полицейская акция) сорвали бы воплощение этого беспрецедентного проекта (Zilliacus 1912: 91-107; ср.: Познер 1934: 264-70).
Подозрения были не напрасны: Азеф задолго до этого начал «стучать» на Циллиакуса. У. Коупланд в книге, исследующей формы сотрудничества финских и русских революционеров, указывает на то, что Циллиакус провел рождественские праздники 1903 г. в Париже, где, как сказано в одном из его писем от 23 декабря, встречался с инженером, членом партии социал-революционеров. Фамилия в письме не названа, что дает возможность предположительно говорить и о Рутенберге (который, правда, формально членом партии с.-р. в то время еще не был), и об Азефе. Ученый склоняется ко второму варианту, поскольку Департамент полиции сразу получил детальное описание деятельности Циллиакуса (по правилам сыска, источник информации в полицейских бумагах не идентифицировался или маскировался кличкой) (Copeland 1973:153).
Азеф и в дальнейшем информировал своих хозяев о том, что Циллиакус имеет сношения с японцами и доставляет от них деньги финским и польским революционерам. Расследовавший этот вопрос В.К. Агафонов пишет в своей знаменитой книге о деятельности русской царской охранки за границей, что именно донесения Азефа спровоцировали в черносотенных кругах слухи о том, что «русская революция делается на японские деньги». Агафонов даже полагал, возможно несколько увлекаясь, что все случившееся с грузом оружия не было на самом деле простой случайностью, и видел в этом предательскую волю Азефа:
<…> не случайно «Джон Крафтон» сел на мель, и не случайно нашел водолаз затонувшую яхту и оружие… (Агафонов 2004/1918: 252).
Не станем фантазировать относительно того, как сумел Азеф подготовить неудачную навигацию «Джона Крафтона». Ограничимся лишь указанием на то, что даже закончись рейс вполне удачно, участвовавший в планируемой операции Рутенберг (и не просто участвовавший, а назначенный ответственным от эсеровского ЦК за прием оружия) расстроить провокацию Азефа все равно бы не смог. Выданный полиции другим провокатором – Н.Ю. Татаровым30, 20 июня он был арестован31 и несколько месяцев провел в Петропавловской крепости. Вышел только после амнистии 17 октября 1905 г. (ДГ: 44-5)32.
С этого времени начинается последний – самый драматичный – этап в отношениях Рутенберга и бывшего попа. Сблизившийся с Департаментом полиции, Гапон, этот, как его метко окрестил В. Лебедев, «Лжедмитрий от революции» (Лебедев 1942, № 10551: 2), сам вряд ли представлял собой в мире политического сыска «крупную птицу», каковой являлся, скажем, Азеф. Однако мечтавший о настоящей «большой игре», он испытывал крайнюю потребность в источниках информации. Рутенберг, принадлежавший к числу близких ему людей, которому он бесконечно доверял и перед которым мог, не таясь, раскрыть карты, был идеальным, на его взгляд, сообщником. Пользовавшийся высоким авторитетом в партийных кругах, которого у героя 9 января не было и быть не могло, Рутенберг мог – так, по крайней мере, думалось Гапону и его новому хозяину П.И. Рачковскому33 (Мартынов 1972: 303) – проникать в те недоступные сферы нелегальной жизни и деятельности террористов, доступ в которые на торгах революционными тайнами оплачивался бы по самому высокому тарифу. Взявшись, как пишет сам Рутенберг, «соблазнить» его (ДГ: 58), Гапон после нескольких свиданий посвятил друга в свои сокровенные планы. Однако завербовать в провокаторы такого преданного революции и стойкого в своих убеждениях человека, как Мартын-Рутенберг, Талону не удалось: о новом витке в политической эволюции отставного священника и о своих встречах с ним, где тот настойчиво его «соблазнял», Рутенберг сразу же сообщил члену эсеровского ЦК Азефу, находившемуся в то время в Гельсингфорсе. Широко расцитированная реакция Азефа на это сообщение – «с Талоном надо было покончить как с гадиной» (ДГ: 62), – безусловно, скрывала неведомый тогда Рутенбергу подтекст: «великий провокатор» был обуреваем ревностью и яростью от того, что в тайной сфере, которую он привык рассматривать как частное владение, появился непрошенный конкурент.
Собравшаяся там же, в Гельсингфорсе, на экстренное совещение по гапоновскому вопросу троица, состоявшая из двух членов эсеровского ЦК – В.М. Чернова и Азефа, а также Савинкова (который в то время в состав ЦК не входил, но являлся одним из руководителей Боевой организации), выработала в присутствии Рутенберга следующее решение: поскольку широким рабочим массам, продолжавшим свято верить в Гапона, будет трудно объяснить причины убийства провокатора, следует вместе с ним ликвидировать его «шефа» – вице-директора Департамента полиции П.И. Рачковского. Этой двойной казнью как бы должно было быть засвидетельствовано предательство еп flagrant delit – на месте преступления. Рутенбергу вменялось в обязанность подыграть Гапону: якобы согласившись на его предложение стать тайным агентом охранки, явиться на назначенное свидание и в отдельном кабинете ресторана ликвидировать их обоих. Основная роль в том, что решение было облечено именно в такую форму, принадлежала В.М. Чернову.
Азеф, – пишет Рутенберг, – кончил тем, что присоединился к мнению Краснова <Чернова>, добавив, что его особенно удовлетворяет двойной удар: Гапон и Рачковский, так как он давно уже думал о покушении на Рачковского, но никак не мог найти средства подобраться к нему. Субботин <Савинков> и я считали, что убийство Гапона вместе с Рачковским желательно, но комбинация эта сложная и трудно достижимая, так как опытный полицийский Рачковский, считая меня террористом, не допустит к себе на основании одной только рекомендации Гапона. Субботин считал, что партия обладает достаточным авторитетом, чтобы заставить поверить себе, что Гапон действительно предатель (ДГ: 62-3).
Дебаты продолжались несколько дней, и в конце концов Рутенберг этот план принял. На случай провала и возможных тогда инсинуаций со стороны Департамента полиции Рутенберга заверили, что его честь будет защищена всем партийным авторитетом «от чьего бы то ни было посягательства при первой же к тому попытке» (ДГ: 63). Заверение в том, что, стань Рутенберг тайным агентом охранки, его «никто ни в чем не заподозрит» и что он «не должен погибнуть ни в каком случае», поступило через Гапона и от Рачковского (ДГ: 77). Два противоположных полюса – эсеровский ЦК и его злейший враг Департамент полиции – как бы уравновесили друг друга клятвенными гарантиями.
В наибольшем выигрыше от принятого решения о двойном убийстве, несомненно, оказался Азеф: оно полностью соответствовало его плану одним ударом вывести из игры две ненавистные и мешающие ему фигуры – Рачковского и Гапона. Существует немало свидетельств, что «великий провокатор» желал расквитаться с Рачковским за те унижения, страхи и неустойчивость своего положения, которые он переживал как раз в это время и прямым инициатором и виновником которых являлся его хозяин. Об этом высказался в письме к Б.И. Николаевскому (7 октября 1931 г.), работавшему над книгой об Азефе, В.М. Чернов:
При свете ныне опубликованных фактов, я считаю несомненным, что он <Азеф> страстно хотел устранения Рачковского как человека, недостаточно бережно отнесшегося к его личной судьбе – раз, и виновника падения тех, за кем Азеф себя чувствовал как за каменной стеною – два. Вероятно, он ожидал, что по смерти Рачковского руководство Департаментом полиции попадет опять в руки «зубатовцев», с которыми выплывет опять и столь удобный для Азефа Ратаев (цит. по: Будницкий 1996: 436).
Воплотить этот план в жизнь, однако, не удалось: на свидание с Рутенбергом в ресторан Контана 4 марта 1906 г. Рачковский не явился (ДГ: 75; Николаевский 1997/1930: 61; Rubinstein 1994: 193 и др.)34– Обратное утверждение – о том, что Рутенберг якобы присутствовал при свидании Рачковского с Гапоном (см.: Алексеев 1925: 294), не соответствует действительности и вытекает из совершенного недоразумения или невнимательного чтения рутенберговских воспоминаний35. Таким же недоразумением можно считать горячее, но как бы построенное вне и помимо фактов «Надгробное слово Гапону» (1909) В.В. Розанова, в котором реальность полностью заслонена риторическими фигурами и метафизическим пафосом. Позицию Розанова в этом очерке трудно объяснить чем-либо другим, кроме милосердного христианского отношения к убиенному попу-расстриге и вытекающего отсюда злобно-мстительного чувства к его убийце. Недоброжелательно-подозрительный розановский взгляд на Рутенберга достигает своей кульминации в том месте «надгробного слова», где речь идет о несостоявшемся свидании с Рачковским и, соответственно, неосуществленном покушении на жизнь последнего:
И Рачковский на свидание с Гапоном и Рутенбергом не пошел к Кюба36. Уж очень их боялся вдвоем? Но Гапон переходит на его сторону, называет его «порядочнейшим» человеком, и, конечно, Рачковский знал и видел насквозь Гапона, видел настолько, чтобы быть уверенным, что Гапон не кинется его убивать. Ведь он был совсем на другой линии. Итак, Рутенберг, с глазу на глаз с Гапоном и Рачковским, убил бы Рачковского, а может, вместе и Гапона: невероятно, неправдоподобно этого бояться. Да ведь и это – отдельный кабинет у Кюба, на Морской улице, сейчас же за дверями люди, и скрыться убийце было бы невозможно. Это вовсе не уединенная дача в Озерках. Отчего же Рачковский, который так жаждал, ну до тоски, увидеться со страшным Рутенбергом, вдруг не пошел на это «извольте»… Тут что-то недоговорено, что-то темно… Может быть, им невозможно было встретиться в присутствии третьего человека? (Розанов 2004: 384)37.
Там, где философ Розанов усмотрел мистические осложнения, прагматик Азеф учуял знак, намекающий на необходимость сменить тактику: если Рачковский не является на назначенное свидание, значит, он заподозрил что-то неладное и, стало быть, нелепо продолжать упорствовать в том, чтобы устранить его руками Рутенберга. Гораздо разумнее теперь было отказаться от первоначальной идеи двойного убийства, ограничившись смертью одного Гапона.
Было возможно, – комментирует эту ситуацию Б.И. Николаевский, – разоблачить перед ним <Рачковским> планы Рутенберга и тем самым попытаться его умилостивить (Николаевский 1991/1931:154).
И в том и в другом случае Рутенберг становился жертвой, но во втором – с большей пользой для Азефа. Тогда, как отмечает далее Б.И. Николаевский, опираясь на свидетельские показания A.B. Герасимова на допросах в следственной комиссии 1917 г., он постарался извлечь ту единственную выгоду из создавшегося положения, которую одну только и можно было извлечь, а именно предал Рачковскому план Рутенберга (там же).
Этот ловкий ход позволял освободиться от Гапона как мешающего конкурента и заработать несколько дополнительных баллов в глазах патрона. Именно двойная Азефова игра – первоначальное намерение ликвидировать Рачковского, а потом резкое изменение планов, спутала все карты Рутенберга и продиктовала дальнейший ход драматических событий. Непосредственно руководя его действиями и выступая для него в качестве главной и последней инстанции, Азеф, по словам Рутенберга, санкционировал ликвидацию, если не окажется другого выбора, одного Гапона38.
Вот здесь и проходит самый болевой нерв этой запутанной истории. Отчаявшись встретиться с вице-директором Департамента полиции и привести выработанный план в исполнение, Рутенберг вновь решил посетить Азефа в Гельсингфорсе. Это свидание его не просто разочаровало, но довело до бешенства: Азеф обвинил Рутенберга в нарушении инструкций, неумелости и даже в том, что своим неуклюжим поведением он якобы вызвал волну арестов членов Боевой организации, которые произошли в это время в Петербурге.
Я ничего не ответил тогда Азефу, – пишет Рутенберг. – Все его обвинения были до того несправедливы, и он мне стал до того отвратителен, что я буквально не мог заставить себя встретиться с ним <Азеф назначил ему второе свидание на вечерх Я оставил ему записку, что не могу и не хочу ни видеть его, ни слышать, что возвращаюсь в Петербург продолжать дело, как сумею, на основании имеющихся у меня прежних распоряжений.
Я вернулся обратно (ДГ: 78).
После этого оскорбительного для него свидания Рутенберг ощутил, как твердая почва уходит из-под ног. Выполнить задание ЦК в полном объеме он не мог, а наполовину, т. е. без создания определенного умонастроения хотя бы среди тех рабочих, которые были близки к нему и к Гапону, – не решался. Нервы были расшатаны до предела, и он решил вовсе махнуть на все рукой и уехать за границу. Ни от Азефа, ни от Савинкова не поступало никаких распоряжений, как будто те решили испытать его суровой ответственностью принятия собственного решения.
Я принял это молчание как упрек, точнее, как оскорбление за то, что в том или другом виде не привел в исполнение данное мне ЦК<омите>том поручение, – комментировал Рутенберг в своих записках создавшееся неопределенное положение (ДГ: 81).
В конце концов волевое начало взяло в нем верх, и он, не привыкший пасовать перед трудностями и умевший преодолевать в себе слабость и малодушие, начал действовать. Если в качестве «свидетеля» гапоновского предательства нельзя было использовать Рачковского и разом свести счеты с обоими, значит, следовало отыскать для справедливого акта возмездия другие средства и аргументы. Рутенберг решил привлечь к делу боготворивших Гапона рабочих и предъявить им неопровержимые доказательства его вины. Спровоцировав Гапона на разговор в то время, когда они катались на извозчике в Териокском лесу (а в качестве «кучера» был посажен один из этих самых рабочих), Рутенберг добился своего: Гапон хотя и был напуган откровенностью их беседы и удивлен потерей элементарной бдительности обычно осторожным Рутенбергом, заподозрить провоцирующий характер «следственного эксперимента» не сумел. Зато Рутенберг получил необходимый результат: рабочие убедились, что в лице Гапона имеют дело с провокатором (ДГ: 81-3). Было принято решение о проведении суда. 28 марта 1906 г. «вульгарный негодяй Гапон», как однажды назвал его Савинков, был повешен группой рабочих на даче в Озерках под Петербургом.
Смерть Гапона, найденного лишь через месяц, 30 апреля, не могла не привлечь к себе острого общественного внимания. Далеко не для всех, даже из демократического лагеря, вина его была очевидна и «состав преступления» абсолютно доказан. Так, к примеру, хорошо знавший Гапона и оставивший о нем воспоминания Е.П. Семенов полагал, что хотя организатор шествия 9 января, без сомнения, продолжал сотрудничать с полицией, как это было во времена Зубатова, но провокаторская деятельность, «за которую его так варварски убили», не доказана (Семенов 1911: 180).
Как всякая история, не лишенная детективных обертонов, да к тому же вызвавшая столько общественных пересудов, трагический финал Гапона оброс всевозможными мистическими слухами и неправдоподобными легендами. Уже после того как тело было найдено, ходили разговоры, что Гапон жив и скоро объявится. В газете «XX век» было напечатано письмо рабочего Ивана Алексеева, в котором рассказывалась следующая трогательная история (1906. № 37. 5 (18) мая. С. 2):
Честь имею довести до сведения редакции газеты «XX век» нижеследующее. Был уже час ночи, когда я проходил вчера с сыном, мальчиком, по Лештукову пер. Дойдя до угла, я увидел темную фигуру человека, который, неся в руках какой-то ящик, обогнал нас, торопясь сесть на извозчика. Когда я взглянул ему в лицо, он показался мне очень знакомым. В то же время мой сын закричал: «Смотри, отец, вот прошел Гапон». Тогда мы оба подошли к нему, назвав его по имени. Он быстро обернулся и схватился за карман пальто, но, узнавши меня, улыбнулся и спросил, как мы живем. Я сказал, что мы боялись за него, когда говорили о его смерти в Финляндии, но не поверили. «Полиция попалась в ловушку и уже похоронила меня с разрешения губернатора, – сказал Гапон, – скоро я сам покажусь кому нужно». Он дал тут же моему сыну 1 рубль, а мне для моей семьи 15 рублей, когда узнал от меня, что мы нуждаемся. Потом он достал накладной парик с бородой и быстро одел его, говоря, что не хочет встретиться с сыщиками, которых много. Затем, когда мы дошли до извозчика, он сказал: «Поезжай прямо», – попрощался с нами и уехал. Гапона я хорошо знал раньше, так как он ночевал у меня один раз в прошлом году, будучи 3 мая в Петербурге.
Рабочий патронного завода
Иван Алексеев
3 мая 1906 г.
В ответ на эти небылицы А.К. Уздалевой, бывшей при жизни Гапона его гражданской женой, пришлось даже обратиться с письмом в редакцию газеты «XX века» (1906. № 47. 15 (28) мая. С. 3):
М. Г. В то время, когда труп моего гражданского мужа, Г.А. Гапона, задушенного рукою злодея, был спрятан на даче Звержинского, в Озерках и уже разлагался, в это время в различных газетах появлялись сведения, что Г.А. Гапон жив. Его постоянно видели то в Финляндии, то в Петербурге. Наконец, 28 апреля труп моего мужа был найден на даче Звержинской. Его признали присяжный поверенный С.П. Марголин и все рабочие, его видевшие на даче. Я шла за гробом моего мужа, я видела его лицо, хорошо сохранившееся, и, конечно, не могла принять кого-либо другого за него. Казалось бы, что после его похорон все слухи о том, что Г.А. Гапон жив, должны были прекратиться. И что же? На третий или на четвертый день после его похорон в некоторых газетах вновь стали являться сведения, что Гапон жив и что будто бы мне не дали посмотреть на труп. Наконец, третьего дня я прочла в одной из газет, что Г.А. Гапон приехал ко мне в Териоки и мы с ним куда-то уехали.
Мой муж умер. Он свел все счеты с жизнью, а между тем чуть ли не каждый день терзается его память.
Позвольте мне чрез посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание на тех людей, которые подле его могилы не то издеваются, не то измышляют постоянные сказки о том, что он жив, ввиду неизвестных мне соображений.
Годы спустя журналист и литератор Л.М. Василевский рассказывал о многочисленных мистификациях, которые были связаны с казнью Гапона. По одной из них выходило, что Гапон не погиб – казнили совершенно другого человека, а подлинный должен вскоре вернуться в Россию (Василевский Л. 1922: 8–9).
Обращаясь к свидетельствам менее мистическим, следует признать, что в том, как расправились с предателем, даже спустя более чем 100 лет, прошедших с тех пор, многое остается таинственным и неясным. Мы не имеем достоверных данных, сколько человек и кто именно участвовал в казни, исключая, естественно, самого Рутенберга и A.A. Дикгофа-Дерента-ля (см. также приведенное в Приложении И. 3 письмо Ракитина Рутенбергу)39. Так, например, полиция была убеждена в причастности к делу некой девицы Елены Семеновны Бильдштейн (или Белыитейн), дочери купца из Екатеринбурга, слушательницы сельскохозяйственных курсов (см. об этом в докладной записке С.Е. Виссарионова, Приложение I. 2). Остается загадкой, имела ли эта девица с неустойчивой и то и дело искажаемой фамилией материальную плоть или родилась в воображении определенной части рабочих о своем кумире, в донесениях филеров и доносах газетчиков? В «нововременском» клеветническом фельетоне, плоде пера И.Ф. Манасевича-Мануйлова, фрагмент из которого приводится ниже, она фигурирует как Гольдштейн (Маска 1906: З)40, а в идентичном, написанном почти слово в слово – из черносотенной газеты «Свет» – как Больдштейн (Д. 1906: 3).
Еще до обнаружения трупа Гапона, 16 апреля 1906 г., Манасевич-Мануйлов писал в «Новом времени»:
– Отец Гапон убит, теперь для нас это вполне ясно! – с грустью и со слезами на глазах сказал мне один рабочий, близкий человек «герою 9 января». – 27 марта Гапон послал одного из своих приверженцев, – продолжает мой собеседник, – на Кирочную, д. 12, где он должнен был увидеться с некоей г-жой Гольдштейн. Этому свиданию Гапон придавал большое значение и, отправляя своего друга, неоднократно твердил: «Смотри, не забудь пароль, а то она не станет говорить с тобой». Рабочий должен был сказать: «Пять звезд». И действительно, войдя в квартиру, он встретил очень приветливую даму, которая, услыхав условное слово, заметила: «Хорошо… подождите немного. Я исполню мою миссию». Сказав это, она исчезла, оставив рабочего ожидать. Прошло двадцать пять минут… Раздался звонок, и вернулась г-жа Гольдштейн. «Дома нет, – несколько взволнованно заявила она рабочему. – Я ответа дать не могу». В это время снова раздался звонок, и в прихожую вошла толстая, румяная еврейского типа женщина, которую рабочий сейчас же узнал, так как он не раз ее встречал у Гапона. Г-жа Гольдштейн отвела ее в сторону и, переговорив с ней, сказала рабочему: «Передайте тому, кто вас послал, что он ответ знает, так как с ним уже видались». Рабочий ушел на квартиру Гапона, чтобы дать ему ответ, но его не было. 27 марта рабочий этот тоже не видал Гапона, а 29 он решил отправиться в Териоки и узнать, что с ним случилось, от его сожительницы. Последняя заявила, что все эти дни он домой не возвращался. 30 марта тот же рабочий, не видя Гапона и беспокоясь, что с ним случилось, направился к г-же Гольдштейн, желая узнать, состоялось ли свидание, о котором говорил Гапон и которому придавал очень большое значение. «Вы увидите, – говорил он, – что я сумею устроить очень большое дело и у меня будут значительные деньги, которые я отдам на рабочие организации». В чем же дело? – допрашивали рабочие. «Ничего сказать не могу. У меня свидание у Кюба на Морской. Потом узнаете…» Г-жа Гольдштейн встретила на этот раз рабочего куда менее приветливо и просила его прийти за ответом вечером того же 30 марта. Рабочий пошел к ней 31 марта. Г-жа Гольдштейн сказала ему, что барышню, которая «все знает», она не видела, но получила от нее записку следующего содержания: «Случилась очень большая неприятность, я должна немедленно выехать из Петербурга. Скоро напишу». Ответ г-жи Гольдштейн рабочего не удовлетворил, и он спросил ее: «А вы, сударыня, знаете, что Георгий Гапон исчез после свидания с тем лицом, к которому ходила барышня и которого она, конечно, знает?» Слова эти как будто удивили г-жу Гольдштейн, и она не скрыла некоторого своего недовольства: «Да разве Гапон был с “ними” в сношениях… Я не могу себе представить, чтобы такие люди имели дело с Гапоном. Во всяком случае, вы успокойтесь… Тревоги не делайте». «Но куда же исчезла барышня? Пусть она скажет, что стало с Гапоном?» «Барышня и другие лица принуждены были скрыться, так как опасались “провала” целой организации… Поймите это и успокойтесь».
Рабочий, однако, не успокоился и все это время аккуратно посещал квартиру на Кирочной, причем получал стереотипный ответ:
«Нужно ждать известий от барышни. Я ведь вас познакомила с содержанием ее письма ко мне»…
Вчера, 14 апреля, рабочий снова отправился к г-же Гольдштейн, но тут ему пришлось узнать, что хозяйка квартиры того же числа утром исчезла, не оставив никаких следов (Маска 1906: 3).
Ничуть не более ясными остаются и другие места из упоминавшейся выше докладной записки С.Е. Виссарионова: действительно ли, скажем, Гапон имел свидание в Озерках с Манасевичем-Мануйловым? И имеет ли под собой хоть какое-нибудь основание следующая загадочная фраза:
В докладе статского советника Гартинга от 14/27 июня за № 213, между прочим, указывается, что при убийстве Гапона, кроме Рутенберга, присутствовал и «неизвестный сотрудник Департамента».
Вероятно, из этих темных и таинственных слухов выросло предположение современного исследователя, в общем-то скорее бездоказательное в имеющемся фактологическом контексте, о том, что кто-то из агентов Рачковского принимал участие в убийстве Гапона (Жухрай 1991: 104). Возможно, появление в этом деле «неизвестного сотрудника Департамента» обязано своим происхождением тому переиначенному факту, что на последнее в своей жизни свидание Гапон уехал из квартиры Манасевича-Мануйлова (Приключения Мануйлова 1917: 270).
Говоря об искажении реальных событий в документах охранного отделения, следует заметить, что, как свидетельствует исторический опыт, в частности все та же докладная записка С.Е. Виссарионова, в них бывало немало откровенной дезинформации. Так, в ее заключении, вопреки реальным фактам и обстоятельствам, нашли отражение абсолютно фантастические сообщения сотрудников Финляндского жандармского управления о пребывании Рутенберга в ноябре 1907 и январе 1908 г. на территории Финляндии, в то время как он находился за много тысяч верст от нее – в Италии. Агенты из жандармского управления явно упражнялись в искусстве мистификации и гонялись за не только неопознанным, но и несуществующим объектом:
Из донесений Финляндского жандармского управления от 16 и 29 ноября 1907 г. за № 968 и 1027 усматривается, что представителем, душою и организатором Выборгской группы партии социалистов-революционеров является инженер Рутенберг, проживающий под именем Михайлова и Гайдукевича и постоянно меняющий свое местопребывание.
Из донесения того же Управления от 12 января 1908 за № 42 усматривается, что, по циркулирующим в среде революционеров слухам, Комитет вышеуказанной группы был переведен из Выборга в г. Котку, где также должно было находиться главное местопребывание инженера Рутенберга.
Помимо трех уже называвшихся мемуарных текстов – Рутенберга, Дикгофа-Деренталя и Дейча41, – суд в Озерках над незадачливым провокатором и его смерть получили и литературный извод. На основе беллетризованной компиляции данных мемуарных источников и, разумеется, опыта собственного знакомства с Мартыном-Рутенбергом попытку изобразить произошедшую 28 марта 1906 г. расправу с предателем предпринял в романе «На крови» (1928) писатель и публицист, эсер и масон С.Д. Мстиславский (1876–1943), один из организаторов вооруженного восстания в Петербурге и Кронштадте в 1905 г. В 1905–1906 гг. Мстиславский был боевым инструктором в рабочих дружинах Петербурга и возглавлял Боевой рабочий союз (он стоял также во главе Всероссийского военного (офицерского) союза и был редактором (1906–1908) его газеты «Народная армия»). Обо всех этих событиях он оставил небезынтересные воспоминания, см.: Мстиславский 1928а: 7-36; Мстиславский 1929: 7-31; Мстиславский 1931: 29–51. В романном жанре этот автор, по крайней мере если иметь в виду данное сочинение, оказался менее искусен (об искажении исторических фактов в романе «На крови» см.: Рузер 1928: 228-36). Эпизод подготовки Мартыном предстоящего кровавого спектакля на даче в Озерках и его монолог отдают чрезмерной театральной эффектностью:
– Все предусмотрено, каждая деталь постановки; я срежиссировал этот спектакль чище, чем Мейерхольд блоковский «Балаганчик». -Он засмеялся опять. – Это неплохо сказалось, не правда ли? Тоже трагический балаган42. Его надо было срежиссировать тонко: вы правы, зрители предубеждены против пьесы, они требуют, чтобы герой был героем, а я хочу показать его, как он есть – мерзавцем! Он запнулся и подумал, мучительно щуря глаза.
– Переломить зрителя – это нелегко, он слишком быстро и легкомысленно свищет, он не хочет досмотреть до конца. Я все предусмотрел, я подготовил диалог, я смонтировал пьесу, говорят вам. Я ручаюсь за успех. <…>
Он потер руки привычным «мартыновским» жестом.
– Я уже десять раз пережил то, что будет, деталь за деталью. Я вижу, понимаете, физически вижу, до мельчайших подробностей, как именно я его убью. Комнату, где это будет, я велел оклеить новыми обоями – единственную во всей даче (мы ведь на даче будем, в Озерках)43: дача запущенная и пыльная, как кулисы театра, и среди нее павильон. Театральный павильон, вы разумеете? Я сам выбирал обои: розовые букеты по белому рубчатому полю. И приказал наклеить – завязочками букетов вверх, обязательно вверх. Вы чувствуте? В комнате, где будет убит провокатор, обязательно должны быть розы завязочками вверх… Я подобрал мебель. Гримы – даны. Я вижу его лицо, какое оно будет… в момент. Борода с пивной пеной на завитках у подбородка… Я буду поить его пивом, он всегда роняет пену себе на бороду… Под бородой новый галстук с жемчужной булавкой. Он стал носить жемчужную булавку – с тех пор как стал провокатором. И галстук будет провокаторский – с шиком – малиновый с синим, в полоску, атласный… с растрепанным хвостом… выбившимся из-под жилета… Он расстегнет шубу, когда будет пить – и хвост будет на самом виду… концы таких галстуков всегда махрятся. Я вижу все. Я твердо помню весь диалог… все мизансцены финала. Как по печатному тексту. Вы убедитесь в этом (Мстиславский 1928: 288-89).
Этот беллетризованный (с вкрапленными «психологическими» деталями чуть ли не из романов Достоевского) монолог Мартына плохо вяжется с реальным, немногословным и тяжеловатым Рутенбергом, едва ли произнесшим за жизнь, если это не было связано с политико-митинговым или газетно-публицистическим жанром, хотя бы одну высокопарную речь. Если к тому же вспомнить, что живой прототип этого вдохновенного экзекутора-декадента находился на грани душевного срыва, трудно представить, чтобы в его воспаленном мозгу будущая расправа над Гапоном рисовалась в образах экзальтированной символической драмы (глава, в которой изображена сама казнь, названа у Мстиславского «Трагический балаган»).
Мстиславский, безусловно, не обязан был буквально следовать подлинным обстоятельствам Гапоновой казни – он писал роман, а не мемуары или документальную хронику. Однако отступление от духа реальной истории в сторону «балаганного трагизма» никакого нового – художественного – приращения не дало, а лишь, как кажется, только сильно ухудшило подлинник. Так, повесив Гапона, рабочие у Мстиславского входят во вкус, и кто-то из них с энтузиазмом предлагает продолжить акцию и заодно уж вздернуть и Мартына-Рутенберга – столь сильное впечатление произвела на него подслушанная беседа, в которой провокатор мнимый должен был подыгрывать провокатору истинному:
Угорь вышел быстро, почти что следом за мной. Он был темен лицом, но спокоен. Повел глазами по стенам и спросил вполголоса:
– А тот где?
– Кто? Мартын?
Он кивнул.
– Не знаю.
– Надо бы поискать. Ребята, брось попа: дохлый… Обшарь домишко. Куда Мартын задевался? Найдешь – волоки сюда за загривок.
– То есть как «волоки»?
– А вот так, – блеснул глазами Угорь. – Крюков-то два: рядом и повесим.
– Ты что, спятил?
– А ты что, не слыхал? Гапон – Иуда, да и тот гусь – хорош. Любо это будет, рядышком.
– Не дури, не дам.
– Тебя не спросился. Вступись – свяжем: верно говорю. Здесь у нас свое понимание. Ну, что?
– Нет никого. Пусто (Мстиславский 1928: 307)44.
Недаром, прочитав этот роман, Горький писал Рутенбергу из Сорренто 30 октября 1928 г. (RA):
Посылаю Вам, Петр Моисеевич, книжку Мстиславского, полагая, что для Вас будет интересно познакомиться с этим сочинением. Мстиславского, – по всем его книгам, – я считаю писателем «фантастическим». Если б Вы пожелали возразить ему, пошлите возражение мне, я приму все меры, чтоб оно было опубликовано.
Нам неизвестна реакция Рутенберга на это сочинение «фантастического» писателя Мстиславского. Нет, однако, причин сомневаться в том, что ему меньше всего хотелось заниматься этим – возражать, добиваться от литературы и литераторов правдивого соответствия историческому духу и тем самым вновь будоражить себя давней историей. Тогда, в 1906 г., эсеровский ЦК вменил в вину Рутенбергу превышение полномочий и снял с себя всякую ответственность за убийство. Выходило так, будто бы Рутенберг убил Гапона по личной инициативе. Так, по крайней мере, считал В.М. Чернов (Прайсман 2001: 171), этой точке зрения он оставался верен и в дальнейшем (Будницкий 1996: 432-39). Именно он, как полагал Рутенберг, составил заявление от имени ЦК, в котором ни слова не говорилось о том, что Гапон был убит не по частной инициативе, а приговорен к смерти представителями высшего партийного органа (ДГ: 94).
Точно так же думали и другие члены ЦК, например A.A. Аргунов:
С обстоятельствами гапоновского дела я знаком со вторых рук. Решение ЦК убить Гапона обязательно вместе с Рачковским состоялось в моем отсутствии и мне не было известно. ЦК, благодаря отчасти малочисленности своей и отчасти благодаря недостаточной внутренней сплоченности и усвоенной от прошлого привычке к единоличным решениям, очень часто нарушал обязанность коллегиального решения нередко важных вопросов. Лично я, занятый делами организационными, военными и пр. и только лишь попутно, случайно боевыми делами, естественно, меньше других мог быть осведомлен о гапоновском деле. Рутенберга встречал несколько раз в редакции «Мысль», а впоследствии в Финляндии и за границей. Насколько я представляю все это дело, личность Рутенберга и пр., полагаю, что убийство одного Гапона, вопреки директиве убить вместе с Рачковским, – явилось результатом самостоятельного решения Рутенберга, и сомневаюсь, чтобы здесь, в этом решении, играла провокационная рука Азефа (Аргунов 1924: 180).
Рутенберг прямо или косвенно был обвинен в самоуправстве, а праворадикальными кругами – в том, что, убирая Гапона, он якобы избавлялся от нежелательного компаньона, втянувшего его в сложную и тонкую игру с полицейским ведомством.
О том, что полиция через Азефа должна была знать о готовящемся убийстве Гапона, но и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить его, стало понятно сразу. Несмотря на то что Рачковский, видимо, скрывал эту информацию даже от ближайших помощников и не давал ей хода по официальным каналам, в Департаменте полиции она не являлась секретом. Об этом, в частности, свидетельствует несколько раз уже упоминавшаяся записка С.Е. Виссарионова, который приступил к исполнению должности в начале 1908 г., когда Рачковский давно отошел от дел:
…В этом деле, – говорилось в записке, – обращает на себя внимание чрезвычайная огласка, выпавшая на долю рассматриваемого преступления задолго до официального его раскрытия; в целом ряде сообщений, опубликованных с начала апреля 1906 года в наиболее распространенных газетах, заключались самые настойчивые и подробные указания со ссылкою на местные и заграничные источники и на свидетельство очевидцев относительно убийства Гапона при таких именно условиях места и времени, которые в точности подтвердились обнаруженными фактами.
Очень похоже, что Рачковский дал Рутенбергу беспрепятственно скрыться, поскольку устраненный им Гапон представлял собой лицо «ненужное и опасное» (Лурье 2006: 279). Возможно, сам же Рачковский позаботился о том, чтобы какая-то часть информации «утекла», создав то странное положение «известной неизвестности», на которое обратила внимание либеральная печать.
Недаром, например, газета «XX век» сразу же отреагировала на приводившуюся выше статью Маски в «Новом времени», устами которой говорило полицейское ведомство. Автор статьи задавался следующими вопросами (1906. № 49. 17 (30) мая. С. 3):
Вот факты.
19 апреля в петербургских газетах было напечатано полученное из Берлина извещение какого-то «суда рабочих», что Гапон был им судим, признался в предательстве и был казнен.
16 апреля, т. е. в день отправки из Берлина этого извещения, в «Нов<ом> Времени» была напечатана статья за подписью «Маска», в которой утверждалось, что Гапон убит, что убил его инж<енер> Рутенберг (Мартын) с товарищами и что убийство совершено «весьма возможно» (!) в Озерках.
Этот г. Маска – никто иной, как И.Ф. Манасевич-Мануйлов, чиновник охранного отделения и один из близких помощников г. Рачковского. Мы убеждены, что, сообщая это, мы не нарушаем нисколько литературной этики. Ведь тут литературой и не пахнет, а налицо только сводничество полицейско-жандармских целей с газетными средствами.
Это авторство г. Мануйлова убеждает вполне, что полиции было отлично известно, что если Гапон убит, то труп его нужно было искать в Озерках, где он и оказался.
Тем не менее полиция в Озерках никаких поисков не производила. Труп был открыт лишь через две недели после статьи г. Маски и открыт без всякого участия полиции.
Почему?
Надо прибавить, что открыт труп был на даче, давно уже бывшей на примете у полиции, которая, конечно, одной из первых подверглась бы осмотру полиции, если бы <полиция> стала искать.
Она, однако, как видно, совершенно не искала, но в то же время ее чиновник, г. Мануйлов, пошел в редакцию близкой ему газеты и рассказал всему миру о секретных сношениях Гапона с его, г. Мануйлова, начальством, не пожалев сего последнего, лишь бы выставить Гапона человеком, который заслужил свою казнь.
Какое удивительное стремление, не жалея себя и своих, подсказать обществу оправдания «суда рабочих»!!. Точно эти рабочие и г. Мануйлов были из одной партии и работали вместе.
Но ведь этого не было.
Так как все же это объяснить<?> Ведь вот и «суд рабочих» до сих пор не откликнулся, несмотря на приглашение печати.
И он, очевидно, просто выдуман кем-то.
Кем?
О том, что полиция, зная об убийстве Гапона, бездействовала, с присущей ему неопровержимой логикой писал и В.Л. Бурцев в редакторском послесловии к упоминавшимся выше запискам A.A. Дикгофа-Деренталя «Последние минуты Гапона», опубликованным в журнале «Былое». По мысли Бурцева, Рачковский, рассматривавший Гапона как «отработанный товар», последовательно вел его к смерти:
Действительно, Рачковский знал о предстоящем свидании в Озерках. Статья «Маски» в «Новом времени» свидетельствует об этом. Тотчас же после этого свидания Гапон должен был бы представить о нем отчет Рачковскому. Но Гапон из Озерков больше не возвращался. Между тем, труп его открыли только по прошествии многих недель. Почему, при циркулировавших уже слухах об убийстве Гапона, полиция не направила тотчас же свои поиски на Озерки? Несомненно потому, что Рачковский был заинтересован в возможно более позднем раскрытии убийства.
Но для чего Рачковскому нужна была смерть Гапона? Больше того. Если правительству, вообще говоря, могло быть желательно погубить революционную репутацию Гапона, втоптать в грязь его ореол 9-го января, дискредитировать тем само 9-ое января, то оно достигло этого в достаточной степени тем, что довело Гапона до покаянного письма его министру Дурново. Этого Рачковскому было недостаточно. Он толкал Гапона дальше и ниже. Он старался устроить его своим «сотрудником» при Боевой организации с<оциалистов>-р<еволюционеров>, поручил ему «соблазнить» Рутенберга. Но ведь Рачковский имел Азефа, которому не надо было, как Гапону, завязывать сношения, проникать, добираться. Азеф был в центре, Азеф был главарем боевого дела, он все знал. И Рачковский мог все знать от него и, несомненно, знал. Что особенное мог бы ему сообщить Гапон, которого революционеры уже сторонились и которого ни одна организация не стала бы близко подпускать к себе? Ведь практически Гапон ничего не мог ему выдать, и у Рачковского не могло быть сомнения относительно истинного характера переговоров, которые Рутенберг вел со своим бывшим другом. Сам-то он ведь ни разу на свидание с Рутенбергом не пошел. Не пошел потому, что знал, что в тени всех этих переговоров и торгов скрывается кровавая развязка. Он толкал Гапона на смерть, и только убийство последнего могло быть его ясной, определенной целью в этом темном деле. Да, в свете азефщины смерть Гапона вырисовывается как единственно логически допустимая цель правительственной «обработки» бывшего героя 9-го января. Потому что, повторяем: при наличности Азефа Гапон был не только излишен, но и опасен в роли «сотрудника» при Боевой организации. Дальше, находясь уже в подозрении, при крайне компрометирующих слухах, скоплявшихся вокруг его имени, после его столь подозрительных газетных выступлений, Гапон вообще становился бесценным <т. е. лишенным всякой цены> как правительственный агент. Он сам-то мог и не отдавать себе в этом отчета. Но Рачковскому, создавшему карьеру Азефа, слишком хорошо знавшему, как нужно оберегать революционную репутацию гг. провокаторов, ему-то это должно было быть ясно. Он был слишком опытен во всех тонкостях провокационного дела, чтобы допустить в данном случае грубую с его стороны ошибку. Потому-то, загрязнив уже Гапона с ног до головы, он поручил ему маклерское дело, которое неминуемо должно было довести Гапона до «вешалки» (Ред. <В. Бурцев> 1909:121-22>).
Читая все это, Рутенберг (его записки были опубликованы в том же номере «Былого»), не мог не проецировать жесткий и, скорей всего, справедливый бурцевский анализ на свою роль в этом деле и не сознавать, что Азеф использовал его в «большой игре» могущественнейшего Рачковского, имевшего целью устранить Гапона. «Святая злоба», и нервы, и пролитая кровь – все становилось фарсом в свете этой обнажившейся вместе с разоблачением Азефа правды, которая, хотел того Рутенберг или нет, указывала на то, что его руками исполнялась чужая и чуждая ему воля. «Секира в руках Центрального комитета», как он отзывается о себе в романе Мстиславского (Мстиславский 1928: 285), по дьявольской воле «великого провокатора» превращалась в разящее оружие в руках Департамента полиции. Двусмысленное положение, в котором оказался Рутенберг, дало повод А.И. Спиридовичу («жандармскому историку», как его назвал рецензент одной из его книг, см.: Берлин 1922: 144) заявить категорически и безапелляционно о том, что-де г-да Рутенберги и К° толкнули Гапона «на безумный, но столь нужный для их революционного успеха поступок» (эта цитата приводилась в прим. 15).
А.И. Спиридович был автором многих ценных в историческом отношении книг и статей, но едва ли он мог сочувствовать Рутенбергу, который мучительно переживал драму гапоно-азе-фовского бесчестия, низости и продажности и который, как выяснилось впоследствии, в дополнение ко всему вынужден был нести за это ответственность.
На эту драму художественная литература не отреагировала, хотя сама топика революционного террора с провокаторской проблематикой в центре него занимала писателей как метрополии, так и эмиграции. Вышедший через год после «На крови» Мстиславского «Генерал БО» Р. Гуля взволновал даже такого искушенного читателя, как И. Бунин. По воспоминаниям И. Одоевцевой, на ее вопрос, «читал ли он роман, Бунин воскликнул:
– Еще бы! Будь ему неладно. Ах, уж этот Гуль! Безобразие, да и только! Гуль вцепился в меня, втащил меня в кабину лифта и катает вверх и вниз, на шестой этаж, туда и обратно, без отдыха и срока. И я не могу протестовать, я подчиняюсь ему и читаю, читаю, глотаю страницу за страницей. А мне хочется отложить книгу, передохнуть, позевать, захлопнуть книгу и пройтись по воздуху. Куда там, – вцепился, не выпускает. Необходимо, чтобы были скучноватые страницы, остановки, пустые места. А у Гуля все так стремительно летит, ни строчки, ни слова лишнего, такая динамика, такое высокое напряжение, так все бурлит и кипит, что того и гляди, все лопнет, разорвется, как «лейденская банка» (Одоевцева 1974: 9)45.
Переработанный из «БО» роман Р. Гуля «Азеф» (1959) завершается изображением подлинного шока, испытанного одним из участников этой истории, Савинковым, после разоблачения «великого провокатора»:
Савинков на ходу думал о том, о чем всегда думал, когда оставался один, – об Азефе. Он знал, как страшно уничтожил его Азеф… (Гуль 1959: 319).
Имя Рутенберга среди героев романа отсутствует, но в результате развернувшегося между ними поединка и своего в нем поражения он мог сказать о себе то же самое…
Современники чутко улавливали в общественной атмосфере, что эпидемия провокаторской болезни нарастает. Провокаторство охватило буквально все революционные партии: «подметки», как тогда называли провокаторов, стали неотъемлемо-привычным явлением революционного движения. Эта, по словам П.Б. Струве, писавшего об азефщине как о крайне аморальном выражении революционной стихии, игра «без правил», отделила «"терроризм” от общества», превратила «террористов в некоторое подобие "революционной” полиции или "охраны” которая живет своей особой жизнью, по своим "законам” и пользуется "массою” не посвященных в революционно-охранные мистерии простых, профанных революционеров как провокационным мясом» (Струве 1911: 137).
В истории с Гапоном Рутенберг, в определенном смысле, оказался в руках Азефа «провокационным мясом». Вот почему горькое чувство, преследовавшее его, как можно думать, всю жизнь, было связано не только с той жуткой правдой революции, которую когда-то обнажил Савинков, сказав, что «каждый революционер – потенциальный провокатор», и не только из-за своего двусмысленного положения, возникшего после «дела Гапона». Полагаем, что не в меньшей степени Рутенберг, человек самолюбивый и амбициозный, страдал от того, что Азефу и Рачковскому удалось его переиграть, причем «переиграть вчистую», как переигрывают несмышленышей-новобранцев. То, что он должен был при этом испытывать, точнее всего, наверное, следовало бы определить как комплекс несостоявшегося героя: он, как оказалось, не властвовал судьбой и совершал деяния, а был орудием в руках тайных сил. Явился, иными словами, средством закулисной игры, мелкой «пешкой» на шахматном поле больших и малых интриг в мире политического сыска. Осознав это (а Рутенберг был достаточно проницательным человеком, чтобы долго заблуждаться на сей счет), он испытал, судя по всему, не заурядное недовольство собой, а душевную травму, одно прикосновение к которой вызывало подлинные кошмар и смятение.
Разумеется, следует отметить, что когда Азеф вознамерился вслед за Гапоном убрать и его убийцу и посоветовал Рутенбергу отправиться в Россию, где тот был бы, конечно, тут же схвачен, то наткнулся на решительный отказ:
Его <Азефа> предложение поехать в Россию, – писал Рутенберг впоследствии, – я принял как совершенно определенное намерение помочь мне повиснуть на ближайшей виселице: и я угомонюсь, и ему спокойней будет работать! Душевно он стал мне еще более отвратителен, чем раньше (ДГ: 97).
Здесь Рутенбергу удалось выскользнуть из рук провокатора, назначавшего, по меткому выражению Л. Клейнборта, «каждому его смертный час» (Клейнборт 1927: 217). Проявивший максимум проницательности и здравого смысла, он и в дальнейшем избегал встречи с Азефом, как, например, в январе-феврале 1907 г., когда жил в Италии и там же, в Генуе и в Алассио, находился Азеф (см.: Письма Азефа 1994: 137-40 – письма Азефа Савинкову, B.C. Гоц, Н.В. Чайковскому). Встреча с ним для Рутенберга была явно нежелательна, и даже после разоблачения и бегства Азефа он, по-видимому, опасался не столько его самого, сколько подосланных им агентов охранки46. В письме к Савинкову от 6 февраля 1909 г. есть проявление на сей счет известного беспокойства:
Напиши, пожалуйста, знает ли Азев, где живу. Мне это надо знать сейчас же47.
Опасения эти звучат и в письме к В.Л. Бурцеву, написанному через месяц с небольшим, 12 марта 1909 г., в котором он просит не давать никому своего адреса (в самом письме указан некий ложный адрес: Milano, 14 via Bellingezetta)48.
В следующем письме ему же (25 марта 1909 г.) Рутенберг пишет:
Адрес для сношений со мной я переслал Вам через Савинк<ова>. Если приедете по этому адресу хотя бы с этим письмом, меня немедленно вызовут. Более точные указания можете получить у моей жены. Адрес ее Вам не трудно будет узнать, конечно49.
Безусловно, самым острым и интригующим в борьбе боевиков с агентами охранки была схватка интеллектов. Нет нужды доказывать тот очевидный факт, что в верхнем эшелоне Департамента полиции сидели не просто неглупые и хорошо информированные люди, но и по-своему тонкие аналитики, очень неплохо разбиравшиеся в сложных хитросплетениях человеческой психологии и различных течениях государственной жизни. Достаточно назвать имена С.В. Зубатова (см., например, Кавторин 1992: 13-227), A.B. Герасимова, A.A. Лопухина (см. в этой связи: Лопухин 1907), чтобы придать этому тезису материальную плоть. Следует также иметь в виду, что ко времени, о котором идет речь – рутенберго-гапоновского инцидента, – с предельной ясностью обнаружилось, что определенные правительственные круги нередко использовали борьбу с революционным движением для «подставок» и сведения личных счетов, а также в карьерных целях, устраняя тем самым со своего пути нежелательных соперников и конкурентов. В свою очередь, далекими от провозглашаемых высоких общественных идеалов и нравственной чистоты оказывались порой и их политические враги – революционеры-террористы. События на театре российского политического террора далеко не всегда диктовались целями революционной борьбы: определенная часть убийств совершалась при молчаливом согласии, если не вообще санкционировалась властями. Классическим выражением этой загадочной российской «политической механики», при которой высшие государственные сановники устранялись их соперниками, хотя и руками врагов правящего режима, стало через некоторое время убийство премьер-министра П.А. Столыпина. Его убийца Д. Богров, как известно, одновременно принадлежал анархистско-револю-ционным кругам и был агентом царской охранки.
По художественной версии Р. Гуля (который опирался на высказанные до него основательные подозрения В. Бурцева), убийство террористами В.К. Плеве было «санкционировано» настрадавшимся от него П.И. Рачковским. В романе «БО» есть сцена, где Рачковский исподволь внушает Азефу мысль о том, что главным вдохновителем Кишиневского погрома явился именно Плеве, тем самым как бы отдавая грозного министра внутренних дел (а вместе с ним и вел. кн. Сергея Александровича) на заклание революционерам. Разбирая эту сцену, современные исследователи пишут:
Эпизод этот, естественно, полностью вымышлен. Но романист развивает две важные для него идеи:
1) убийство Плеве (в перспективе и его «тайного повелителя», великого князя Сергея Александровича) – национальная месть за Кишиневский погром 1903 года, тем более что российская либеральная общественность действительно обвиняла министра как минимум в «преступном попустительстве»;
2) террористическая деятельность Азефа в качестве руководителя БО эсеров тайно направлялась его полицейским начальством (Одесский, Фельдман 2002: 60).
В данном случае нас интересует второй аспект – тайно вдохновляющая роль охранки в организации некоторых громких террористических дел. То, что случилось с Рутенбергом, лишний раз свидетельствует о том, что охранное ведомство имело возможность влиять, как в данной ситуации – через Азефа, на процесс «сведения счетов» между правительственными сановниками.
Оказаться, таким образом, в «мышеловке» – в незавидной роли не судьи, а палача, который не столько исполняет справедливый приговор, сколько служит инструментом исполнения чужих интересов, – в этом для самолюбивого Рутенберга должен был быть и наверняка на самом деле был источник непереносимого нравственного унижения. Именно поэтому (или скажем мягче и альтернативней: и поэтому тоже – наряду с общей профанацией сокровенных революционных идеалов) гапоновс-кая история вызывала у него прилив столь энергичного отвращения.
Говоря объективно, он действительно совершил тактический промах, дав Азефу провести себя и не обеспечив своей роли, в отличие от более опытного и умудренного во лжи и интригах противника, «отступными» легендами. Разбирая этот драматический эпизод, авторы французской книги о русских террористах и охранке, тонко прочувствовав сложившуюся ситуацию, писали:
Если поведение Азефа, оперировавшего, кстати сказать, с крайней осторожностью в этом деле, вполне ясно, то этого отнюдь, к сожалению, нельзя сказать о поведении Рутенберга, принявшего молчание Азефа за согласие ЦК (принципиально не могшего дать подобного согласия в виду суда) и забывшего, что все, что он знал о предательстве Гапона, он знал один и что если казнь Гапона вместе с Рачковским не нуждалась в санкциях и объяснениях, то убийство одного только Гапона должно было остаться загадочным… (Лонге, Зильбер 1924/1909: 148).
Слабым утешением для Рутенберга был тот «оправдательный» аргумент, какой мог бы возникнуть в его сознании задним числом: нелепо же было воспринимать Азефа до его разоблачения как противника, а не как покровителя-босса, пользовавшего непререкаемым авторитетом у товарищей по партии.
Весьма показательным в свете всего сказанного явилось отношение Рутенберга к книге, написанной о нем Яковом Яари-Полескиным (Yaari-Poleskin 1939) и приуроченной к его 60-летию. Как мы узнаем из публикуемого ниже письма героя к автору, книга создавалась и печаталась вопреки желанию Рутенберга и даже наперекор его прямому требованию не делать этого.
Рутенберг, который вообще не отличался особенной кротостью нрава и мог быть достаточно жестким и безжалостным по отношению к тем, чьи заслуги, результаты труда или моральную стоимость невысоко ценил, в истории с Полескиным вовсю проявил суровость своего характера. Можно было бы объяснить излишне резкий тон его письма простым сопротивлением установлению прижизненного памятника, если бы сочинение Полескина не представляло собой в известном смысле вполне добротно сработанную и довольно информативную для своего времени монографию. Надо сказать, что несмотря на ряд очевидных недостатков (отмечаемая суровым юбиляром лубочная прихорошенность его личности и связанный с этим ряд исторических недостоверностей и ошибок – этим же грешили и многие представители прессы того времени, творившие рутенберговскую «агиографию»50), книга не потеряла определенного интереса до нынешнего дня. Словом, Полескин вовсе не представлял собой крайний вариант неоднократно осмеянного типа «наемного» журналиста-историка, озабоченного проведением заказной тенденции или того паче – плоской халтуры. Однако не будучи сам по себе ни значительной личностью, ни профессионалом крупного калибра, ни тем более поверенным в тайнах внутренней жизни своего героя, большого доверия у Рутенберга он не вызывал. Но дело, как представляется, было не только в этом.
Самого инцидента с Полескиным мы еще коснемся; сейчас же, приводя письмо Рутенберга к нему по поводу вышедшей книги, отметим, что при чтении этого письма складывается впечатление не столько тенденциозности автора, сколько раздражения героя. За резкими замечаниями Рутенберга сквозит нечто более скрытое и сокровенное, нежели суровый суд над неудачным литературно-историческим сочинением. В достаточной степени ивритом Рутенберг не владел и, стало быть, вряд ли мог прочесть книгу в полном объеме и вникнуть в нее сколько-нибудь основательно. Он, похоже, исходил при ее оценке не из объективных критериев, а из каких-то иных, ведомых только ему соображений, не связанных напрямую с достоинствами или недостатками текста. Для него, по-видимому, была неприемлемой сама мысль о том, что кто-то посторонний может беспрепятственно проникнуть в его жизнь, бдительно оберегаемую от чужих глаз, и тем самым лишний раз иметь повод судить и рядить о строго табуированных материях. Еще за семь лет до выхода книги из печати он предупреждал обратившегося к нему Полескина о том, чтобы тот не брался за напрасный труд, из которого ничего хорошего, судя по всему, не выйдет. В августе 1932 г. и в марте 1936 г. Полескин этому предупреждению не внял и, несмотря на энергичные протесты Рутенберга, сам для себя определил право на Imprimatur. Получив книгу, Рутенберг писал ему в ноябре 1939 г. (RA, копия):
2. IX <1>939
H<aifa>
Дорогой Полескин.
Спасибо за книгу. Письмо тоже получил. Несколько лет назад Вы просили мое разрешение опубликовать такую книгу, и я Вам категорически отказал. Теперь Вы опубликовали эту книгу без моего разрешения. Зная, что я против этого.
Вы поступили очень нехорошо.
Мотив, что это Вам нужно для заработка, не убедителен. Я не являюсь Вашей частной собственностью.
Книга написана плохо. Очень поверхностно. Важная эпоха истории еврейского народа 1915–1919, годы моей жизни в Америке – ежедневная пресса того времени дала бы много больше драматической сущности ее. Последние 20 лет жизни в Палестине тоже дали поверхностно. Некоторые даты и события перепутаны. Некоторые политические факты опубликованы безответственно и принесут много горя злополучному нашему народу. Личность Р<утенберг>а лубочно прихорошена.
Книга – сенсационная, привлекающая публику, кинематографическая картина. Вероятно, будет читаться. К моему сожалению. Учиться в книге нечему.
Английского и других переводов книги прошу Вас не делать. Если сделаете – вынужден буду принять меры, для Вас, наверное, неприятные.
В письме Вашем просите интимный разговор со мною. Для нового, расширенного издания книги. Ясно, что никаких интимных разговоров с Вами иметь не буду.
П. Р<утенберг>51
Естественно, что Полескин, руководствовавшийся при работе над книгой самыми добрыми намерениями, был весьма раздосадован таким поворотом дела. Об этом ясно свидетельствуют сохранившиеся в RA его письма к Рутенбергу, к которым, повторяем, мы еще вернемся.
Показателен для анализа затронутой темы также воспроизводимый в мемуарах Б.-Ц. Диковского, работавшего вместе с Рутенбергом в компании Хеврат ха-хашмаль, такой факт: когда в одном из русских эмигрантских журналов вышла чья-то статья, в которой рассказывалось об истории Гапона, он, Диковский,
купил этот номер журнала в одном из киосков в Тель-Авиве и показал его Рутенбергу. Тот прочитал статью и сделался мрачным. После этого он сказал мне с сильным нажимом: «Порви эту книжку, а затем пройди по киоскам, скупи все, что увидишь, и уничтожь» (Dikovskii 1986: 70).
Хотя Рутенберг ревниво оберегал собственное прошлое от постороннего вмешательства, некоторые его рассказы, если верить мемуаристам, поражают явной непоследовательностью и попахивают откровенной мистификацией, цели которой, впрочем, не ясны. Так, уже живя в Палестине, он исповедовался однажды перед одной своей знакомой в том, что до нынешнего дня не уверен в справедливости совершенной над Гапоном экзекуции – был ли казненный в самом деле агентом-провокатором («…I’m not sure to this day whether his execution was justified, whether he was in fact an agent provocateur») (Solomon, Litvinoff 1984: 112). Кроме того, он якобы рассказывал ей, что, заманив попа в уединенное место («а country shack»), застрелил его («shot him») (там же). Эти свидетельства нарочитого искажения подлинных обстоятельств убийства Гапона усиливаются еще и тем, что упоминаемый далее той же мемуаристкой столь хорошо информированный человек, как Р.Б. Локкарт, который с 1911 по 1918 г. жил в России и наряду с официальными обязанностями английского консула исполнял деликатные шпионские функции, писал в одной из своих книг, что Рутенберг, по заданию партии эсеров, пристрелил Гапона в общественной уборной (Lockhart 1952: 27). Локкарт не сообщает, откуда он почерпнул эту более чем странную информацию, идущую вразрез с тем, что было достоверно и недвусмысленно известно о месте и обстоятельствах гапоновской казни. Его слова можно было бы принять за обычную «развесистую клюкву» иностранца, берущегося писать о России, если не знать, что данный автор обычно строго и ответственно обращался с подобного рода фактами.
Это наводит на мысль о том, что несмотря на всю свою осведомленность Локкарт, близко знавший Рутенберга, мог в отношении смерти Гапона стать жертвой рассказанной им истории об уборной. Примерно так же Рутенберг, очевидно, вводил в заблуждение Ф. Соломон, которая, между прочим, сопровождает свой рассказ таким комментирующим замечанием:
Бедный Рутенберг, который на протяжении многих лет жил как конспиратор, был неспособен держать внутри себя тайну, хотя никогда не рассказывал одну и ту же историю дважды (Solomon, Litvinoff 1984: 112).
Выводы автора цитируемых мемуаров представляются излишне категоричными, основанными на сугубо личном, по-женски субъективном и весьма ситуативном опыте (ее положение замужней женщины, имевшей ребенка, предотвратило ухаживания холостяка Рутенберга, но, судя по всему, их отношения не избежали некоторого налета интимной доверительности, при которой многие пафосные вещи нередко делаются бытовыми и курьезными). Большинство писавших о Рутенберге как раз видели в нем иные, прямо противоположные качества и черты – неприступность, скрытность, несклонность к сентиментальным душевным излияниям, немногословие, замкнутость. Как бы то ни было и будь даже облик Рутенберга, рисуемый Ф. Соломон, излишне, что ли, «индивидуализированным» и потому неадекватным с точки зрения типологии «общественного деятеля», нам и в дальнейшем придется указывать на некоторые несоответствия, нестыковки и противоречия в его характере. В конечном счете именно эта противоречивость дает ощущение живой души, во имя чего приходится жертвовать набором ложно-героических качеств.
При всем том, что, как всякое живое существо, Рутенберг не был застрахован от проявления «человеческого, слишком человеческого»: позволял себе внезапные слабости и странности, мог поддаться минутному настроению, эмоциональным бурям и нервным срывам, все-таки в своей приверженности основным «символам веры» он проявлял редкую последовательность, непреклонность и волю. Именно этими качествами было отмечено его поведение в истории с полицейским агентом и провокатором Гапоном – казнь-возмездие и вся последовавшая затем битва с эсеровским ЦК, по существу открестившимся от Рутенберга как главного персонажа этого нашумевшего дела. С ним, с «делом Рутенберга», в которое переросло «дело Гапона», связана одна из самых бесславных страниц истории партии эсеров.
И еще одно свидетельство, которое нельзя не привести ради объективного баланса мнений. Оставившая, как и Рутенберг, след в российской и палестино-израильской истории Мария Вильбушевич-Шохат52 познакомилась с Гапоном в годы своего тесного сотрудничества с С.В. Зубатовым. В ее поздних воспоминаниях Гапон предстает личностью редкой физической и моральной красоты:
Гапон был одним из самых интересных и замечательных людей, которых я встречала в жизни. Красивый внешне. Аскет и эстет. В чертах благородство и аристократизм. Сильный, как кремень, характер. Одухотворенный мечтатель и поразительно одаренный организатор. Глубоко верующий и веротерпимый, он был полон жалости и любви к ближнему своему. Имел колоссальное влияние на народные массы. Они шли за ним со слепой верой. И были готовы идти за ним в огонь и в воду (Goldstein 1991:142).
М. Вильбушевич-Шохат с нескрываемым сомнением относилась к тому, что «аскет и эстет» Гапон мог стать провокатором и агентом царской охранки.






