Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том I: Россия – первая эмиграция (1879–1919) Хазан Владимир
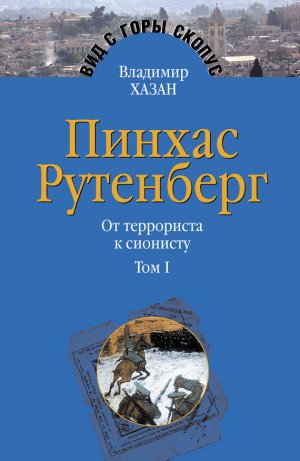
Мне скучно жить. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.
Вот театр марионеток. Взвился занавес: мы на сцене. Бледный Пьерро полюбил Пьерретту. Он клянется в вечной любви. У Пьерретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь – красный клюквенный сок. <…>
Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьерретта, Пьерро. Льется кровь – клюквенный сок. <…> Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает? (Савинков 1990: 371-72).
43. Это реальная деталь: одну из комнат на даче Рутенберг действительно приказал оклеить обоями, но ввиду малого задатка (он снял дачу за 190 руб., а в качестве задатка оставил только 10) сторож этого приказания не выполнил. После второго визита и оставленных 30 рублей комната была оклеена обоями.
44. Несколько главок из романа, в которых описываются подготовка к гапоновской экзекуции и она сама, С. Мстиславский издал отдельной брошюрой под названием «Смерть Гапона» (Мстиславский 1928b).
45. В некрологе Р. Гуля Б. Филиппов вспоминал о его визите в лагерь ди-пи «Шляйсхайм» в июне 1949 г. и чтении там этого романа:
Вспоминается чтение Романа Борисовича в лагере ди-пи «Шляйсхайм», близ Мюнхена, в июне 1949 года. Перед большой аудиторией «перемещенных лиц» читал Гуль отрывки из своего романа об Азефе и Савинкове – «Генерал БО». Аудитория была самая разношерстная: от белградских зубров-монархистов до вчерашних комсомольцев послевоенной эмиграции. Среди слушателей вспоминаю писателей и поэтов как первой, так и второй эмиграции: Ивана Елагина и Ольгу Анстей, Бориса Нарциссова и Ирину Бушман, Геннадия Панина и Евгения Тверского, и многих других. И вся аудитория была захвачена и самим повествованием, и самой манерой гулевского чтения: читал он просто, но выразительно, – и говор его был каким-то великорусски-круглым, необычайно подходящим к характеру «Генерала БО» (Филиппов 1986: 3).
46. Опасался этого Рутенберг, конечно, напрасно, поскольку сам Азеф, «виртуоз конспирации», сделал все возможное, чтобы полностью скрыть свои следы. Он настолько в этом преуспел, что его считали мертвым, см. в письме С.В. Зубатова А.И. Спиридовичу от 7 августа 1916 г., в котором он пишет об Азефе как о покойнике и спрашивает своего корреспондента, не знает ли тот, при каких обстоятельствах его не стало (Зубатов 1922: 281). Иной миф об Азефе отразился в представлении левых эсеров, полагавших, что германское правительство якобы прислало его в Москву в помощь послу В. Мирбаху, куда он прибыл неопознанным и где был должен наладить сеть агентурной работы (Красная книга 1989, I: 209-10).
47. ГА РФ. Ф. 5831. On. 1. Ед. хр. 174. Л. 11. О месте пребывания Азефа в это время ничего известно не было; ходили даже слухи, что он, изменив внешность, вернулся в Россию и служит в Департаменте полиции.
48. ГА РФ. Ф. 5802. Оп. 2. Ед. хр. 766. A. 1.
49. Там же. Л. 2. (Ольга Николаевна жила в это время в Париже по адресу: 7 bis, rue Guerard Fontenay aux Roses.)
50. Справедливости ради следует отметить, что Рутенберг и в других случаях не поддавался сладостному «агиографическому соблазну», см., например, в его письме Я. Ландау (15 декабря 1930 г.), приславшему из Нью-Йорка статью М. Левина «Pinhas Rutenberg – An
Electric Force», опубликованную в «The Canadian Jewish Chronicle» (1930. November 7) и написанную в ненавистном ему сусально-торжественно-приподнятом ключе, что само по себе как бы придавало материалу некое лживое содержание.
You know that I deeply dislike public advertising, – писал он своему корреспонденту, – and this article is in addition inaccurate and very vulgar. You realize that my dislike has increased in proportion. Please do not do it again (RA).
Перевод: Вы знаете, что я не выношу публичного рекламирования, а эта статья грешит еще пошловатостью и искажением истины. Можете себе представить то неприятное чувство, которое поднялось во мне. Прошу не присылать мне этого впредь.
51. Впервые опубликовано: Хазан 2006b: 328-30.
52. Маня (Мария Вульфовна) Вильбушевич (по мужу: Шохат; 1879–1961), деятель еврейского рабочего движения в России (бундовка), сионистка. На определенном этапе своей биографии была ярой поклонницей идей С.В. Зубатова и их пропагандисткой. В 1904 г. впервые посетила Эрец-Исраэль, а несколько позднее переехала сюда навсегда. Была одной из зачинателей коллективного (кибуцного) сельскохозяйственного движения и организации ha-shomer.
53. См., например, дневниковую запись Е.П. Иванова от 17 декабря 1906 г.:
У Розанова был Григор<ий> Спирид<онович> <Петров> <священник>.
О Мар<ии> Добр<облюбовой> говорили. Сегодня в «Товарище» ее памяти статья помещена.
Умерла от паралича сердца.
Ее хотели «возвратить к жизни». Последнее время, особенно последнкхк» неделю, она говорила о самоубийстве, о каком-нибудь о террористическом подвиге, чтоб недаром умереть, когда надо умереть. Ее уговаривали, и среди уговаривающих бы<л> Петров. Он все был с нею, и перед смерть<ю> в воскресенье 10-го пять часов все ходил с ней и говорил (Фетисенко 2007: 491).
54. О самоубийстве М. Добролюбовой, хотя и в предположительном плане, пишет, например, хорошо ее знавший О. Дымов, см.: Дымов 2005: 237.
55. Имеется в виду Наталья Сергеевна Климова (1884–1918), участница революционного движения; максималистка. Была осуждена на бессрочную каторгу, 1 июня 1909 г. совершила побег из московской каторжной тюрьмы. В 1910 г. была приглашена Савинковым в Боевую организацию, но вскоре покинула ее.
56. ГА РФ. Ф. 5831. On. 1. Ед. хр. 174. Л. 45.
57. Рутенберг не являлся членом ЦК партии эсеров.
58. В приводимом М.И. Леоновым списке делегатов съезда, псевдонимы которых ему удалось раскрыть (ряд участников выступал под псевдонимами) и идентифицировать еще некоторых – из 96 человек – 44, ни имени Рутенберга, ни самой Поповой не значится (Леонов 1997: 296-97, п. 20).
59. В этой резонирующей на судебное разбирательство статье, опубликованной в «Знамени труда», эсеровское руководство, помня, что лучшая защита – это нападение, само переходило в атаку. На вопрос прокурора начальнику петербургского Департамента полиции A.B. Герасимову, говорилось в материале,
известны ли ему случаи, когда партии делали лживые заявления, охранник, презрительно покачивая ногой, изрекает: о, да сколько угодно! – Не укажете ли примера? – Да чего там пример! Они лгут, грабят, воруют, подделывают – все что угодно.
На эту сцену, которая происходила не в зале суда, а из-за соображений конспирации в помещении Департамента полиции (Мойка 12), цекисты давали выход своему «праведному гневу»:
Этот визит российской Фемиды, это проституирование юстиции будет чревато последствиями и является характерным для нашего времени. Наша Фемида всегда торговала собой, но негласно. 12 августа на Мойке в д. № 12 она заручилась желтым билетом (Знамя труда. 1907. № 4. 30 августа. С. 11).
60. Ср. также упоминание об этом процессе в другом письме Савинкова ей же, от 20 декабря 1924 г. (Борис Савинков на Лубянке 2001: 146).
Часть II
«И я сжег все, чему поклонялся…»
В арьергарде русской революционной армии
Глава 1
«В итальянской тиши»
…Вот она – Италия святая!
Ап. Майков. Campagna di Roma
Покинув Россию, Рутенберг какое-то время жил в Париже, работал как инженер в ремонтно-строительной фирме. В конце 1906 г. для своей политической эмиграции он избрал Италию. Итальянский период играет роль важнейшего «соединительного шва» в биографии Рутенберга: здесь произошли многие поворотные события, определившие весь ход дальнейшей жизни некоронованного героя domenica rossa («красного воскресенья»)1. В литературе о Рутенберге описание времени, проведенного в Италии, ограничивается, как правило, неким, что ли, «суммарным итогом»: отходом от вчерашних кумиров, осознанием вчерашним русским революционером-космополитом того, что Б.Л. Пастернак (в письме к О.М. Фрейденберг от 7 августа 1949 г.) назвал «препятствием крови и происхождения» (Пастернак 1990: 255) и последовавшим за этим возвращением в лоно еврейства, т. е. своеобразной цитатой, не литературной, а вполне реально-биографической, знаменитой поэтической сентенции И. Тургенева: «И я сжег все, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал». Так, в некрологе Рутенберга, написанном И. Найдичем, говорилось:
С 1910 по 1914 год2 Рутенберг жил в Италии и работал как инженер-гидростроитель. Когда я посетил Рим в самом начале Первой мировой войны и встретился там с местными сионистскими лидерами, то спросил их о нем. Они рассказывали, что, поселившись здесь, он в первые годы почти ни с кем не встречался. В замкнувшемся в себе и своей работе Рутенберге происходила громадная переоценка всех прежних ценностей. Когда разразилась война, он явился к активистам сионистского движения и сказал, что путь, который приведет к освобождению еврейского народа, может быть только один, и путь этот – Эрец-Исраэль. Чтобы достичь этой цели, нужно созвать в США представительный конгресс еврейского народа, который во всеуслышание заявит о своих правах.
Как сказал – так и сделал: из Италии он отправился в Лондон, а затем в Америку, чтобы осуществить свои обширные планы (Naidich 1955: 206).
Не оспаривая в целом справедливости того, о чем пишет И. Найдич, следует все же сказать, что в этой обедненной схеме подлинная жизнь Рутенберга в Италии представлена весьма тускло и однобоко, в действительности она была куда более сложной, драматичной и многоплановой. Чтобы во всем этом разобраться, требуется прежде всего детальная реконструкция его итальянского curriculum vitae.
То же ключевое событие в жизни Рутенберга – возвращение в еврейство – интересует главным образом авторов книги по истории возникновения Армии обороны Израиля («Sefer toldot Hahagana»), где говорится так:
В итальянской тиши («be-avira shketa shel Italia») Рутенберг начал размышлять над своим еврейским происхождением (Sefer toldot Hahagana 1954-64,1/2: 454).
Любопытно, что «итальянская тишь» как фигура речи появляется также и в очерке о Рутенберге Н. Сыркина, опубликованном в 1919 г. в варшавской идишской газете «Haint» (полностью приведен в Приложении VIII):
В то время, когда он был успешным инженером в Италии, там, в тиши, у него начала зреть еврейская мечта: сионизм в его полном, абсолютном мистическо-национальном величии – с Эрец-Исраэль, с ивритом, с чудом богоизбранности (Syrkin 1919: 3).
Этот повторяющийся штамп является ничем иным, как формой «беглого» биографического портретирования, при котором описанию сложных и неоднозначных жизненных обстоятельств, парадоксов и метаморфоз предпочитается удобный стереотип. В данном случае срабатывает незамысловатая дескриптивная схема: «в Италии у него было время подумать и оценить прошлое». Отсюда – маниакальная «итальянская тишь», своего рода тютчевское «Silentium» как место уединенного размышления о необходимости обрести утраченную национальную идентичность.
Впрочем, Рутенберг этот штамп сам же и спровоцировал. В начале своей брошюры «Национальное возрождение еврейского народа», вышедшей в Нью-Йорке на идише в 1915 г., он рассказал, как, оказавшись под давлением обстоятельств на чужбине, разделил участь других политических русских беженцев.
Я держался от них в стороне, – пишет Рутенберг, – и не принимал участия в жизни эмигрантской колонии. Извне эта жизнь казалась достаточно пустой и незначительной, но внутри она была наполнена трагическим содержанием. Мне посчастливилось найти интересную работу, которая поглощала меня целиком. В кругу здоровых и красивых людей, среди чудесной природы я исцелился от перенесенной в России душевной травмы. Я почувствовал прилив иного, нового отношения к людям. И нового отношения к себе самому. И более ответственное отношение к накопленному жизненному опыту. И уже тогда, задолго до войны, меня стал преследовать неотвязный вопрос: отчего я, цивилизованный человек, имеющий определенное представление о жизненных ценностях, стыжусь своего еврейского происхождения и всячески стараюсь скрыть его от неевреев? И почему так поступает множество евреев, людей, обладающих высоким чувством собственного достоинства и самоуважения? И как же так выходит, что те неевреи, которые относятся ко мне с должным уважением, считаются моими ближайшими товарищами, те революционеры, исключая, пожалуй, лишь несколько человек, вызывают у меня сильное подозрение, что они не любят евреев? Каким образом поселяются в их душах юдофобские чувства? И почему это юдофобство мы в той или иной форме обнаруживаем не только в России, где многих евреев преследуют, угнетают, лишают элементарных человеческих прав, но и в других странах, в которых евреи составляют ничтожно малую горстку населения и где они узаконены в правах с остальными гражданами? (Ben-Ami 1915: 16-7).
На самом деле никакой «тишью» итальянское уединение для Рутенберга не было, а умственная сосредоточенность лишь отражала сложность того, что происходило вокруг, хотя восстановить, как вслед за описанными в предыдущих главах событиями он проводил свои «римские каникулы», к сожалению, в полной мере не удается: этот этап его биографии скрывает в себе немало «белых пятен». Так, в частности, не обнаружено никаких документальных следов его знакомства с Б. Муссолини, хотя в мемуарной литературе на это существуют прямые указания (см.: Solomon, Litvinoff 1984:110). Недостаточно изучен вопрос о связях эсера Рутенберга с итальянскими социалистами (в RA имеется его переписка с Ф. Турати, не очень, правда, объемная, но представляющая несомненный интерес). Недостает свидетельств о каждодневном быте Рутенберга в приютившей его стране. Необходима более обширная информация о его отношении к Италии и итальянцам. Все эти частные аспекты, как показывают сохранившиеся материалы, так или иначе подчиняются узловой проблеме: возвращение Рутенберга в еврейство носило характер отказа от либерально-народнического мировоззрения, на котором он был взращен, и прихода к западным философским и культурным ценностям.
Старый знакомый Рутенберга и, как он сам себя называет, его «революционный соратник»3, журналист и писатель М. Осоргин, живший в Италии в то же самое время, что и он, сетовал на то, что русские эмигранты невнимательны к этой земле, оказавшей им редкое и исключительное гостеприимство.
Живя в чужой стране, – писал М. Осоргин, – интересной уже тем, что она – свободная страна, они не выказывают ни желания, ни способности войти в ее интересы, не заводят связей с населением, по-прежнему держатся своим стадом, своими прошлыми переживаниями и своими слабыми будущими надеждами. Вместо того, чтобы приглядеться пристальнее, поучиться, подумать, главное – посрав-нить, они в самом подлинном смысле слова «сидят у моря и ждут погоды». В лучшем случае – пойдут на митинг послушать звонкие речи рабочих лидеров из адвокатов; но самая жизнь, жизнь рабочего, как и жизнь обывателя, остается им чуждой и незнакомой. И это при том интересе, с каким некогда в России они хватали брошюрки иностранных социологов, надеясь найти в них ответы и указания, при том апломбе, с каким у нас в России говорят о загранице как о крае, изученном нами вдоль и поперек, навязшем в зубах даже статистическими таблицами, читаемыми наизусть (Осоргин 1913: 21).
К Рутенбергу сетования Осоргина вроде бы отношения иметь не могут: известно, что опальный русский революционер полюбил Италию, неплохо знал итальянский язык, несмотря на свой замкнутый и скрытный характер и конспиративный образ жизни, имел немало знакомых-итальянцев. Человек более деятельный, нежели созерцающий, он, насколько нам известно, в открытой форме чувств своих к Италии не выражал и книг об «образах Италии» не оставил. Тем не менее эта страна, ее природа, история, культура, современная хозяйственная, социальная и политическая жизнь, новые жизненные темы, интересы и перспективы постепенно вытеснили из его сознания то, что так остро волновало еще совсем недавно. Естественным образом, под давлением vita nova, другим становился он сам. Изменяясь, вдруг обнаружил, что всю жизнь до этого сторонился своего еврейства и это в высшей степени нелепое чувство, не смущаясь, принимал за естественное.
Если потребовалось бы определить главную причину, приведшую Рутенберга в национальный еврейский лагерь, в качестве нее, почти несомненно, следовало бы назвать его личное поражение и разочарование в русской революции и в тех, чьми руками она готовилась и совершалась.
В упомянутой брошюре о национальном возрождении еврейского народа Рутенберг пишет о себе как о солдате разгромленной «русской революционной армии». Разочарование и обида были в нем столь сильны, что возвращение в еврейство происходило как отталкивание от прошлого опыта. Речь, разумеется, менее всего идет о национальном составе российского революционного движения, в основе и костяке своем представлявшего собой союз идейных космополитов, независимо от того, кровь какого народа текла в их жилах. Еврей Азеф и православный русский Гапон в одинаковой степени олицетворяли гнусный облик провокаторства. Святость революционных идеалов оказалась низко и цинично растоптанной этими и подобными им людьми, и поиск душевного примирения с действительностью счастливо совпадает в это время у Рутенберга с обнаружением новой точки опоры, твердой почвы. Этой твердой почвой и, соответственно, захватившим все его существо будущим «жизненным проектом» неожиданно стала проблема судеб еврейского народа, о которой, как всякий революционер, преданный вненациональным идеям и ценностям, Рутенберг никогда всерьез раньше не задумывался. Прикасаясь к этой материи, мы поостереглись бы, однако, в противовес многим авторам, писавшим или пишущим о Рутенберге, безоглядно зачислять его в сионисты – ни тогда, в Италии, когда в нем началась крутая национальная ломка, ни потом, живя в Палестине, сионистом в полном и подлинном смысле он не стал, оставаясь в этом образе и качестве – обретшего новую «старую» веру, «самим по себе», «одиночкой», держащимся вблизи сионистской идеологии, но не внутри нее самой. Этого отличия от «нормального» сиониста Рутенберг никогда не сумеет в себе преодолеть, да, собственно, и не будет стремиться это сделать. И напротив, революционный дух, несмотря на все усердие превозмочь наследие «бурной» российской молодости, останется в нем до конца дней. Со всем, естественно, набором качеств «классического революционера» – мечтой о не менее как всеобщем равенстве и счастье людей и готовностью к борьбе с угнетателями не на живот, а на смерть. Поскольку одними из самых угнетенных были евреи и поскольку решение проблем этого народа могло прийти только вместе с образованием его собственного государства, Рутенберг был готов стать «сионистом». И на этих условиях честно им был. Однако не нужно обладать особенной проницательностью, чтобы почувствовать преобладание в нем «революционера» над «сионистом». Неслучайно те, кто его окружал, это действительно остро и настойчиво чувствовали. X. Вейцман писал в книге мемуаров, вспоминая Рутенберга, появившегося в Лондоне после бегства из России (сентябрь 1919):
Рутенберг не вернулся к еврейской жизни. Он был революционер по своей природе, а революция происходила у него постоянно (Weizmann 1966/1949: 171).
К этой теме мы еще не раз вернемся.
В Италии он познакомился с горным инженером П.И. Пальчинским, который вместе с женой Ниной Александровной (урожденной Бобрищевой-Пушкиной) недолгое, правда, время (не более двух лет) жил в Риме. В статье «Как устанавливаются международные связи» (полностью приведена в Приложении III) Рутенберг писал:
Осенью 1909 года в Италию приехал уполномоченный Совета съезда южнорусских углепромышленников горный инженер Пальчинский с поручением изучить итальянский угольный рынок.
На основании собранных сведений он полагал, что русский донецкий уголь по качествам своим и ценам может конкурировать с английским углем в Италии. Он обратился ко мне как к лицу, знающему Италию, связанному с итальянской углепромышленной средой, с предложением заняться вместе с ним организацией этого дела.
Я встретился с Пальчинским в Генуе в ноябре 1909 г. Работа его производила впечатление солидное. Из собранных сведений он составлял отчеты, касавшиеся количества, качества и цен ввезенных в Италию за последнее десятилетие горнозаводских продуктов. По требованию Совета съездов он купил и отправил в Харьков образцы английских углей, употребляемых на генуэзском и неаполитанском рынках. Профессор Рубин образцы эти исследовал и результаты исследования опубликовал в «Горнозаводском деле» (1910) (Рутенберг 1911: 306).
С Петром Иоакимовичем (Акимовичем) Пальчинским (1875? 1876?1878?-1929), о котором идет речь, Рутенберга сведет судьба позднее в революционном Петрограде, где оба будут выступать в роли заметных деятелей демократического режима, а затем защищать последние часы его существования. Оба будут арестованы как враги большевистской власти и полгода проведут в Петропавловской крепости, а затем в «Крестах». В советское время Пальчинский служил в должности консультанта по экономическим и техническим вопросам в различных учреждениях, был членом Научно-технической комиссии ВСНХ, преподавал в ленинградском Горном институте. 21 апреля 1928 г. был арестован по «Шахтинскому делу» и 22 мая 1929 г. приговорен Коллегией ОГПУ к расстрелу.
Приезд Пальчинского в Италию был связан с подписанием ею 15 (28) июня 1907 г. нового торгового договора с Россией и оживлением торговых отношений между ними (подробнее об этом см., например: Россия и Италия 1972: 421-30 – выступление О.В. Серовой). Деятельность Рутенберга на угольном поприще также была связана с открывавшимися здесь для него новыми возможностями и перспективами.
Однако, как это описано в упомянутой статье Рутенберга, из его инициативы организовать российские угольные поставки для итальянских железных дорог ничего не получилось. По необъяснимым причинам после длительной и муторной волокиты выгодная торговая сделка, которая могла иметь крайне важный характер для международных отношений двух стран, была сорвана российской стороной.
Со своей стороны, – писал Рутенберг, – мне остается повторить только вслед за итальянцами:
– «Странные люди». Поднесено большое, готовое дело, для которого им палец о палец не пришлось ударить; от удовольствия только empressement4 на все выражали. А что натворили! Дела никакого не сделали, а в министерстве вызвали раздражение и отношение к себе как к несерьезным, неделовым людям. Можно интересоваться или нет делом; зачем же самих себя унижать? (Рутенберг 1911:313).
Статья завершалась полукомичным постскриптумом:
P.S. В конце сентября, наконец, H.A.<sic> Авдаков5 по телеграмме поручил какому-то парижскому французу поехать в Рим заключить контракт. Доехал француз до Турина за день до объявления войны6. Известили меня, приглашая явиться в Рим. Но у «уполномоченного» не оказалось… документальных полномочий для заключения контракта!!!.. Француз уехал обратно в Париж за доверенностью. А тем временем войну объявили, и – Босфор заперт.
Таков покуда трагикомический финал предприятия…
Дельцы наши россияне! (там же: 319).
В Италии Рутенберг близко сошелся с членом российской социал-демократической партии Авигдором (Виктором) Евсеевичем Мандельбергом (1870–1944), врачом по профессии.
Окончив в 1893 г. медицинский факультет Киевского университета, Мандельберг поселился в Петербурге, где началось его увлечение революционными идеями. В 1899 г. за антиправительственную пропаганду среди рабочих он был выслан в Восточную Сибирь. Там познакомился со своей будущей женой – сестрой М.А. Новомейского, который годы спустя станет в Палестине директором Поташной компании на Мертвом море. Мандельберг близко знал многих известных революционных деятелей России: П. Кропоткина, Г. Плеханова, В. Ленина, Л. Мартова, Л. Троцкого, встречался с представителями международного социалистического движения: А. Бебелем, Ж. Жоресом, В. Адлером, Э. Бернштейном и др. В 1903 г. принимал участие во II съезде РСДРП, где произошел раскол на большевиков и меньшевиков. В 1907 г. от Иркутска был избран депутатом во 2-ю Государственную думу. После ее роспуска, ввиду неизбежного ареста, эмигрировал за рубеж и таким образом попал в Италию. Поселившись с семьей в Нерви, вблизи Генуи, зарабатывал на жизнь своей прямой специальностью врача: многие русские, страдавшие чахоткой, проводили зимнее время на юге Италии, в мягком средиземноморском климате. Там он познакомился с Шалом Алейхемом, приезжавшим в Нерви в течение нескольких сезонов подлечить легкие7.
Мандельберг, который, оставался правоверным социал-демократом и во всем на свете, включая еврейскую проблему, искал марксистскую подоплеку, отмечал в Рутенберге преобладание именно еврейского начала. 23 ноября 1915 г. он писал Л.Г. Дейчу в США:
Вы напрасно так относитесь к Рутенбергу как к противнику, с которым не стоит воевать <…> мы с ним неоднократно разговаривали и близко сошлись. Его направление, по-моему, отвечает несомненно существующему и сейчас усиливающемуся в нашем социалистическом мире течению, которое я назвал «антисемитическим» наизнанку. Читали ли Вы «Пыль» Соболя? То же самое. Особенно у соц<иалистов>-рев<олюционеров> их много. И с ними бороться нужно8.
После Февральской революции Мандельберг вернулся в Россию. Из Петрограда отправился в Сибирь, принимал активное участие в создании Дальневосточной республики. В 1921 г. поселился в Палестине, где работал врачом, продолжая оставаться верным социал-демократическим идеям. Так, он был одним из главных инициаторов открытия в Тель-Авиве в 1927 г. Клуба социал-демократов. Выходивший в Берлине главный орган эмигрантской социал-демократии «Социалистический вестник» сообщал на своих страницах (1927. № 18 (160). 22 сентября. С. 13):
13 августа в Тель-Авиве открылся «Клуб социал-демократов». Открытие вызвало большой интерес среди рабочих Тель-Авива. Маленькая комнатка, несмотря на сильную духоту и жару, была битком набита рабочими; не поместившиеся теснились на улице, где устраивали дебаты по вопросам, обсуждаемым внутри.
Открыл клуб т. Мандельберг; задачи «клуба» он формулировал так: историческая задача социал-демократии в настоящее время – борьба на два фронта – борьба с организующимся и крепнущим фашизмом и борьба с разлагающим и дезорганизующим рабочее движение большевизмом.
В Палестине задача эта осложняется следующими специфическими особенностями. Во-первых, рабочее движение находится здесь еще под слишком сильным влиянием сионизма; оно не только идеологически, но отчасти организационно связано с ним; во-вторых, большевизм дарит Палестине сугубое внимание. Главный движущий нерв иностранной политики Советской России: ущемить Англию. Считая Палестину одним из важных и легко уязвимых пунктов Английской империи, большевики очень интересуются Палестиной и очень удачно использовывают <sic> все ошибки здешней официальной Рабочей партии. Задача Клуба <с одной стороны> – помогать рабочим освободиться от находящейся в плену у чужой идеологии нынешней политики их рабочей организации; с другой, бороться с демагогией и дезорганизацией, вносимыми сюда большевиками.
В Палестине Мандельберг написал несколько книг, в частности «Neged mishpat mavet» (Против смертной казни) (Tel Aviv: Aretz, 1934). Конкретным поводом для нее послужил местный сюжет: суд над А. Ставским, подозреваемым в убийстве одного из руководителей сионистского рабочего движения в Палестине X. Арлозорова. Фактически же общая концепция книги была шире и содержала автобиографический подтекст: ему, российскому социал-демократу, прошедшему ссылки и тюрьмы, был хорошо знаком предмет, против которого он поднимал голос протеста. Другой книгой, возвращавшей в годы молодости, стали воспоминания «Mi-hayai: prakei zihronot» (Из моей жизни: отрывки воспоминаний) (Tel Aviv: Ahdut, 1942) – расширенная версия его давнего мемуара «Из пережитого», вышедшего в Давосе (Швейцария) в 1910 г. Рассказ о событиях прошлого в давосской книжке достигал 1907 г., времени роспуска И-й Государственной думы. В новой, ивритской, версии описана вся жизнь, полная разнообразных и неожиданных поворотов, прибившая в конце концов российского политического и общественного деятеля к палестинскому берегу. Встречи с Рутенбергом в ней не упомянуты.
Познакомился в Италии Рутенберг и с A.B. Амфитеатровым, который, став в оппозицию к правящему режиму, в июле 1904 г. покинул Россию. За два года до этого он написал свой знаменитый фельетон «Господа Обмановы», в котором в едкой сатирической форме вывел царскую династию Романовых. Опубликовавшая его газета «Россия» была закрыта, а сам автор сослан в Минусинск. Праворадикальный журналист А. Ренников (Селетренников), с нескрываемым раздражением оценивая либеральный демарш Амфитеатрова, писал:
В 1902-ом году, под пьяную руку или в припадке радикального задора, написал он фельетон «Обмановы», в котором карикатурно изобразил Императора и некоторых членов Дома Романовых. Фельетон был слабый по форме, гнусный по содержанию, но автор достиг цели: получился всероссийский скандал. Несмотря на то, что газета «Россия» была закрыта, а номер с «Обмановыми» конфискован, фельетон в списках ходил по рукам, его все читали, о нем все говорили… Акции Амфитеатрова в левом лагере поднялись на необычайную высоту (Ренников <1954>: 167).
Напротив, в правом лагере акции Амфитеатрова сильно упали: антисемиты числили его юдофилом, проклиная и называя «идеологом иудаизма» (Э. Г. 1920: 94). И неспроста: Амфитеатров, публицист и писатель прямой и решительный, действительно поднимал темы, режущие юдофобский слух. «Идеолог иудаизма» – это было сказано, конечно, круто, но выступления против самодержавия, притеснявшего и громившего евреев, действительно имели место, как и курс лекций «Еврейство и социализм» в парижском College Russe cTEtudes Sociales. Основное содержание этого курса было изложено в его брошюре «Происхождение антисемитизма», где писатель, вопреки господствующему мнению, обвинявшему еврейство в буржуазности, связал «гений иудаизма» с социалистическими идеями и писал о «социалистических статьях Второзакония» (Амфитеатров 1906: 39). Касаясь наиболее болезненного для своего времени пункта о мобилизации евреев революционными движениями, что само по себе звучало для Амфитеатрова как высший комплимент, он утверждал:
Евреи не могут не делать революции – активной или пассивной, потому что социальные революции во имя закона справедливости – их характер, их назначение, их история среди народов. В этих бесконечных революциях они потеряли все: национальную территорию, политическую самостоятельность, храм, язык – все вещественное, что связывает собою народы, и все-таки остались народным целым, может быть, непоколебимым и недробимым более, чем все другие народные целые, которые очень заботятся о своих национальных территориях, политической самостоятельности, храме, языке (там же: 39–40).
Почитая еврейский народ, чья целостность опирается не на политические границы а на религиозные и философские идеи, т. е. на некие духовные, интеллектуально-ментальные категории, Амфитеатров на первый план выдвигал стремление евреев к преобразованиям, реформаторскому началу.
Да, еврейство – революционная сила в мире, – отмечал он. – И это не потому только, что евреям худо живется среди народов в своем рассеянии и что они изнемогают в бесправном страдании от подозрительных гонений. Еврейское революционерство далеко не простой и грубый ответ на преследование еврейства. Те, кто угадали в погромах, в чертах оседлости, в разновидностях гетто – с одной стороны, в еврейском революционерстве – с другой, элементы классовой борьбы, глубоко правы. Еврей осужден на революционерство потому, что в громах Синая ему заповедано быть социалистическим ферментом в тесте мира, видоизменяющего типы буржуазного рабства. Евреи никогда не были довольны ни одним правительством, под власть которого отдавала их историческая судьба. И не могут они быть довольны и не будут, потому что идеал совершенной демократии, заложенный в душе их, нигде еще не был осуществлен. А борьба за этот идеал – вся их история. Притом борьба без компромиссов. Еврейский народ – мученик, тысячелетиями отдававший свое тело на растерзание и испытания, покупавший себе возможность дышать и жить самыми мучительными и унизительными условиями физического рабства, но не позволивший зачеркнуть хотя бы йоту в своем идеале. Он знал компромиссы слабеющей плоти, но не знал компромиссов духа, социалист по натуре, социалист до мозга костей, он на целые века вынуждался законом самосохранения завертываться в грубо буржуазные оболочки – настолько густо и ловко, что возникали даже целые учения – не говоря уже о предрассудках! – целые социологические теории о врожденной буржуазности как типическом расовом признаке еврейства (там же: 42-3).
Амфитеатров одним из первых русских писателей обратился к сионистской тематике. В его книге притч, рассказов и очерков «Легенды публициста», изданной в 1905 г., сразу два текста посвящены популярному в еврейской общественной жизни начала XX века «плану Уганды»: «Уганейда (Два слова о сионистах)» и «Меер Львович (О сионизме)». Как известно, «план Уганды» возник в виде альтернативы Палестине: для решения еврейской проблемы англичане предложили Т. Герцлю переселение в эту африканскую страну. В первом из названных очерков герой-рассказчик рисует перед евреем Нахумом угнетающий пейзаж Палестины, куда того неодолимо влечет сионистская мечта:
Ну, конечно, я понимаю вас с точки зрения векового исторического вашего идеала, но надо же считаться и с материальною стороною дела. Палестина – камень и песок, одичалые горы, запущенные степи, тощие реки, безлесье, отвратительное побережье, солончаки, малярия, бедуины, саранча… Палестина не в состоянии прокормить евреев, если сионистское движение примет широкие размеры. Вы задохнетесь в этой банке с песком хуже, чем даже в вашей злочастной черте оседлости, не говоря уже о том, что в Палестину вас покуда не пускают, да если и пустят, то ни турки, ни европейский контроль не оставят вам той самостоятельности, какую под протекторатом просвещенных мореплаваталей9 вы можете приобрести и развить в Уганде. Не забудьте, что эмиграция свободного еврейства из Палестины началась задолго до Веспасиана!.. Палеcтина не решает экономических вопросов еврейского рассеяния. А Уганда – рай! (Амфитеатров 1905:14).
В ответ на эти вроде бы не лишенные трезвого взгляда на вещи аргументы Нахум приводит притчу, смысл которой сводится к тому, что рай – это не место покоя и удовлетворения телесных желаний, а форма исполнения веры, и с этой точки зрения Уганда раем быть никак не может.
Что мне Уганейда, – говорит он рассказчику, – когда я ищу Сион? Разве Африка – Ханаан? Разве Уганейда – Иерусалим? Если один такой Герцль имеет силу собрать Израиль в Сион, я его человек. Если у Герцля нет силы для Сиона, я скажу ему: «Господин доктор Герцль! Сделайте мне, прошу вас, милость, оставляйте старого Нахума в покое починять часы в Вологде!., (там же: 19).
Свой мятежный характер и антиромановские настроения Амфитеатров продолжал проявлять и в Италии – так, в частности, одну из демонстраций в Риме, организованную левыми партиями в качестве протеста против российской политики (1905 г.), он поддержал, обратившись к демонстрантам с такими словами:
Благодарю римский народ от имени либеральной партии за эту красноречивую демонстрацию и симпатии к нам… (цит. по: Мизиано 1972:120).
Амфитеатров прожил в Италии до 1916 г., после чего вернулся в Россию, но после прихода к власти большевиков, летом 1921 г., вновь совершил эмиграцию и весной поселился в Италии уже навсегда. Оба этих итальянских периода в биографии писателя изучены достаточно полно (см.: Гарэтто и др. 1993: 73-158; Гарэтто 1997: 339–621; Гарэтто 2006: 344-53), однако имеющиеся сведения о его знакомстве с Рутенбергом крайне скудны. Между тем доподлинно известно, что они были хорошо знакомы и поддерживали добрые отношения. См., к примеру, письмо Амфитеатрова Горькому из Кави ди Лаванья (сентябрь 1909 г.), в котором он сообщал:
Провел у меня два дня Рутенберг. Очень хорош и прочен. От мании преследования освободился, подозрительность и неврастению избыл, производит впечатление сильное и рабочее. Всем нашим замечательно понравился (Горький и русская журналистика 1988:162-63).
О том же речь идет и в другом его письме тому же адресату (7 сентября 1911 г.):
Был на днях, проездом к месту служения, Рутенберг, очень веселый, оживленный (там же: 336).
Именно к Амфитеатрову отсылает Горький Е.П. Пешкову, вероятно обратившуюся к нему с просьбой разузнать адрес Рутенберга (письмо от 25 августа (7 сентября) 1912 г.) (Горький 1997-(2007), X: 105).
О том, что Амфитеатрову принадлежит своего рода посредническая роль в знакомстве Рутенберга с Жаботинским, мы еще скажем. Годы спустя, 17 августа 1932 г., писатель обращался к редактору рижской газеты «Сегодня» М.С. Мильруду с просьбой раздобыть адреса Жаботинского и Рутенберга (Абызов, Равдин, Флейшман 1997, II: 320), а до этого упоминал обоих в книге «Стена Плача и Стена Нерушимая» (первое изд.: Белград, 1930)10, где писал о том, что являлся
свидетелем, почти что очевидцем, как В.Е. Жаботинский и П.М. Рутенберг вели с поразительной энергией пропаганду организации 40-тысячного еврейского легиона и заставили еврейский капитал осуществить ее, несмотря на то, что они сами, – не знаю, богаты ли теперь, – но тогда были бедны, как две синагогальные крысы (Амфитеатров 1931: 43).
После Италии Рутенберг и Амфитеатров встретились в революционном Петрограде. Об их близких отношениях свидетельствует, например, такая фраза из дневника В. Амфитеатро-ва-Кадашева, сына A.B. Амфитеатрова, относящаяся к 26 октября 1917 г., т. е. ко времени, когда большевики захватили Зимний дворец, одним из защитников которого был Рутенберг:
О падении Зимнего я узнал лишь сегодня утром. Вчера вечером мы с ночевавшим у нас папой отправились в «Вольность»11, сидели там до выпуска. За это время шел непрерывный телефонный звон: звонил Рутенберг, что не может выбраться из дворца и приехать к нам ночевать, как условились утром… (Амфитеатров-Кадашев 1996: 493).
Следует думать, что в годы послереволюционной эмиграции Рутенберг и Амфитеатров не встречались и не переписывались – по крайней мере, никаких следов ни того, ни другого не сохранилось. В 1924 г. Амфитеатров вспомнил Рутенберга в связи с рассказом Л. Андреева «Тьма» (статья «Русские материалисты»):
«Тьма» возникла из приключения П.М. Рутенберга, сыгравшего некогда столь важную роль в развязке трагикомедии Гапона, а ныне благополучно орошающего Палестину иорданскими водами. Даже наружность «революционера» в «Тьме» написана с тогдашнего Рутенберга. Но кто знает сколько-нибудь последнего, что же общего может он изыскать между Рутенбергом и героем «Тьмы»? В «Тьме» Рутенберг – Андреев, если бы Андрееву случилось быть террористом и укрываться от сыщиков в публичном доме (Амфитеатров 1924: 3).
В Италии Рутенберг познакомился с писателем Андреем Соболем, который после бегства с Зерентуйской каторги в 1908 г. жил в эмиграции, и в частности в Италии. Об этом знакомстве мы судим по более поздней обрывочной записи в дневнике Рутенберга, принадлежавшей, судя по всему, не сохранившейся более пространной записи («Тогда в Италии встретил Андрея Соболя. Позже роман "Пыль”12. Все его мысли были тогда о России»). Сам А. Соболь о встрече с Рутенбергом, насколько нам известно, нигде не упоминал – скорей всего, она ему не запомнилась или не показалась важной или интересной. Зато запомнилась встреча в Сан-Ремо с другим революционером (Соболь примыкал к эсеровской партии) – Савинковым, о котором он писал как о «человеке поразительной яркости».
Я видел его в Италии в Сан-Ремо, в конце 1913 года, – рассказывал Соболь в очерке «Савинков», – когда в петроградском журнале «Заветы» печатался его роман «То, чего не было», когда в редакцию летели письма возмущения, тогда в Париже собирались подписи для коллективного протеста. Среди протестующих были и близкие его друзья, соратники и люди, которых он любил и ценил.
В тот день коллективный этот протест читался вслух. И, помню – на вопрос одного из присутствующих «Что же будет?» – он усмехнулся и ответил:
– Роман будет закончен.
И печатание романа продолжалось (Соболь 1919:1).
Роман Соболя «Пыль», также понаделавший много шуму среди читателей, в котором критика в один голос отметила прямое ропшинское (савинковское) влияние (см.: Михайлов 1915: 21;
Ильинский 1915: 40-3; Полонский 1915: 390-92; Колтоновская 1916: 39–41, и др.)13> в отличие от «Коня бледного» и «Того, чего не было», тематически был сдвинут в сторону антисемитизма, которым оказалась заражена революционная среда, т. е. те, кто решительно взялся излечить людей от всех мировых болезней. «Пыль» задумывалась и писалась именно в то время, когда Соболь встречался с Рутенбергом (1913 г.), и рутенберговская фраза о том, что «все его <Соболя> мысли были тогда о России», возможно, как раз и свидетельствует о каком-то разговоре вокруг этого романа.
Свои отношения Соболь и Рутенберг продолжили и развили в Москве весной-летом 1918 г., где последний оказался после освобождения из «Крестов». В RA сохранилось письмо Соболя Рутенбергу, написанное 20 февраля 1925 г. из Сорренто, где писатель лечился после покушения на самоубийство14. Встречавшийся с ним там Ходасевич писал после его смерти:
Соболя я знал лет десять, но не коротко. Ближе я с ним познакомился лишь в начале 1925 года, когда внезапно приехал в Сорренто и поселился в пансионе «Минерва», всего лишь через дорогу от меня. Иногда мы переговаривались со своих балконов. Из Сорренто Соболь уехал прямо в Москву. Из эмигрантов я, вероятно, был последним, видевшим Соболя.
Могу засвидетельствовать, что большевики в его гибели решительно не повинны. Соболь явился в Сорренто в начале февраля. Месяца, кажется, за два до этого он покушался на самоубийство: отравился морфием. В то же время перенес воспаление легких – и приехал в Италию ради отдыха и поправки. О причинах самоубийства рассказывал он подробно, многократно и правдиво: они были вполне «личного свойства». Ни тени политики или общественности в них не было.
Далее Ходасевич приводит текст соболевской записки, датированной 19 февраля 1925 г. и обращенной к нему и «еще к двум лицам»:
Как будто переписка из двух углов. Если не собираетесь спать – приходите сейчас ко мне в гости: мне очень тоскливо сейчас, я побеседую с вами, угощу вас всех вином. Анд. Соболь. 2 ч. 15 мин. дня (Ходасевич 1926: 3).
Через 10 лет Ходасевич вновь вспомнил о Соболе в связи с годовщиной его смерти. В рубрике «Литературная летопись», которую он вел вместе с Берберовой под общим псевдонимом Гулливер, о Соболе говорилось примерно теми же словами, что и в публикации десятилетней давности – скромное дарование, искренний, но творчески вторичный писатель, запутавшийся, несчастный человек:
Литературное наследие, им оставленное, не представляет интереса. Но в жизни он был очень милым, немного сентиментальным, немного безалаберным, но добрым человеком и хорошим товарищем.
Ходасевич вновь вспоминает встречу с ним в феврале 1925 г. в Сорренто:
В начале февраля 1925 г. он приехал в Сорренто. Был худ, сер лицом, говорил еле слышным голосом. Политические и литературные дела его еще занимали, но от этих разговоров он неизменно переходил к личным своим делам, и о них мог говорить часами, с подробностями, от которых слушателей порою коробило. Кончались эти разговоры неизменно одним и тем же: Соболь объявлял, что кроме самоубийства выхода у него нет (Гулливер 1936: 7).
В этой заметке Ходасевич сообщает новые подробности о тогдашнем состоянии Соболя:
Он пытался работать, но дело не шло дальше нескольких строк. Иногда он ездил на велосипеде по окрестностям, но большую часть времени спал и пил красное вино. От этого состояния его внутренние страдания усиливались. Своего творческого бессилия он боялся и стыдился. Он писал московским друзьям, что работает над романом, что даже закончил уже первую его часть. Потом вдруг написал, что в его отсутствие ветер ворвался в его комнату и унес в окно все исписанные страницы, из которых не уцелело ни одной (там же).
В состоянии привычного душевного кризиса Соболь обратился к Рутенбергу. Причем письмо ему он отправил 20 февраля, т. е. на следующий день после описанной Ходасевичем нахлынувшей на него волны тоски и отчаяния. Едва ли Соболь всерьез рассматривал обсуждаемую в письме возможность перебраться и устроиться в Палестине – слишком сильна была в нем привязанность к России, слишком туманна перспектива того, чем бы он стал там заниматься, и слишком непостоянны одолевавшие и короткое время спустя покидавшие его чувства. Так что обращение к Рутенбергу было продиктовано скорей всего одним из временных соболевских настроений, которые выражали постоянный внутренний разлад писателя с настоящим и были криком-призывом о помощи. Вместе с тем письмо Соболя к Рутенбергу представляет известный интерес и как живое отражение этих метаний, и как сам по себе любопытный факт его биографии, которая до сегодняшнего дня еще не написана, и в особенности как документ, свидетельствующий о том, что Палестина в XX в. представала для русского еврейства не только местом, куда были устремлены взоры сионистов, но и как некая духовно-спасительная утопия, какую рисовало себе совсем несионистское воображение. Письмо приводится по оригиналу, хранящемуся в RA:
Sorrento, 20-го февр<аля> <1925>
Милый, дорогой Петр Моисеевич, неоднократно я старался из Москвы связаться с Вами, найти Вас, писал по различным, часто случайным адресам – так и не нашел Вас.
И вот я заграницей. И опять делаю попытку найти Вас. Вы мне очень нужны, мне нужна Ваша помощь. Если Вы только не успели уже обо мне забыть.
Как я здесь и почему я здесь?
Милый Петр Моисеевич, мне было очень худо и тяжко. Особенно последний год. Причин было много, и мне трудно об этом сейчас говорить. Скажу только пока вкратце и сухо.
Ну, вот – мне было тяжко – нравственно, душевно. В ноябре месяце я травился. Как видите, неудачно. Уцелел, к сожалению. Пришел я на третий день в себя и понял, что я жив и что опять надо тянуть канитель. И уже в больнице я свалился с крупозным воспалением легких. Прохворал 2 месяца. Встал – и понял, что нужно переменить климат на время, чтоб окончательно не обалдеть.
Напряг все усилия – и вот очутился здесь: согреться, прийти в себя.
И, придя в себя, подумать о том, как быть дальше, как жить дальше.
Я пришел в себя. Мне все еще худо и невкусно: тяжело умирать, но еще тяжелее недоумереть.
Ну, ладно. А теперь о деле. Что мне нужно от Вас? – многое, милый Петр Моисеевич.
Рвать с Россией я не могу и не хочу, это свыше сил моих, да и как писатель я без России буду мертв.
Но на года два я должен отойти и от России, и от своих личных всяких дел. Мне нужна, хотя бы на время, но другая жизнь.
Я хочу, чтоб Вы помогли мне перебраться к Вам. Я приму любую работу в любом, хотя бы безлюдном месте. Я готов делать все, что угодно: землю рыть, дрова рубить, глину месить. Я очень вынослив. Я не силен физически, но чрезвычайно вынослив и работы не боюсь.
Но я почти без гроша денег. Чтоб приехать сюда – я напряг все усилия, здесь со своими крохами я долго продержаться не смогу при всей экономии, так что в этом смысле у меня дела дрянь.
Тем более нет у меня связей на предмет получения разрешения на въезд в Палестину.
И вот тут – и в первом и во втором случае – мне нужна Ваша помощь. Когда-то Вы относились ко мне чудесно. Не знаю, помните ли Вы еще меня. Может, забыли?
Хотя нет, – этого не может быть.
Так вот, милый Петр Моисеевич, для чего я хочу найти Вас и в чем мне нужна Ваша помощь.
Я буду ждать Вашего ответа. Так или иначе, но отзовитесь, помните, что я жду Вашего ответа с большим нетерпением, примите во внимание, что я еле держусь материально, потому ответа своего в долгий ящик не откладывайте. Даже если Вам что-либо в этих смыслах сделать трудно – все равно отзовитесь, хотя бы для того, чтоб я мог услышать Вас и знать, что не пропало мое письмо впустую.
И еще одно – милый Петр Моисеевич – это письмо, каков бы ни был Ваш ответ, должно остаться только между нами.
Всего, всего лучшего. И – не забывайте меня.
Ваш
Андрей Соболь
Адр.: Sorrento
Pension Minerva
Andrea Sobol15
Реакция Рутенберга на это послание нам не известна. Представляется, что ответ в любом случае должен был быть отрицательным или его не было вовсе: Рутенберг вряд ли мог помочь Соболю, даже если бы очень захотел. Во-первых, потому что Палестина менее всего была приспособлена в то время служить прибежищем для тех, кто искал отдохновения и смены обстановки, а во-вторых, зная немного Соболя, он понимал, да, собственно, писатель и не скрывал этого, что, если надумает ехать, задержится там ненадолго16.
Даже из этого короткого обзора встреч, знакомств и отношений Рутенберга с деятелями русской культуры и общественной жизни видно, что к одному пересматриванию «в тиши» своего отношения к еврейству и еврейскому вопросу его итальянская жизнь не сводилась. О том, чем она оказалась конкретно заполнена, – об этом в следующих главах.
1. В 1905 г. демократическая итальянская общественность с напряжением следила за происходящими в России событиями. Итальянский поэт Джованни Пасколи (1855–1912) одну из своих поэм посвятил трагедии 9 января (Tamborra 2002:135).
2. Рутенберг поселился в Италии в январе 1907 и прожил здесь до мая 1915 г.
3. В некрологе В. Жаботинского, опубликованном в «Новом русском слове» (1940. 27 октября), М. Осоргин вспоминал:
Мы познакомились <Осоргин и Жаботинский> в Риме. Думается – в самом начале войны, в 1914 году. Боюсь ошибиться, назвав цель посещения им Рима совместно с Рутенбергом, моим старым знакомым и революционным соратником. Во всяком случае это путешествие было «дипломатическим», и мне довелось познакомить их обоих с тогдашним болгарским послом в Италии Ризовым. О чем они беседовали с Ризовым – дело не мое, но помню, что, вернувшись, на мой вопрос Жаботинский ответил со своим обычным юмором, как отвечают министры любознательным журналистам:
– О, беседа прошла в самых дружеских тонах и с прекрасным результатом. Мы обещали Болгарии Салоники, Ризов обещал нам Палестину (Осоргин 1992: 79).
Осоргин здесь неточен: в начале войны Жаботинский не мог быть вместе с Рутенбергом в Риме – они познакомились только в апреле 1915 г. (см. об этом в 4-й гл. данной части). Но если автор мемуаров ошибается только в сроках, а во всем остальном память его не подводит, то к числу знакомых, которых Рутенберг приобрел в Италии, следует прибавать еще болгарского посла в Италии Д. Ризова.
4. усердие, рвение, поспешность, готовность сделать что-либо’ (Фр.).
5. Николай Степанович Авдаков (1847–1915), горный инженер. Директор Рутченковского горнопромышленного общества, председатель правления Общества Брянских каменноугольных копей, директор правления Макеевского железоделательного завода. Действительный статский советник. Председатель совета синдиката «Продуголь», в течение пяти лет (1900–1905 гг.) возглавлял Совет съездов горнопромышленников Юга России, с 1907 г. председатель Совета съездов представителей промышленности и торговли.
6. Имеется в виду итало-турецкая война 1911–1912 гг., объявленная 29 сентября.
7. О Шалом Алейхеме в Нерви см., например, в воспоминаниях: Чаговец 1984/1939: 214-39.
8. Дом Г.В. Плеханова (С.-Петербург). Фонд Л. Дейча. Ф. 1097. On. 1. № 403. Л. 1.
9. Т. е. англичан. Выражение восходит к реплике Расплюева, одного из персонажей пьесы A.B. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1854):
Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели…
10. Основной пафос этой книги – в сравнении того, с каким трепетным чувством относятся евреи к своей главной святыне – Стене Плача и какими варварами являются российские большевики, разрушившие в Москве один из символов национальной истории и культуры – Иверскую часовню. До Амфитеатрова эту параллель – Стены Плача и Кремлевской стены – развивал в рассказе «Стена плача» В. Ютанов. Его главный герой Борис Петрович также сравнивает иерусалимскую Стену с Кремлем, разрушенным в годы революции:
Осенней непогодью, когда холодно и сыро в каморке стало, растапливал он печурку обрывками бумаг и книг с чердака дома церковного и обрел картинку из «Нивы» – останки стены Иерусалима древнего – «стеной плача» называемой… Евреи около нее в талесах и с молитвенниками. Знал Борис Петрович картинку эту и всегда злорадствовал: – Поделом! Так и надо! – А тут задумался. Тоже был город, святой город, и исчез. Исчез по грехам. Так вот и теперь. Погиб Кремль, нет больше его в мире, благоденствии и чистоте, и не будет. А если и вновь явится он и загудит Иван Великий, то уже не для него, Бориса Петровича, ничего общего с новым Кремлем не имеющего (Ютанов 1923: 93).
В эмигрантской критике на книгу Амфитеатрова откликов почти не было. Объясняя молчание рецензентов, Гиппиус 29 июля 1932 г. писала ему:
Теперь два слова из другой оперы, а именно, Вашей. О Вашей книге «Стена плача». Когда начинается дело о книге, то меня уже от правды (моего мнения, только!) не удержать, я его обязана – кратко ли, длинно ли – но с точностью высказать, ни с чем не считаясь. Оттого и не пишу теперь нигде о книгах, ибо никто этих точных моих мнений не любит: нельзя, мол, в эмиграции, на одной, мол, соломе лежим. Впрочем, ругать и «советские ростки» нельзя – не патриотично. Вашу книгу ни одна газета не позволила бы серьезно хвалить (за то, что похвалы в ней достойно), но и бранить тоже не позволила бы, хотя по разным причинам. Вот объясняйте это, как знаете, но – факт. Я его понимаю (Гиппиус 1992: 299–300).
Из немногих отзывов на амфитеатровскую «Стену» следует назвать рецензии A.A. Кондратьева в вильнюсской «Нашей жизни» и на 2-е издание – в «Волынском слове» (1930.18 сентября).
11. Амфитеатров в это время редактировал газету Совета союза казачьих войск «Вольность».
12. См. упоминание об этом романе в приведенном выше фрагменте из письма В.Е. Мандельберга Л.Г. Дейчу. Роман печатался в журнале «Русская мысль» (1915. №№ 1–4), когда Рутенберг находился еще в Италии, и не исключено, что обсуждал его с Мандельбергом.
13. Настроенный по отношению к «Пыли» в особенности критически,
А. Лаврецкий (И.И. Френкель), как кажется, подозревавший автора в некоторых психологических патологиях (и отчасти не совсем напрасно), именно к ним сводил основной пафос романа:
Собственно говоря, никакого романа нет; романическая ситуация слишком уж слабо и бледно намечена. Есть лишь исповедь о своем душевном надрыве (Лаврецкий 1916: 39).
14. См., напр., в письме жившего в это время в Сорренто М.Горького Д.А. Лутохину от 23 февраля 1925 г.:
Приехал Андрей Соболь, рассказывает о литературе (Горький и советские писатели 1963:126).
15. Впервые опубликовано: Хазан 2006а.
16. Это было не первое письмо Соболя в Палестину: 10 марта 1922 г. он писал туда же своему старому и доброму знакомому Л. Яффе (см.: Хазан 2005: 105-08).
Глава 2
«Я обвиняю», или история несожженной рукописи
Те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляя из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя людей неправдивых, притворяющихся и, вместе с тем, самоуверенных и гордых.
Л. Толстой. Воскресение
Никогда слово революция не заключало в себе конкретного содержания. Это был простой крик: так жить нельзя. Теперь оно стало ассоциироваться со слишком частными, слишком близкими явлениями. И стихия революции показалась нам – многим из нас – не той, какой хотелось нам ее видеть.
Александр Мейер. О смысле революции1
Общая хронология борьбы взбунтовавшегося против эсеровского ЦК Рутенберга описана им самим в ДГ. Однако целый ряд «промежуточных» звеньев в записках отсутствует: некоторые документы опубликованы частично, некоторые и вовсе не приведены. Кроме того, в намерения Рутенберга не входило устанавливать некий более широкий контекст этой истории. Между тем лакуны, о которых идет речь, в известной степени лишают ее определенной панорамности и полноты, в особенности для современного читателя. Когда-то Е.Е. Колосов, брошюра которого в поддержку Рутенберга уже упоминалась, сетовал на то, что в ДГ
не все партийные документы, которые он <Рутенберг> цитирует у себя в воспоминаниях, приводит полностью, а ограничивается иногда только простым пересказом их, что очень жаль: раз эти документы в его руках, то было бы необходимо в таком, как у него, документальном рассказе привести их без всяких сокращений. Теперь же этими сокращениями он затрудняет проверку своего рассказа (Колосов 1911: 23).
Мы попытались восполнить указанный Колосовым недостаток и «залатать» известными нам документами существующие у Рутенберга прорехи, дабы свести к минимуму ощущение, если оно возникает, субъективности изложения и смещения акцентов в сторону «заинтересованного лица». Безусловно, представляя такую – «расцензурированную» – версию конфликта Рутенберга с эсеровским ЦК, которая в некоторой своей части основывается на неизвестных документах из RA, нет возможности избежать повторов уже известного документального массива.
В конце январе 1907 г. Рутенберг поселяется на Капри у Горького2. В целях конспирации, дабы избежать преследования зарубежной агентуры длиннорукого российского охранного отделения, его выдавали за Василия Федоровича, брата гражданской жены Горького М.Ф. Андреевой3. При этом ее «братом» он стал еще в свой докаприйский период, перейдя на нелегальное положение после убийства Гапона, ср. в письме Л.Б. Красина («Никитича») Горькому и Андреевой (май 1906 г.), в котором тот пишет, что не знает, где находится «брат» (Андреева 1961:108).
4 февраля 1907 г. Андреева писала И.П. Ладыжникову:
Поселился у нас на Капри двоюродный брат мой Василий Петрович. Вы его помните? Как человека я его люблю, и сейчас он в таком тяжелом душевном состоянии, что приласкать его необходимо, но не скажу я, чтобы радовало меня его присутствие (там же: 119-20).
Одна из самых красивых актрис русской сцены, Мария Федоровна Андреева (урожд. Федорова-Юрковская; по первому мужу Желябужская; 1868–1953), женщина столь же яркая, сколь и чувственно-плотоядная, вызывает к себе сегодня неоднозначное отношение. Любовница миллионера Саввы Морозова, от которого МХАТ и русские социал-демократы получали с ее помощью значительные денежные средства4, большевика Леонида Красина, гражданская жена Горького, Андреева, безусловно, занимает в истории революции и финансовых тайн российской социал-демократии видное место. Она родилась в семье профессиональных актеров, отец – главный режиссер Императорского Александрийского театра, мать, Мария Павловна Юрковская (по сцене Лелева, 1843–1919), – актриса этого же театра. Андреева была примадонной МХАТа, в создании которого она принимала участие наряду со К.С. Станиславским и В.И. Немировичем– Данченко (покинула театр в 1904 г. из-за соперничества с O.A. Книппер-Чеховой, которой Станиславский отдавал безусловное предпочтение). После большевистского переворота бывшая звезда русской сцены и одновременно член РСДРП(б), куда она вступила по рекомендации Ленина, называвшего ее «товарищ феномен», становится комиссаром по театрам и зрелищам Союза трудовых коммун Северной области. В. Ходасевич в «Белом коридоре» (1937) писал, что Андреева претендовала на то, чтобы заведовать театрами во всероссийском масштабе, но ей предпочли О.Д. Каменеву, сестру Троцкого и жену председателя Моссовета Л.Б. Каменева (Ходасевич 1954: 369). В 1921 г. Мария Федоровна была командирована в Берлин официальным представителем в советское торгпредство для сбора средств в Европе и Америке в помощь голодающим России (о назначении ее на эту должность и об отношении к этому назначению высших советских чиновников, включая будущего премьера А.И. Рыкова, см.: Соломон 1995: 207-10). В Берлин она выехала вместе с П.П. Крючковым (1889–1938), литературным секретарем и поверенным Горького, который до этого был секретарем самой Андреевой, и именно она привела его осенью 1918 г. на Кронверкский проспект. Крючков работал в Берлине в издательстве «Книга» (с 1924 г. – акционерное общество «Международная книга»), занимаясь изданием горьковского Собрания сочинений. Позднее был переведен в Госиздат. После смерти Горького – директор его Дома-музея. В 1937 г. арестован за связь с «антисоветским объединенным троцкистско-зиновьевским блоком» и расстрелян. Андреева же после Берлина в течение семнадцати лет, с 1931 до 1948 г., занимала скромную должность директора московского Дома ученых.
Рутенберг близко сошелся с Андреевой в 1907 г., когда, как было сказано, в качестве ее брата скрывался у Горького на Капри. У нас нет достоверных данных о том, в каких отношениях были в ту пору «брат» и «сестра». Остается только гадать о том, распространялось ли на Рутенберга широко известное желание Марии Федоровны пленять встречавшихся на ее пути мужчин, как и вообще нравиться и обвораживать окружающих, ср., например, в воспоминаниях наблюдавшей ее на Капри Т. Варшер:
На площади городка Капри компанию Горьких окружают каприйские крестьянки. Мария Федоровна восхитительна. Она пожимает заскорузлые руки, для всех у нее припасено ласковое слово, для всех обворожительная улыбка… Чувствуется, – она убеждена, что улыбка ее скрашивает жизнь этих людей (Варшер 1923: 45).
Однако по тону ее писем к нему, которые относятся уже к другой эпохе – ко второй половине 20-х гг., т. е. к берлинскому периоду жизни Андреевой (ниже мы их коснемся), можно предположить, что это была очень близкая дружба и, возможно, даже нечто большее, чем дружба…
На Капри Рутенберг начал писать воспоминания о «деле Гапона». В одном из примечаний он отмечал:
Относительно публикования рукописи просил Г<орьжого взять на себя сношения с издателем, а вырученные деньги, за покрытием расходов, прислать ЦК. Рукопись не была тогда опубликована, так как издатель потребовал от меня дополнить ее. А меня брал ужас не только писать, но даже думать об этом деле. На этой почве у меня вышло недоразумение с Г<орьки>м, который, очевидно, не совсем ясно представлял себе мое тогдашнее душевное состояние (ДГ: 103).
Издателем, о котором пишет Рутенберг, должен был стать И.П. Ладыжников, владелец берлинского «Bhnen und Buchverlag russischen Autoren J. Ladyschnikow», специализировавшегося на выпуске марксистской литературы, а также сочинений Горького и писателей его круга (группа «Знание»). Многие годы связанный с Ладыжниковым деловыми и дружескими узами, Горький, рассчитывая опубликовать воспоминания Рутенберга, предполагал дополнить общественный скандал, разразившийся в связи с разоблачением Азефа, новыми фактами. В письме Ладыжникову от 25 января/7 февраля 1909 г. он об этом пишет прямо, употребляя само слово «скандалище»:
Дело Азева должно разгореться в большой скандалище. На днях в него вступит известное Вам лицо, связанное с делом Гапона (Горький 1997-(2007), VII: 83).
Принимая в подготовке этого «скандалища» нетерпеливое участие, Горький еще за два без малого года до этого, 15 (28) марта 1907 г., предупреждал Ладыжникова:
На днях я вышлю Вам рукопись Рутенберга «Предательство и смерть попа Гапона». Пока держите это в секрете – история большая и громкая (там же, VI: 36)5.
Речь, по-видимому, шла о посреднических услугах в организации публикации рутенберговской рукописи в каком-либо солидном иностранном периодическом издании, типа лондонской «Times» или парижской «Matin». «Пристраиванием» рукописи непосредственно занимался помощник Аадыжникова Р.П. Аврамов6, который 31 мая 1907 г. писал Рутенбергу (RA):
Многоуважаемый Василий Федорович!
Вот в кратких чертах результат моей поездки в Лондон и Париж по делу известной Вам рукописи.
1. В том виде, в котором Вы передали нам рукопись, ее в Англии и Франции печатать нельзя. Заграничная публика, по словам всех лиц, с которыми мне пришлось говорить, уже успела о главном герое драмы забыть; необходимо восстановить в ее памяти его историю до 9-го января <19>05-го года и после этой даты. Это легко сделать в кратком предисловии или введении к книжке. Необходимо также в целом ряде примечаний автора выяснить, кто те лица, о оторых идет речь в рукописи. Чем больше биографических сообщений будет дано на этот счет, тем лучше. Вообще требования и англичан, и французов сводятся к тому, что заграничный читатель должен так же легко понимать изложение, как это будет делать русский читатель. Но, с другой стороны, они настаивают на том, что обязательно нужно сохранить за рукописью характер отчетов, документов. Они предлагают заключить все разъяснения, примечания и пр. автора в скобки [] и внести их прямо в текст.






