Набоков в Америке. По дороге к «Лолите» Роупер Роберт
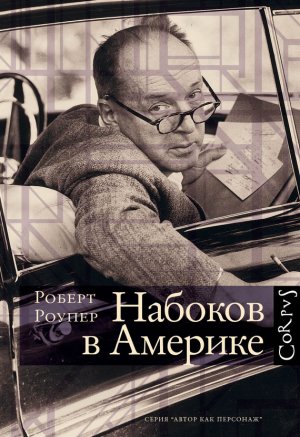
Набоков нуждался в деньгах. “…Финансы мои истощились”49, – пишет он Уилсону, узнав, что во второй раз фонд Гуггенхайма грант ему уже не даст. Планы снова съездить на Запад50 пришлось отложить сперва на год, потом на два, потом на три. Дмитрию “совершенно негде играть, да и не с кем – по соседству живут одни несносные сорванцы”51. Летом семейство совершало короткие вылазки на природу – на озеро Ньюфаунд в Нью-Гэмпшире, которое сейчас считается самым чистым озером в штате52, тогда же показалось Набокову “грязным”53. Впоследствии Набоковы рассказывали об антисемитизме54, с которым им довелось столкнуться в Нью-Гэмпшире, – и это после войны и репортажей из лагерей смерти. Встретив в меню некоего заведения строчку “Евреев не обслуживаем”, Набоков поинтересовался у официантки, отказались бы они обслужить мужчину, женщину и ребенка, которые приехали бы к ним на осле. Официантка не нашлась, что ответить. Набоковы покинули ресторан.
В других версиях этой истории55 – которые напоминают роман и фильм “Джентльменское соглашение” (вышли в 1947 году) – трое из Назарета приезжают “на старом форде”. В одной из версий с ними нет Веры, зато Дмитрий захватил с собой друга, и мальчишек поражает прямолинейность Набокова. Он тогда страдал от острого нервного истощения и в Нью-Гэмпшир отправился по рекомендации врача: измотанный работой над “Под знаком незаконнорожденных” и статьей по лепидоптерологии, Набоков обратился в клинику56 с жалобой на проблемы с сердцем, язву, рак пищевода и камни в почках. Доктор счел, что пациент здоров, но порекомендовал взять отпуск. В письмах Уилсону, датированных началом 1946 года, Набоков называет себя “импотентом”, причем, как ни странно, в отзыве о “Мемуарах округа Геката” (Memoirs of Hecate County) Уилсона, недавно опубликованном сборнике рассказов, который читатели активно раскупали – в основном из-за откровенных фрагментов о сексе:
Там много прекрасных мест… Ты придумал партнершам [своего персонажа] такие замечательные оправдания, что читатели (или как минимум один из них, поскольку в твоем маленьком гареме я оказался бы совершеннейшим импотентом) не получают от совокупления героев никакого удовольствия. С тем же успехом я мог бы попытаться открыть пенисом банку сардин57.
Набоков скучал по Западу, и плохое самочувствие его, возможно, было вызвано тем, что, бросив курить, он поправился на тридцать килограммов. Начиная с 1947 года все последующие 15 лет практически каждый год он ездил на Запад, в основном в горы, и долгие пешие прогулки помогали ему оставаться в форме. Озеро Ньюфаунд показалось ему унылым и грязным, а в домике, где они остановились, воняло жареными моллюсками: запах долетал из расположенного неподалеку отеля сети Howard Johnson’s58.
И случилось чудо. В конце 1940-х годов эмигрант, которому наконец удалось полностью подчинить себе мудрый, точный, пластичный английский язык, сделал следующий шаг: он описал Америку, как видел. Как впоследствии Набоков рассказывал в интервью журналу Playboy, “мне пришлось придумать Америку… У меня ушло что-то около сорока лет, чтобы придумать Россию и Западную Европу, и вот теперь я столкнулся с такой же задачей, только времени у меня было меньше”59. Америка, какой ее изобразил Набоков, полна причудливых особенностей – затейливых и звучных названий городков в “Лолите”, вроде “Рамздэля”, “Эльфинстона”, “Бердслея”, – но с точки зрения метапрозы, ощущения поворота, с помощью которого автор дает понять: текст выдуман, – в них нет ничего странного. (Гумберт, рассказчик, но не автор, признает, что кое в чем он приукрасил, но в целом уверяет, что так все и было.) Для эрудированного читателя, которому нравится исследовать глубины текста, “Лолита”, как и два последующих американских романа Набокова, “Пнин” (1957) и “Бледное пламя”, представляет идеальное поле для деятельности: повествование словно бы соткано из множества литературных источников, однако Набоков старательно поддерживает иллюзию “реальности” для тех, кто ищет в его произведениях всего-навсего увлекательный сюжет.
Интересоваться Америкой он начал задолго до приезда[39]. По настоянию Уилсона он читал книги тех писателей, которые ранее ускользнули от его внимания, – например, Генри Джеймса (Набоков назвал его “бледной морской свиньей”60 и считал, что миф о Джеймсе давно пора развенчать). Он был знаком с творчеством По, Эмерсона, Готорна, Мелвилла, Фроста, Элиота, Паунда, Фицджеральда, Фолкнера, Хемингуэя и многих других61, несмотря на то что преподавал преимущественно русский язык и литературу. Сохранились и другие, нелитературные доказательства интереса писателя к Америке. В стихотворении, которое он написал, побывав в гостях у Уилсона, Набоков демонстрирует тонкое понимание американского сюрреализма:
- “Сохранит охлажденным”, – нам щит говорит, ого-го! —
- Горы
- Ветчины, сочных фруктов, эскимо и пломбира,
- Молока три бутылки, в тусклом свете эфира
- Белоснежного бога
- В уютных чертогах
- Пар блаженных, чьи взоры, как звезды, горят62.
Его творческий путь – до “Лолиты” – выглядел многообещающе и без особого увлечения американской тематикой. Уилсон помог ему заключить договор с New Yorker, согласно которому Набоков получал ежегодный аванс в обмен на то, что первыми все его новые произведения будут читать редакторы журнала, а произведения эти были в основном посвящены России и всему русскому. Так что он вполне успешно мог бы играть на ностальгии по “старому режиму”: впрочем, творчество Набокова и так в некоторой степени возрождает для читателя и заботливо переосмысливает произведения Пушкина, Гоголя и других великих русских писателей.
У него был “острый глаз бродяги”63. Томас Манн, которому тоже пришлось бежать из Европы в Америку и который также написал в США немало книг, в своих произведениях американского периода и словом не обмолвился, что живет в Пасифик-Пэлисейдс, штат Калифорния, а до того жил в Принстоне, штат Нью-Джерси. Манн пишет о фашизме, о вымышленном немецком композиторе, о десяти заповедях и папе римском Григории I Великом, который жил в VI столетии: для Америки на страницах его книг просто не оказалось места – впрочем, он и не стремился его найти64. Пожалуй, из писателей-эмигрантов на Набокова с его интересом к Америке больше всего похожа Айн Рэнд65 (1905–1982), которая была практически его сверстницей. Рэнд, как и Вера Слоним, была из еврейской семьи. С точки зрения поэтики, проблематики и стиля между Набоковым и Рэнд нет ничего общего: разве что она тоже писала для кино, а в пятидесятые создала бестселлер (“Атлант расправил плечи”). Родом Айн Рэнд тоже была из Петербурга, после революции тоже эмигрировала, и с переездом в Соединенные Штаты для нее начался период интенсивного самообразования и в целом знакомства с “типичной” Америкой (как ее понимала Рэнд).
В первом рассказе Набокова, действие которого разворачивается в Америке, – “Превратности времен” (“Time and Ebb”, в других переводах – “Время и забвение”, “Быль и убыль”) – повествователь описывает события 1940-х годов восемьдесят лет спустя. Старик вспоминает причудливые, очаровательно-старомодные детали, из которых складывалась жизнь в 1944 году, – небоскребы, киоски с газировкой, самолеты – и говорит с читателем сложными, вязкими предложениями:
Я также достаточно стар, чтобы помнить пассажирские поезда; малым ребенком я молился на них, подростком – обратился к исправленным изданиям скорости… Их окраску можно было бы объяснить созреванием расстояния, смешением оттенков порабощенных ими миль, но нет, сливовый цвет их тускнел от угольной пыли, приобретая окрас, свойственный стенам мастерских и бараков, предпосылаемых городу с тою же неизбежностью, с какой грамматические правила и чернильные кляксы предшествуют усвоению положенных знаний. В конце вагона хранились бумажные колпачки для нерадивых гномов, вяло наполнявшиеся (передавая пальцам сквозистую стужу) пещерной влагой послушного фонтанчика, поднимавшего голову, стоило к нему прикоснуться66.
Ностальгия носила оттенок самолюбования. Пожалуй, Набоков подражал Г. Уэллсу, книгами которого зачитывался в детстве, или же Фредерику Льюису Аллену, автору бестселлера “Только вчера” (1931), бойкой истории 1920-х годов. “А, так это он про те конусообразные бумажные стаканчики”, – думает читатель, расшифровав тайнопись последнего предложения, поскольку “сквозистая стужа” и “вяло наполнявшиеся… пещерной влагой бумажные колпачки” сбивают с толку своей вычурностью.
Набоков относился к Америке с нежностью. Здесь “воплотились… мои заветнейшие «даровые» мечты, – пишет он сестре в 1945 году. – Семейная моя жизнь совершенно безоблачна. Страну эту я люблю. Мне страстно хочется перетащить вас сюда. Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устраивать прекрасные пикники с «понимающими» друзьями”67. И пусть его туда забросила судьба, но он выбрал эту страну сердцем. Писатель хотел, чтобы, несмотря на всю вульгарность Америки, туда приехала его сестра с сыном. Как Манн, выгуливавший пуделя в парке Пэлисейдс в Санта-Монике, был очарован светом Калифорнии, так и Набоков был полон жизни и надежд и в этот счастливый период замыслил написать “Лолиту”.
Глава 9
Когда Набоков начал работу над романом, Уилсон прислал ему шестой том французского издания “Исследований по психологии пола” Хэвлока Эллиса1. Уилсон хотел обратить внимание Набокова на приложение к книге: сексуальные откровения некоего мужчины, который родился на Украине около 1870 года. Он был из богатой семьи, воспитывался за границей, половую жизнь вел с 12 лет. Он был настолько одержим сексом, что это мешало ему учиться, так что, дабы получить диплом инженера, мужчине пришлось от секса на время отказаться. Накануне свадьбы с невестой-итальянкой он спутался с малолетними проститутками и предался прежней порочной страсти. Промотал все деньги, свадьба, разумеется, расстроилась, а он пристрастился к сексу с девочками-подростками и стал эксгибиционистом. Рассказ его заканчивается признанием, что жизнь сломана, надежды нет и нет сил бороться со страстью2.
В ответ Набоков написал:
Большое спасибо за книги. Меня немало позабавили любовные похождения этого русского. Невероятно смешно. Ему очень повезло, что в его отрочестве нашлись девочки, которые были не прочь… Концовка до смешного сентиментальна3.
Набоков, вероятно, находился в том состоянии души, когда кажется, будто мир сам идет тебе навстречу, и повсюду видятся отражения замысла, который пока еще только у тебя в голове. Похоже, он твердо решил написать роман о сексе – который, скорее всего, подвергнется нападкам за непристойность, как было с уилсоновским сборником “Мемуары округа Геката”. Примечателен и тон его письма Уилсону: уже появляются остроумные саркастические замечания, каких не было прежде. Кажется, будто Набоков предчувствует, за что именно критики ополчатся на его роман – за недостаточное сострадание к тем, кто его заслуживает, и за излишнюю снисходительность к тем, кто ее недостоин: в самом деле, негодяю Гумберту Гумберту писатель сочувствует едва ли не больше, чем несчастной нимфетке, чью жизнь он исковеркал.
В Кембридже у Набокова было много знакомых. У него были друзья по литературе, преподаватели из Гарварда и Уэлсли, и собратья-“страдальцы”, которые так же, как он, любили ловить и изучать насекомых. Одним из набоковских приятелей-энтомологов был сын хранителя фонда моллюсков из гарвардского музея4: Набоков с 1943 года переписывался с молодым человеком, который интересовался голубянками. Другой молодой ученый, Чарльз Л. Ремингтон, начал наведываться в Музей сравнительной зоологии, как только уволился с военной службы, и вскоре стал одним из основателей Общества лепидоптерологов, членом которого стал и Набоков. В середине лета 1946 года Ремингтон написал Набокову и предложил вместе съездить в Колорадо поохотиться на бабочек5. Еще он написал Хейзел Шмолль6, владелице заказника неподалеку от национального парка Роки-Маунтин, и спросил, нельзя ли пожить у нее на ранчо. Шмолль, которая была ботаником и изучала флору штата Колорадо, обычно давала объявления о сдаче комнат для гостей в газете Christian Science Monitor. Набоков, узнав, что она предпочитает непьющих постояльцев, наотрез отказался у нее останавливаться.
На следующее лето он все-таки поехал в Колорадо. Поездка состоялась благодаря тому, что Набокову выплатили аванс в 2 тысячи долларов за роман “Под знаком незаконнорожденных”7, да и в целом материальное положение его поправилось: в Уэлсли ему платили 3250 долларов, жалованье в Музее сравнительной зоологии и годовой аванс от журнала New Yorker вместе составляли довольно-таки круглую сумму, к тому же время от времени случались гонорары за лекции8. На запад Набоковы поехали на поезде. Дмитрию уже исполнилось тринадцать лет, он очень вытянулся (его рост уже тогда был больше 180 см). Поездка на запад означала для него возвращение к любимому занятию – альпинизму и прогулкам по горам. Маршрут строили исходя из энтомологических интересов Набокова-старшего. Тут пригодились советы друзей (Комстока из Американского музея естественной истории и Чарльза Ремингтона), однако к этому времени Набоков уже изучил тысячи экземпляров бабочек, многие из них впервые внес в каталог, так что и сам прекрасно знал, где лучше искать. Он отлично помнил названия американских мест для охоты за бабочками, как известных, так и нет. Чивингтон, перевал Индепенденс-Пасс и пик Ла-Плата в Колорадо, Руби и каньон Рамсей в Аризоне, западная часть Йеллоустоунского национального парка, болота Толланд, окрестности городка Полярис, штат Монтана, и Харлан в канадской провинции Саскачеван. Набоков уже сорок лет читал труды по энтомологии9. Его карточки из Музея сравнительной зоологии демонстрируют любовь к деталям, прежде всего к морфологическим – подсчет количества чешуек на крыльях, описания гениталий, портреты политипов – и во вторую очередь подробностям, связанным с поимкой того или иного экземпляра. “Поймана Хаберхауэром в окрестностях Астрабада в Персии, – писал Набоков об одном из насекомых, попавшем в коллекцию семьдесят пять лет назад, – скорее всего, в горах Лендакур… где летом 1869 года он провел два с половиной месяца, с 24 июня, «в ауле, где только летом живут пастухи», Хадшьябад, 8000 футов”10.
Другая заметка на удивление поэтична: “завалы из бревен на песчаной отмели [реки Прист, штат Айдахо] и стремительный бег облаков, отражавшихся в темной воде меж высоких берегов”11. Набоков гордился оригинальным стилем таких описаний. Так, о бабочке Lycaena aster Edwards он писал: “Летом 1834 года они водились в таком же изобилии, как Coenonympha tullia на острове Карбониэр… где нельзя было шагу ступить, чтобы из травы не вспорхнула стайка этих ярких созданий”12.
Пик Лонгс, национальный парк Роки-Маунтинс, Колорадо
Более традиционное и содержательное описание демонстрировало точность и внимание к природе в целом:[40]
Сев. Колорадо, Спринг-кн. [каньон], к зап. от Форт-Коллинса, выс. 525500 фут., сухие, поросшие травой предгорья, верхнесонорский биом с переходными элементами, 23 мили вверх от каньона Литтл-С.-Паудер-Рив. от “Форкс” (выс. 6500 фут.), переходная зона с эл. каньон.; Белвью, ок. Лаример, выс. 5200 фут. Суходольные луга и равнины. Три биома… на 6 милях равнины13.
Даже в научных заметках Набоков остается Набоковым с его виртуозным, выразительным, очаровательно-колким стилем. Так, он пишет:
Жарким августовским днем с моста в Эстес-Парке, Колорадо, мы с женой с минуту наблюдали полосатого бражника (Celerio), зависшего над водой вверх по течению против быстрого потока, в процессе питья. Тонкий след от погруженного в воду хоботка прибавлял происходившему выразительности14.
В статье, опубликованной в энтомологическом журнале Psyche:
Когда разрезаешь целиком [гениталии самца голубянки], и раскрываешь, точно устрицу, так что симметрично вытянутые вальвы смотрят вниз… то сразу же бросаются в глаза… два удивительных полупрозрачных крючка… обращенных друг к другу на манер степенно поднятых кулаков двух боксеров… с [отростком в форме капюшона], как у ку-клукс-клана15.
Образно, но от этого не менее убедительно. Дураки совершенно запутали классификацию ликенид, заявлял Набоков, ошибочно определили виды, и писатель выступал против их влияния точно так же, как высказывался против романов “с социальным звучанием” и чтением ради “содержания”:
Вероятнее всего… ярко выраженная вашингтонская форма подвида scudderi прячется за наименованием “Plebeius Melissa var lotis” в невероятно примитивной работе Лейтона, где царит совершенная путаница из-за отсылок… к невозможно недостоверной книге Холланда. В этой связи следует повторить, что Холланд принял “тип” Lycaena scudderi Edwards за самца melissa samuelis Nabokov… и это одна из причин, по которой я не придаю значения неубедительному утверждению Чернока, что он якобы обнаружил “двух самцов… которые могут быть частью того же комплекта, переданного Эдвардсу Скаддером”. Во всех этих работах… сплошная неразбериха16.
Тон ранних статей Набокова куда галантнее. Тогда он писал как европейский натуралист XIX века, которого больше заботил стиль, нежели научная строгость:
Более десяти лет я вообще не занимался коллекционированием, а потом вдруг по счастливому стечению обстоятельств мне удалось посетить… Восточные Пиренеи и Арьеж. Ночная дорога из Парижа в Перпиньян была отмечена приятным, хотя и глупым сном, в котором мне предложили нечто, на редкость похожее на сардину, на деле же это был тропический мотылек17.
Америка сделала из него ученого, а не любителя, для которого ловля бабочек скорее прогулка, чем охота. Она предоставила ему интеллектуальный инструментарий – анализ гениталий бабочек, исследования под микроскопом, голубянки как основная тема исследований – и предоставила в его распоряжение обширные коллекции Музея сравнительной зоологии. Разница между снами о сардинах и лабораторными исследованиями 1940-х годов огромна:
[Icaricia icarioides, голубянку Буадюваля] можно определить как бабочку рода Polyommatus с органом как у рода Aricia. Есть одна специфическая “американская” черта, которая роднит ее с shasta neurona: невероятно тонкий, как стекло, серп [часть гениталий самцов], при этом очень широкий… но заострен практически от самого основания, из-за чего кажется, будто он атрофировался… похож на заостренную карамельку, которую тщательно обсосали18.
К 1947 году Набоков писал глубокие научные работы, посылал их близким друзьям и стал душой энтомологического сообщества19. Вместо ранчо Хейзел Шмолль с ее запретом на алкоголь Набоков останавливался в Колумбайн-Лодж20, построенном в начале века отеле с деревянными домиками, которые упоминались в издании “Путеводителя по западным штатам” за 1947 год Американской автомобильной ассоциации. Некоторые друзья-энтомологи приезжали его навестить21. Чарльз Ремингтон отвез его на юг, к болоту Толланда22, в кустистую, влажную низину вдоль тропы Саут-Боулдер-Крик, расположенную на высоте почти 3000 метров. “Я краем уха слышал, что он пишет романы, – вспоминал Ремингтон 45 лет спустя, – но об этой стороне его деятельности мы никогда не говорили”. Вместо этого они болтали о “недавно пойманных экземплярах бабочек и об исследованиях”, которые ведет каждый из них, – словом, с удовольствием занимались общим хобби. Набоков “был не меньше увлечен этим”: ему доставляло истинное, чисто физическое удовольствие бродить летом по топким низинам в Скалистых горах23.
В Колумбайн-Лодж, расположенной в шести с половиной километрах от пика Лонгс, были номера как с удобствами, так и без удобств; путеводитель Американской автомобильной ассоциации называет гостиницу “привлекательной”. Набоков писал Уилсону: “В нашем распоряжении отдельный удобный домик”24. Примерно в километре находилась куда более известная гостиница Лонгс-Пик-Инн25, а в полутора километрах – популярная Хьюз-Кирквуд-Инн, легендарный пансионат, который построил Чарльз Эдвин Хьюз, автор “Песни Скалистых гор” и других поэтических произведений[41]. Джеймс Пикеринг, еще один здешний автор, так описывал местность того времени, когда там гостил Набоков:
Вот в Тахоса-Вэлли-то я и ездил ребенком, в 1946 году, по примеру отца… “Хижина”, как мы ее называли, мальчишке из нью-йоркского пригорода казалась волшебным местом. На полу в гостиной перед массивным двухъярусным очагом, сложенным из поросших мхом камней, лежали две огромные медвежьи шкуры (с клыками в пастях и когтями на лапах); из окна открывался потрясающий вид на восточный склон пика Лонгс… а в углу стоял заводной патефон с коллекцией поцарапанных пластинок с танцами… Ни воды, ни электричества в хижине не было, а еда хранилась в “пещере” у заднего крыльца. “Дядя Фред и тетя Джесси” рассказали, что однажды в пещеру забрался медведь и сожрал все припасы. Потом его поймали и “переправили через хребет”. Еще в хижине имелись керосиновые лампы… и целая стопка книг в бумажных обложках – романы Зейна Грея и Люка Шорта26.
Для Пикеринга “это был самый что ни на есть Дикий Запад!” Восточные окна Колумбайн-Лодж смотрели на Твин-Систерс, пирамидальные пики Передового хребта в три с лишним тысячи метров высотой, а западные выходили на пик Лонгс и прочие горы континентального водораздела. Между этими двумя хребтами простирались высокогорные луга, изрезанные ручьями, которые питались родниками и талой водой. Там и сям ручьи были перегорожены бобровыми плотинами27. Набоков писал Уилсону, что “растительность великолепна”, и за длительное пребывание – Набоковы пробыли здесь с конца июня до начала сентября – они успели повидать, как распускаются всё новые и новые полевые цветы. На склонах гор дерен душистый сменяла скрученная широкохвойная сосна вперемешку с желтой сосной, можжевельником и множественными купами осин28.
Вера наслаждалась летом29, хотя и досадовала, что в Эстес-Парке, ближайшем мало-мальски крупном городке, невозможно купить еженедельник Saturday Review of Literature, который они с мужем любили читать. Дмитрий совершал восхождения на пик Лонгс. В июле в гости к Набоковым приехал коллекционер из Колдуэлла, штат Канзас, Дон Столлингс30, с которым Набоков переписывался с 1943 года, с тех самых пор, как друг, работавший в Музее сравнительной зоологии, послал Столлингсу статью Набокова (скорее всего, “Некоторые новые или малоизвестные неарктические Neonympha”31, где описаны бабочки, пойманные Набоковым в Большом Каньоне). Столлингс, адвокат по профессии, попросил Набокова помочь ему определить, к какому виду относятся некоторые экземпляры, и предложил заплатить. Писатель ответил: “Разумеется, я с радостью помогу определить вид ваших экземпляров. Денег не надо”32.
Колумбайн-Лодж, “медвежий” домик, отдельное строение, которое летом 1947 г. предположительно занимали Набоковы
В ответном благодарственном письме Столлингс признается: “Приятно знать, что мы с женой в целом правильно определили виды этих экземпляров… Если вам для будущих исследований понадобятся какие-то из наших бабочек, они в полном вашем распоряжении”. И добавил: “Разумеется, я понимаю, что у меня не такая уж и большая коллекция, бывают и больше, и все же в ней представлено около 10 000 североамериканских бабочек, это чуть больше 1100 видов, плюс несколько неизвестных, которые… пока что не представляется возможным определить, поскольку не хватает материала”33.
У Столлингса была огромная частная коллекция. Через несколько лет он, пройдя обучение у Набокова34, открыл фирму Stallings & Turner, Lepidopterists, которая продавала инструментарий для коллекционеров и музеев. Переписка Столлингса с Набоковым с самого начала носила дружеский характер: оба по-приятельски подтрунивали друг над другом. Столлингс, живший на границе Оклахомы, в поисках бабочек исходил весь юго-запад, бывал и в Мексике, и Набоков полагался на его информацию о тамошних охотничьих местах: когда в 1943 году он решил поехать в Алту, то сначала поделился замыслом со Столлингсом35.
В исследованиях Набоков охотно пользовался микроскопом, и Столлингс последовал его примеру. В статье, написанной в соавторстве c другим энтомологом для журнала Canadian Entomologist, Столлингс с пылом неофита заявляет:
Этот огромный вид категории freija Thun. пойман вдоль военно-автомобильной дороги на Аляске на территории Британской Колумбии. По размерам и форме крыла это скорее разновидность frigga Thun., а не freija, в чем мы нимало не сомневаемся, однако те, кто полагается исключительно на внешние характеристики, будут утверждать, что мы ошибаемся, впрочем, анализ гениталий убедительно доказывает прямую взаимосвязь этого вида с freija36.
К путешествию на Аляску Столлингс готовился, изучая экземпляры бабочек, которые Набоков одолжил ему из фондов Музея сравнительной зоологии. “Да, мы бы хотели позаимствовать экземпляры, пойманные возле военно-автомобильной дороги на Аляске”, – писал он в апреле 1945 года, сперва заявив:
Видите ли… кое в чем я довольно ленив, и если кто-то до меня уже что-то сделал, то я обычно прошу разрешения взглянуть на результаты, прежде чем браться за дело самому, – поэтому мне хотелось бы видеть ваши зарисовки гениталий pardalis, чтобы понять, в чем они отличаются от icarioides, а еще вы так и не прислали мне эскизы внутренностей вида Melissa-scudderi-anna37.
Столлингс признался, что “мы с вами зачастую думаем об одном и том же, но вы всегда опережаете меня на добрый десяток шагов”38. В 1946 году он писал: “Получил вашу последнюю статью, которая больше смахивает на книгу. Спасибо. Мне нравится ваша работа по гениталиям чешуекрылых. Надеюсь, мне тоже удастся… сделать что-то в этом роде”39.
Столлинг попросил Набокова, чтобы тот научил его, как называются части гениталий бабочек40, и вскоре по мере сил повторял занятия писателя в Музее сравнительной зоологии:
Вечером препарировал. Пара icarioides и один экземпляр, который я определил как pardalis, но не обнаружил… различий, хотя еще не делал зарисовки вальв, фалакса и ункуса. Не могу раздобыть микроскоп, так что пока пользуюсь заимствованным, с 90-кратным увеличением… и в 300 раз увеличить не получается41.
Общение Набокова со Столлингсом не ограничивалось энтомологическими темами. Так, от Столлингса писатель услышал (или узнал больше) о том, что волновало типичного американца тех лет. Столлингс в письме признался, что мечтал бы следующим летом отправиться охотиться за бабочками, “если дядя Сэм до той поры не отправит меня в путешествие”42. Еще он писал: “Получил письмо от зятя, доктора Тернера, 6 июня 1944 года он высадился с десантом союзников в Нормандии43 и по-прежнему в строю. Как только кончится война… мы хотим [поехать на юг Аляски за бабочками]”.
В финале “Лолиты” (композицию романа Набоков продумывал примерно в это время44) героиня, в 17 лет уже замужем, пишет письмо Гумберту Гумберту, от которого сбежала три года назад. Разумеется, Гумберт тут же едет по адресу, указанному на конверте45, – он называет этот город “Коулмонт”, “торговый городишко в восьмистах милях на юг от Нью-Йорка” (“не в Виргинии, и не в Пенсильвании, и не в Теннесси – и вообще не «Коулмонт» – я все замаскировал”, – признается Гумберт). Лолита беременна. Она просит у него несколько сотен долларов, чтобы они с мужем, “ветераном далекой войны”, могли перебраться на Аляску и начать новую жизнь. Гумберт едет в Коулмонт, чтобы убить мужа Лолиты, но понимает, что это не тот, кто ему нужен. Он умоляет Лолиту бежать с ним: она отказывается. Вся эта сцена дышит таким предощущением катастрофы, что Лолита, странным делом уцелевшая, несмотря на все невзгоды, по-прежнему привлекательная и трогательно скромная в юной своей женственности, вскоре умрет в родах, и бледный проблеск надежды на темном небосклоне романа погаснет без следа.
Скорее всего, именно Столлингс рассказал Набокову о Теллуриде, штат Колорадо: в 1940-е годы это был маленький шахтерский городок в глуши, а значит, там можно было отлично поохотиться на бабочек46. Четыре года спустя именно там Набоков поймал один из лучших экземпляров чешуекрылых. В послесловии к американскому изданию “Лолиты” Набоков писал, что именно в Теллуриде поймал “неоткрытую еще тогда самку мной же описанной по самцам голубянки Lycaeides sublivens Nabokov”: случилось это на склоне горы высоко над шахтерской деревушкой. “Мелодическое сочетание звуков” жизни внизу, описанных в романе, претерпевает кардинальные изменения и в конце концов превращается, на слух Гумберта, в голоса играющих детей:
…слух иногда различал… почти членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты, или грохоток игрушечной тележки, но все находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог заметить какое-либо движение на тонко вытравленных по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации… и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре47.
Столлингс предложил Набокову съездить в Канзас. Сошлись на Эстес-Парке, где и встретились наконец, вместе с женами, в конце июля. “Моя семья присоединяется ко мне и передает наилучшие пожелания вам и миссис Столлингс, – писал Набоков после поездки. – Два дня, что мы провели с вами, были прекрасны”48. Первый день дался Столлингсу нелегко: он только приехал из равнинного Канзаса, а Набоков сразу же повел его на пик Лонгс, как будто решил похвастаться собственным умением прыгать с камня на камень по высокогорью. На следующий день Столлингс заявил: “Сегодня будем охотиться по-моему”49, и им посчастливилось поймать Erebia magdalena, бабочку из семейства сатирид, почти у самого подножия каменистых склонов у леса, где обитают такие бабочки.
Набоков и Столлингс продолжали общаться и в 1950-е годы. “Никогда не забуду ваше лицо, когда я предложил срезать путь к местообитанию magdalena”50, – писал Набоков (видимо, короткая дорога оказалась довольно-таки крутой). Они по-прежнему обменивались экземплярами бабочек. Столлингс, зная, что Набоков интересуется argyrognomon sublivens, писал:
Посылаю вам несколько экземпляров melissa, которые мы поймали на юге Колорадо в районе перевала Индепенденс-Пасс и южнее, возле Лейк-Сити и Сламгаллиэн-Пасс, – едва ли это ваши sublivens, скорее, какая-то “заурядная” разновидность [melissa, похожая на sublivens]51.
Годы энтомологической работы Набокова подходили к концу. Ему удалось привести в порядок коллекцию чешуекрылых Музея сравнительной зоологии, провести исследование и совершить открытие, о котором давно мечтал. Он писал сестре, что с годами ничуть не изменился – все тот же мальчишка, все те же мечты52. Гармония этого мира, неизменность пристрастий и черт характера – один из лейтмотивов “Память, говори” (и ее русской версии, “Другие берега”). Набоков начал делать наброски еще во Франции, в конце концов книга глава за главой появилась в американских журналах53. “…Какая-то часть моего естества, должно быть, родилась в Колорадо, – писал он Уилсону, – ибо я с радостным сердцебиением постоянно узнаю многое из того, что меня окружает”. Колорадо напомнило ему родительское поместье на реке Оредеж, горы Крыма, где он ловил бабочек, а небо Колорадо – синь летнего неба в Выре, когда он спозаранок выбирался на охоту54.
Два знаменитых фрагмента из “Других берегов”, из главы про бабочек (6-я глава), проделывают удивительный фокус со временем и насекомыми: шестилетний мальчик (точнее, даже не он сам, а его гувернантка) выпустил махаона, которого поймал слуга, но потом “после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером”. Одиннадцатилетний мальчик, исследуя окрестности реки Оредеж, вдруг оказывается в Колорадо:
Наконец я добрался до болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами – лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега Longs Peak55.
“Я не верю в мимолетность времени, – признается автор. – Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой”56. Несмотря на перипетии века – революцию, убийство отца, Вторую мировую войну, репрессии, – увлечение бабочками сопровождает Набокова всю жизнь, и, что более важно, в произведениях он связывает между собой свои миры, объединяет их, обуздывает хаос.
И все-таки он верит в мимолетность времени. Герой-протагонист Набокова сражается со временем, пытается от него убежать либо же одержать над ним верх, а бороться можно лишь с тем, в существование чего веришь. Он также верит – смакует и записывает – в бесконечное множество специфических подробностей, и волшебство, которое превращает голубику и прочие болотные растения в цветы Скалистых гор, прекрасно, однако неточно. “Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело”, – пишет он, и мы действительно спотыкаемся о неточности описания лилий-марипоз, которые вообще-то любят солнце и каменистые почвы, а вовсе не растут в тени сосен, как у Набокова.
В романе “Под знаком незаконнорожденных” он смешал описания нескольких стран в одну. Однако в лучших своих американских романах Набоков отошел от этого (и не возвращался до самого “Бледного пламени”, опубликованного уже позже, в Швейцарии). Отчасти такое вольное восприятие географии имеет лепидоптерологическое объяснение: бабочки, как тот махаон из “Других берегов”, не только презирают границы, но и, подобно Lycaeides, семейству голубянок, которым занимался Набоков, населяют “потерянную страну изобилия [за и у] современного Северного полярного круга; питомник их – горы Средней Азии, Альпы и Скалистые горы. В одном географическом районе редко обитает больше двух (и никогда больше трех) видов; по данным исследований, даже один и тот же прудик или поросший цветами берег реки больше двух видов бабочек обычно не посещает”57.
Набоков верил, будто существует материк бабочек – северная половина того, что когда-то звалось Пангеей (протоконтинент, существовавший триста миллионов лет назад). Там крохотные неброские голубянки порхают над просторами, на которых раскинулись Россия, Америка и прочие страны.
В лучших своих американских произведениях Набоков держит воображение в узде. Он вовсе не утратил интереса к географическим выдумкам, однако на энное количество лет мир в его книгах останется стабильным, точь-в-точь как настоящий, так что обычный читатель 1940–1950-х годов, который впервые открывает романы Набокова, найдет там много сомнительного, но хотя бы не столкнется с полной переделкой карты мира.
Отчасти такая времення стабильность была обусловлена обилием американских впечатлений. Чтобы заработать на жизнь, Набоков в течение двадцати лет преподавал американским студентам русский язык и литературу и за эти годы научился ориентироваться на их восприятие. Ему приходилось выступать перед самой разной аудиторией – от языковых групп из трех-четырех человек до лекционных залов, куда свободно помещалось три-четыре сотни. Из никому не известного лектора он превратился в университетскую знаменитость, и эта метаморфоза в каком-то смысле была предвестьем успеха и в писательской карьере. Преподавание приносило Набокову массу впечатлений:
Самые живые воспоминания связаны с экзаменами. Большая аудитория [в Корнелле]. Экзамен с 8 утра до 10.30. Примерно 150 студентов – немытые, небритые юнцы и довольно-таки ухоженные юницы. Всех томит скука и отчаяние. Половина девятого. Кто-то откашливается, кто-то нервно прочищает горло – сперва один, потом и остальные за ним… Некоторые мученики погрузились в раздумья, сцепив руки за головой. Встречаю устремленный ко мне унылый взгляд… Девица в очках подходит к моему столу и спрашивает: “Профессор Кафка, вы хотите, чтобы мы сказали то-то и то-то? Или же нам нужно ответить лишь на первую часть вопроса?”… Дрожь сведенного судорогой запястья, чернила кончились, деодорант не в силах скрыть запах. Стоит мне поймать направленный на меня взгляд, как студенты тотчас же поднимают глаза и прилежно смотрят в потолок. Стекла запотели. Мальчики стаскивают свитера. Девицы ритмично жуют жвачку. Десять минут, пять, три, время истекло58.
Ученики Набокова из Стэнфорда и Уэлсли вспоминали, что он виртуозно владел сленгом59 и интересовался этнологией. Будь Набоков как другие писатели-эмигранты – скажем, Бертольт Брехт60, который приехал в Америку примерно в ту же пору и раньше представлял ее себе как страну небоскребов, жестокую и несентиментальную, – вряд ли бы у него появилось много близких друзей среди американцев. Набоков погрузился в жизнь народа. Он в меньшей степени похож на художника в эмиграции, будь то Манн, Брехт или другой знаменитый писатель, который вращается исключительно в кругу себе подобных, чем на некогда знаменитого трудягу-кинорежиссера: например, Билли Уайлдера, который с легкостью учился новому и раньше снимал фильмы на французском, немецком и только потом уже – на английском, и Генри Костера61, который после комедии Das Hssliche Mdchen (“Дурнушка”) снял картины “Сто мужчин и одна девушка”, “Жена епископа”, “Харви”, “Плащаница”, “Поющая монахиня” и многие другие.
Набоков подружился с лаборанткой Музея сравнительной зоологии Филлис Смит, которая готовила для него препараты. Они работали вместе с тех пор, когда Филлис было семнадцать. Когда ей было за пятьдесят, она вспоминала: “он отлично меня знал”62. Набокову нравилось с ней разговаривать; “иногда он был тихим, иногда громким”, но всегда “держался естественно и непринужденно”63. В начале 1940-х годов Набоков прочитал “Моби Дика”64, и впоследствии они с Филлис обсуждали этот роман. Он задавал ей “вопросы, вопросы. Вопросы «как», вопросы «почему»”: ему нравилось наблюдать за обычаями и привычками американцев в их естественной среде обитания65. Когда родители Смит развелись, Набоков морально ее поддерживал, неизменно интересовался, как у нее дела66.
В июне 1944 года он “пообедал виргинской ветчиной в маленьком Wursthaus возле Гарвард-сквер и безмятежно… исследовал гениталии экземпляров [из Калифорнии] в Музее, когда вдруг ощутил странную волну тошноты”67. Приступ геморрагического колита породил рассказ в две тысячи слов, который Набоков отправил Уилсону и Маккарти, – забавный, красочный, полный любопытства, не покинувшего писателя несмотря на рвоту иректальное кровотечение:
К тому времени я был в состоянии полного бесчувствия, и когда появился доктор… ему не удалось найти у меня ни пульса, ни давления. Он стал звонить по телефону, и я услышал, как он говорит “необычайно тяжелый случай” и “нельзя терять ни минуты”. Пять минут спустя… он все устроил, и я в мгновение ока очутился в лечебнице “Маунт-Обри”… в полуотдельной палате – “полу” обозначает старика, умиравшего от острого сердечного расстройства (я всю ночь не мог спать из-за его стонов и ahannement [учащенное дыхание] – он умер к рассвету, сказав неизвестному “Генри” что-то вроде: “Мой мальчик, нельзя так со мной поступать. Давай по совести” и т.д. – все очень интересно и полезно для меня)68.
После почти суток под капельницей Набокова перевели в общую палату:
…где по радио передавали пылкую музыку, рекламу сигарет (сочным голосом от всего сердца) и остроты, пока наконец (в 10 часов вечера) я не завопил, чтобы медсестра прекратила это издевательство (к большому недовольству и удивлению персонала и пациентов). Это любопытная деталь американской жизни – на самом деле они не слушают радио, все разговаривали, рыгали, гоготали, острили, флиртовали с (очень обаятельными) медсестрами… но, очевидно, невыносимые звуки, доносившиеся из этого аппарата… служили “живым фоном” для обитателей палаты, потому что как только радио смолкло, воцарилась полная тишина, и я вскоре заснул69.
Набоков подмечает, как задыхается старик и “сочный голос от сердца”. Он ведет себя как писатель: запоминает мельчайшие детали – возможно, это и помогло ему пережить тяжкое и унизительное испытание. Что бы ни случилось, он всегда продолжал наблюдать.
Глава 10
Вскоре после возвращения Набокова из Колорадо ему написал профессор Корнелльского университета Моррис Бишоп и сообщил, что у них открыта должность преподавателя по русской литературе. Бишоп знал Набокова по рассказам, выходившим в журналах, к тому же двоюродный брат писателя Николай был “довольно-таки экстравагантным преподавателем музыки”1 в колледже Уэллс, который находился к северу от Итаки. Бишоп время от времени публиковал свои стихи в журнале New Yorker, и Кэтрин Уайт, узнав о вакансии в Корнелле, уговорила его написать Набокову2.
Однажды ему уже довелось там побывать. Теперь же, при поддержке Бишопа, Набоков отправился в Корнелльский университет, чтобы обаять потенциальных работодателей: отборочная комиссия не хотела нанимать человека без ученой степени3, но в Корнелле недавно создали литературное отделение, которое не зависело от прочих кафедр университета, и ставку преподавателя русской литературы оплачивали из гранта, выделенного фондом Рокфеллера (5 тысяч долларов)4.
Итака стала американским домом Набокова. Здесь он прожил с Верой и Дмитрием (который приезжал к родителям на каникулы) 11 лет начиная с лета 1948 года, в домах, которые снимал у преподавателей, покинувших университет. Бишоп и его жена Элисон подружились с Набоковыми. Эрудиция и характер Бишопа, его остроумие, блиставшее в стихах, которые выходили в New Yorker в те же годы, когда в журнале публиковались писатели-юмористы Джеймс Тербер и Сидни Перельман, импонировали Набокову; кроме того, в университете Бишоп стал его покровителем, как некогда Уилсон и Комсток. Кроме стихов и научных работ, Бишоп писал популярные книги, он даже сочинил детектив, который издал под псевдонимом У. Болингброук Джонсон. Бишоп свое авторство отрицал, однако в одном из экземпляров в библиотеке Корнелла обнаружился лимерик, написанный его рукой:
- На севере диком в Висконсине
- В хижине спрячусь до осени,
- Чтоб забыли обо мне,
- И “Растущем пятне”,
- И У. Болингброуке Джонсоне.
Набоков с самого начала дал понять, чего от него ожидать как от преподавателя. “Не хочу вас разочаровывать, – писал он декану факультета наук и искусств, – но я начисто лишен административных способностей. Организатор из меня никудышный, так что, боюсь, в любой комиссии окажусь совершенно бесполезен”5. Однако “я совершенно согласен с вами, что лекции по русской литературе не следует читать только по-русски… Знаю по опыту, что лекции по этому предмету на английском очень нравятся студентам, которые интересуются литературой в целом: курс, который я в настоящее время читаю в Уэлсли, один из самых посещаемых в колледже”6.
Набоков досадовал, что его не взяли в Гарвард7. Но и должность в Корнелле была настоящим подарком судьбы. Жизнь в эмиграции явно стала налаживаться. Его маленькая лодка оказалась на гребне волны послевоенного интереса к образованию. Талантливый педагог, артистичный лектор, знаменитый писатель, которым мог бы гордиться любой университет, Набоков слишком долго искал работу из-за длительного послевоенного спада во всех сферах деятельности, и вот наконец его мытарства завершились8.
За время работы в Корнелле Набоков создал немало произведений – среди прочего частично или целиком “Лолиту”, “Пнина”, “Память, говори”, а также рассказы, стихи, переводы (как собственных книг, так и других авторов). Он сделал 1895-страничный перевод с комментариями “Евгения Онегина” и перевод “Слова о полку Игореве”. Задумал и начал писать “Бледное пламя” и “Аду”, знаменитые романы, которые вышли уже в 1960-е. В “Бледном пламени”, кстати, гениально описана Итака. Набоков как бы походя, невзначай изображает свой городок с такой любовью и живостью, которая и не снилась прочим бытописателям. В Нью-Вае, университетском городе из романа, тоже, как и в Итаке, холмистая местность, хвойные леса и продуваемые всеми ветрами старые дома над озером. Зимы снежные и суровые, как выясняет доктор Чарльз Кинбот, полусумасшедший, выживший из ума повествователь, рассказу которого, тем не менее, все же можно доверять:
Мне никогда не забыть, как ликовал я, узнав, – об этом упоминается в примечании, которое читатель еще найдет, – что дом в предместье (снятый для меня у судьи Гольдсворта, на год отбывшего в Англию для ученых занятий)… стоит по соседству с домом прославленного американского поэта, стихи которого я пытался перевести на земблянский еще за два десятка лет до этого! Как обнаружилось вскоре, помимо славного соседства гольдсвортову шато похвастаться было нечем. Отопление являло собою фарс, его исполнительность зависела от системы задушин в полах, сквозь которые долетали до комнат тепловатые вздохи дрожащей и стонущей в подземелье печи, невнятные, словно последний всхлип умирающего… Разумеется, как и любого приезжего, меня уверяли, что я попал в худшую из зим за многие годы… В одно из первых моих тутошних утр, приготовляясь отъехать в колледж на мощной красной машине, которую я только что приобрел, я заметил, что миссис и мистер Шейд – ни с той, ни с другим я знаком пока еще не был… испытывают затруднения со своим стареньким “Паккардом”, страдальчески изнывавшим на осклизлой подъездной дорожке, силясь высвободить измученное заднее колесо из адских сводчатых льдов9.
Кинбот шпионит за Шейдом, который пишет стихи в духе Роберта Фроста, и в этом ему помогают пейзажи Итаки/Нью-Вая:
Хорошо известно, как на протяжении многих веков облегчали окна жизнь повествователям разных книг. Впрочем, теперешний соглядатай ни разу не смог сравниться в удачливости подслушивания ни с “Героем нашего времени”, ни с вездесущим – “Утраченного”. Все же порой выпадали и мне мгновения счастливой охоты. Когда мое стрельчатое окно перестало служить мне из-за буйного разрастания ильма, я отыскал на краю веранды обвитый плющом уголок, откуда отлично был виден фронтон поэтова дома. Пожелай я увидеть южную его сторону, мне довольно было пройти на зады моего гаража и по-над изибом бегущей с холма дороги смотреть, притаясь за стволом тюльпанного дерева, на несколько самоцветно-ярких окон… Когда же меня влекла противная сторона, все, что требовалось проделать, – это взойти по холму к верхнему саду, где мой телохранитель, черный верес, следил за звездами и знаменьями, и за заплатами бледного света под одиноким фонарным столбом, там, внизу, на дороге. Первый порыв весны как бы выкурил призраков, и я одолел весьма своеобразные и очень личные страхи… и не без удовольствия проходил в темноте травянистым и каменистым отрогом моих владений, заканчивающимся в рощице псевдоакаций, чуть выше северной стороны дома поэта10.
В книге воспоминаний о Набокове, опубликованной впоследствии, Моррис Бишоп вспоминал давние свободные от занятий дни:
Большинство преподавателей факультета происходили из буржуазной, даже, скорее, мелкобуржуазной среды. Мы привыкли на всем экономить: сами стрижем траву, сами подключаем стиральные машинки, сами красим полы. Набоковы же знали две крайности: сперва – богатство, потом – нищенское существование в дрянных берлинских меблированных комнатах. Золотой середины они почти не знали11.
Дома с готовой обстановкой, за которыми толком не надо было ухаживать, идеально им подходили. Одни были ужасны, другие прекрасны – как дом одного преподавателя на Хэмптон-роуд в Каюга-Хайтс12, расположенный на вершине холма, с панорамным окном, которое смотрело на озеро Каюга. Вера “несла бремя повседневной жизни на скромный доход в провинциальном городке”, вспоминал Бишоп, а Стейси Шифф обстоятельно перечисляет все роли, которые Вера играла при муже: она была шофером, помощницей в университетских делах, домохозяйкой, риэлтором и секретарем13. Вид у нее был царственный, многие втайне восхищались ею, но и жалели, и беспокоились за нее – разумеется, тоже втайне:
Внимание привлекало прежде всего распределение у Набоковых обязанностей. Многие, проходя мимо стоянки у супермаркета, оборачивались на Веру, которая, поставив в снег тяжелые сумки с продуктами, трусила за ключами, затем загружала багажник. Владимир при этом неподвижно, с отсутствующим взором сидел в машине. Аналогичная сцена наблюдалась и при переезде, когда Набоков шагал в новый дом с шахматами и маленькой лампой, а Вера ковыляла за ним с двумя увесистыми чемоданами14.
У Дмитрия о Корнелле сохранились самые лучезарные воспоминания. Он бывал там наездами; Итака стала следующим шагом на пути его успешной адаптации к Америке, местонахождением “кокона любви, одобрения и благополучия, который свили вокруг меня родители”15, как впоследствии писал Дмитрий. Размышляя об Итаке, он вспоминал, как возвращался “домой на зимние каникулы и ходил на лыжах за продуктами по занесенным метелью дорогам, а весной ездил на нашем любимом «олдсе» или его предшественнике, зеленом, как лягушка, «бьюике»… на корт у школы «Каскадилья», чтобы поиграть с отцом в теннис”16.
Каждый дом был “по– своему очарователен, – подковки на двери, мастерская в подвале или неизвестно откуда взявшееся настоящее пушечное ядро, которое я выкопал в саду у Ханстинов – в моей памяти оно почему-то связано с выражением «как об стенку горох»17. Вечера проходили за просмотром комедийного сериала «Новобрачные»… на одном из телеканалов… или фильмов Хичкока, предзнаменовавших их сотрудничество [с Владимиром], которое почти что получилось через несколько лет”18.
Дмитрий тогда был ровесником Долорес Гейз19. Она тоже была типичным американским подростком, но ее история тягостна и нелепа: битком набитый мексиканскими безделушками дом, в котором она жила с матерью, стал местом, где она осиротела – сперва умер ее отец, а потом погибла мать. Жизнь Лолиты превратилась в кошмар. Успехи сына, которого Владимир с Верой растили, не жалея сил, были для Набокова источником гордости и поводом похвастаться перед друзьями. Набоковы вывезли сына из фашистской Германии и, несмотря на все передряги, сумели-таки добраться вместе со своим мальчиком (пусть худосочным, в нелепой одежке и не знавшим ни слова по-английски) до страны надежд. Спустя несколько дней после переезда в Итаку Набоков писал Кэтрин Уайт, редактору журнала New Yorker: “Мы в совершенном восторге от Корнелла и очень-очень благодарны милостивой судьбе, которая привела нас сюда”20.
Воспитание Дмитрия давалось Набоковым не так-то просто. Он был упрям (“Я не всегда был примерным сыном”21), а его обучение в частных школах – сначала в Декстере (где до него учился Джон Ф. Кеннеди), затем в школе святого Марка (директор которой был “грубиян”, по мнению Веры22) и Холдернесс, где Дмитрий научился ходить на лыжах и выбирался с одноклассниками в туристические походы, стоило Набокову примерно трети его жалования в Корнелле23. Дмитрий признавался:
За время обучения в пансионах… меня не раз заносило на поворотах. Я… балансировал на опасной грани между успехами… и проказами тайком: пиво в лесу, ночные прогулки, в первый год даже что-то украл по мелочи… Чарльз Эбби, замечательный педагог… рассказал мне о Шекспире и отправлял на олимпиады от штатов Нью-Йорк и Новая Англия… Меня уже приняли [в колледж, когда] несколько городских матушек подняли гневный протест… Я вызвался регулярно возить однокашника, страдавшего спастическим параличом, на прием к местному остеопату, а у доктора оказалась дочь-кокетка, так что я несколько раз с ней пообжимался. Стараниями [директора школы] мне разрешили уйти с достоинством: выпускные экзамены я сдал дома и получил диплом с отличием24.
Родители позаботились о том, чтобы Дмитрий взял от Америки самое лучшее. И то, что Набоковы могли себе позволить забрать сына из такого престижного и прославленного заведения, как школа святого Марка (пусть и грешившего фаворитизмом, как полагал Набоков), и отдать в более подходящую для Дмитрия школу Холдернесс, свидетельствовало о том, что их жизнь в Америке складывалась более чем удачно.
Лолита тоже училась в частной школе. После года странствий (и сексуальных утех) похотливый отчим отдает ее в “школу Бердслея” в Новой Англии. У школы Бердслея были “псевдобританские притязания”25, пишет Гумберт, однако она считалась прогрессивной и, по словам начальницы, мисс Пратт, ставила себе целью “приспосабливание ребенка к жизни группы”26. Лолита, дерзкая, хотя и перенесшая серьезную психологическую травму и оттого уязвимая, учится хорошо, но мисс Пратт подмечает в ее поведении кое-какие странности: девочку “преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода”27, при этом “болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами… подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить свое невежество и чувство собственного достоинства”. Долли “написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит писсуар на низкопробном мексиканском жаргоне, – написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению”28, но при этом она, похоже, совершенно не представляет себе, как в действительности происходит размножение даже у птиц или у пчел, не говоря уже о людях.
Озабоченных американских подростков Набоков, скорее всего, описывал под впечатлением от сексуальных похождений сына29. Гумберт ревниво оберегает падчерицу от приставаний мальчишек: “…пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле”30. За словами Гумберта о “самодовольном насильнике с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем”31 вырисовывается образ одержимого автомобилями Дмитрия. Как бы он себя ни вел, мудрые и заботливые родители оставляли за ним право исследовать, экспериментировать, старались направить сына на верный путь32, по возможности сделать так, чтобы американизация прошла для него спокойно и безопасно, чтобы он был счастлив, имел стабильный доход. Они оберегали сына, но вместе с тем давали ему свободу. Словом, поступали не как Гумберт, которого едва ли можно назвать хорошим отцом, а совсем иначе
Лолита, у которой, в отличие от Дмитрия, таких хороших родителей не было, оказывается предоставлена сама себе. Ее прелесть неотразима, девочка лучится красотой:
О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой млеющей Лолитой! Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо-томное свечение, приводившее гаражистов, отдельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракотовых идиотов у синькой крашеных бассейнов, в состояние припадочной похотливости… маленькая Лолита отдавала себе полный отчет в этом своем жарком свечении, и я не раз ловил ее, coulant un regard по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла, с мускулистой золотисто-коричневой обнаженной по локоть рукой в браслетке часов, и не успевал я отойти (чтобы купить этой же Лолите сладкую сосульку), как уже она и красавец механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт33.
Созревшая раньше времени Лолита ступила на опасный путь. Мальчишке в такой ситуации было бы куда проще. Набоков, внимательно изучавший исследования по педофилии, несколько искажает факты (что, впрочем, ему практически не свойственно):
Господа присяжные, милостивые государи и столь же милостивые государыни! Большинство обвиняемых в проступках против нравственности, которые тоскливо жаждут хоть каких-нибудь трепетных, сладко-стонущих, физических, но не непременно соитием ограниченных отношений с девочкой-подростком, – это все безвредные, никчемные, пассивные, робкие чужаки, лишь одного просящие у общества – а именно, чтобы оно им позволило следовать совершенно в общем невинным, аберративным, как говорится, склонностям и предаваться частным образом маленьким, приятно жгучим и неприятно влажным актам полового извращения без того, чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на них. Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это делают бравые солдаты. Мы несчастные, смирные, хорошо воспитанные люди с собачьими глазами… Поэты не убивают34.
Тут он ошибся: убивают, еще как убивают. Клэр Куильти гибнет от руки Гумберта Гумберта, да и Шарлотта Гейз оказывается под колесами автомобиля тоже, в общем, из-за него. Умирает и Лолита. Вырвавшись после нескольких лет в плену у Гумберта, она тут же попадает в другой: к Куильти. Над нимфеткой словно довлеет проклятье сексуального рабства. Лолита – американка и априори не может относиться легко к таким вещам. Когда она на манер Гекльберри Финна планирует бежать на Аляску, беременная ребенком, которому не суждено появиться на свет, с небес за ней словно бы наблюдает Готорн: надеясь перехитрить судьбу, она лишь усугубляет свое отчаянное положение и вскоре погибает.
Глава 11
Не в меру любопытная мисс Пратт из Бердслейской школы истолковывает поведение Лолиты с точностью до наоборот, но в главном все же не ошибается: в подоплеке действительно секс. Забота о “приспосабливании ребенка к жизни группы”, по мнению мисс Пратт, это в первую очередь сексуальное воспитание, а не нравственное или интеллектуальное развитие. Как типичный американский педагог середины XX века, желающий казаться передовым, она ставит секс на первое место: “танцы, дебаты, любительские спектакли и встречи с мальчиками”1, поясняет она Гумберту Гумберту политику школы. Грядет эпоха фрейдизма, который, несмотря на всю его глубину, в массовом сознании сводится к зацикленности на сексе. Так что Гумберту Гумберту невероятно повезло – а уж к добру или к худу, другой вопрос, – что он оказался в Америке в середине века секса.
Секс изобрел не Фрейд, равно как и тему секса в литературе: это случилось задолго до него. Набоков, как известно, Фрейда терпеть не мог: по словам писателя, он соблюдал психическую гигиену и каждое утро “с нескрываемым наслаждением доказывал несостоятельность трудов Венского Шамана, в деталях вспоминая сны без единого упоминания о сексуальных символах или мифических комплексах”2. При этом лучший его роман3 не противоречит вульгарному восприятию фрейдизма – что “все дело в сексе”. Главный герой, безусловно, одержим сексом. Сексуальные переживания отрочества на всю жизнь оставили след в его душе, и Лолита для него – воплощение мечты, которая питает его мучительное существование: она его возрождает. Окажись детская сексуальная травма серьезнее, было бы труднее ее осмыслить; Гумберт Гумберт, тоже противник учения Фрейда, “анархист” по определению автора, не в силах разорвать сценарий, навязанный ему первым психоаналитиком.
В ранних романах Набокова также встречаются описания сексуальных переживаний, но наслаждение, как правило, неотделимо от мучений, как в романах “Соглядатай” (1930), “Смех в темноте”, “Подлинная жизнь Себастьяна Найта” и в прочих произведениях. Самые эротические пассажи у Набокова – описания не полового акта, но объекта вожделения. Персонажи Набокова – знатоки женских прелестей, и мы смотрим на героинь их восторженными глазами:
Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеродность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления.
“Соглядатай”
Альбинус научил ее ежедневно принимать ванну, вместо того чтобы только мыть руки и шею, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали бриллиантово-красным лаком. Он открывал в ней все новые очарования – трогательные мелочи, которые в другой показались бы ему вульгарными и грубыми. Полудетский очерк ее тела, бесстыдство, медленное погасание ее глаз (словно невидимые осветители постепенно гасили их, как прожекторы в театральной зале) доводили его до такого безумия, что он вконец утрачивал ту сдержанность, которой отличались его объятия со стыдливой и робкой женой.
“Смех в темноте”
“Да что же в ней привлекательного? – в тысячный раз думал он. – Ну, ямочки, ну, бледность… Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках… как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком…”
“Подвиг”
В некоторых произведениях Набокова встречаются и описания секса, но без пошлостей (и, разумеется, без ненормативной лексики). Постельные сцены у него вполне в духе Голливуда: притворно-изощренные, кадр до, кадр после, а сам процесс остается за кадром. Все происходит быстро и неправдоподобно часто. В “Смехе в темноте” Марго, бессердечная кокетка, постоянно занимается сексом с Рексом, своим любовником-психопатом, под самым носом у Альбинуса, которому с удовольствием изменяет и с которым тоже постоянно занимается сексом. В романе “Ада”, написанном на тридцать лет позже, персонажи совокупляются с тем же кроличьим автоматизмом, в который трудно поверить. Секс в произведениях Набокова4 абсолютно нефизиологичен, так что читателю приходится додумывать, как оно было на самом деле. И если прочие его современники брали на себя смелость описывать секс откровенно, выразительно, ничего не скрывая, Набоков поступал совершенно иначе.
Он прекрасно описывает влюбленность как одержимость, обожествление возлюбленного. В “Волшебнике”, ранней повести в духе “Лолиты”, он охватывает зорким оком облик героини:
Девочка в лиловом, двенадцати лет… торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось), ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью5.
Впоследствии Набоков говорил, что “Волшебник” – “старое барахло”6: “Я был недоволен повестью и уничтожил ее вскоре после переезда в Америку в 1940”7. Двадцать лет спустя, подбирая рукописи, чтобы передать их Библиотеке Конгресса и получить налоговые льготы, Набоков нашел повесть, перечитал ее “с куда большим удовольствием” и решил, что это “прекрасный образец русской прозы, точный и прозрачный”8. Но все же не назвал произведение удачным, не сказал, что история получилась убедительной.
Рассказ об изнасиловании ребенка оказался для Набокова непростой задачей и вышел очень сумбурным. Первые страницы невразумительны и неловки9. Безымянный герой в безымянном же европейском городе анализирует свое влечение к девочкам. Текст изобилует лукавыми эвфемизмами. На протяжении пятидесяти пяти страниц (объем повести в рукописи) рассказчик ходит вокруг да около, не решаясь приблизиться к самому главному, сдерживает вожделение: собственные чувства внушают ему ужас, но молчать он все-таки не может. “Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами”10, он так похож на “хорошо воспитанных людей с собачьими глазами”, о которых говорит Гумберт Гумберт, но не на самого Гумберта Гумберта – “взрослого друга, статного красавца” (каким его якобы видит Лолита).
Впрочем, после невнятного начала повествование в “Волшебнике” течет довольно гладко: читать произведение легко. В отличие от “Лолиты”, повесть не оставляет у читателя ощущения вовлеченности в события (отчасти потому, что повествование ведется от третьего лица, а не от первого, как в “Лолите”). Стиль “Волшебника” отличается сравнительной простотой11: в повести почти нет аллюзий, которыми изобилует текст “Лолиты”. В остальном же оба произведения очень похожи – начиная от описания персонажей (глаза Лолиты тоже напоминают повествователю крыжовник; и там, и там у девочек “бисквитный запах”) до основных поворотов сюжета. Когда автор спустя десять лет вернулся к этому материалу, скорее всего, основное уже было придумано. Почему Набоков вернулся к этой теме – другой вопрос. Рассказ о педофиле, волей случая ставшем опекуном ребенка, успеха не имел – такая история скорее наводит тоску, а не захватывает дух: едва ли можно было ожидать, что он произведет такое впечатление.
Вероятно, у Набокова были личные причины (скорее всего, интимного характера) вернуться к этой теме. Профессиональное писательское чутье подсказало ему, что сюжет многообещающий. “Мемуары округа Геката” Уилсона (едва ли именно они побудили Набокова вернуться к забытой теме, однако свою роль сыграли) произвели фурор. Сенсационный роман Уилсона, первая из более чем двадцати его книг ставшая бестселлером, отличается невероятной откровенностью:
Но больше всего меня поразила и изумила не только красота ее стройных, как колонны, ног: все, что между ними, было настолько прекрасно и эстетически совершенно, что прежде мне никогда не доводилось видеть ничего подобного. Бугорок был эталоном женственности: круглый, гладкий, пухлый; волоски на лобке были не золотистые, а чуть светлее – белокурые мягкие кудряшки; створочки густо-розовые, точно лепестки живого цветка. Они исправно впускали входящего и совершали женскую свою работу с таким проворством, так сочились нежнейшим медом, что зря я подумал… будто она не откликается на мои ласки12.
В другом фрагменте говорится:
Помню одно холодное зимнее воскресенье, когда Анна пришла ко мне после полудня, – день блеклых окраинных фасадов и благопристойных окраинных видов, когда я отправился в пустынный музей о чем-то справиться в книге, а когда вернулся, мне показалось дикостью и неприличием то, как она сняла розовую комбинацию и осталась в прозаическом бюстгальтере: теплое липкое тело с мшистым и влажным низом… меж холодными дневными простынями в пасмурной воскресной комнате; как-то вечером, когда я вернулся домой с вечеринки, на которой Имоджен подарила меня улыбкой в ответ на мои любезности и нежные ухаживания… и занялся с Анной любовью во второй раз, – стоило ей одеться, и у меня тут же проснулось желание при виде ее белых бедер и ягодиц, мелькнувших меж черным платьем и серыми чулками13.
Уилсон читал Генри Миллера, который в “Тропике Рака” (1934) и “Тропике Козерога” (1939) использовал запретные выражения14. “Любовник леди Чаттерлей” Лоуренса, по замечанию Леона Эдела, редактора уилсоновского сборника “Двадцатые” (1975), определил отношение американцев к сексу и социальным классам15. И хотя сейчас описания Уилсона кажутся вполне целомудренными – во всяком случае, порнографией это назвать нельзя, “все-таки следует помнить, – писал Эдел, – что его честность, верность правде жизни и себе самому вызвала лавину произведений на эротические темы, которые ныне занимают воображение американских писателей”16.
В “Волшебнике”, далеко не таком откровенном, как рассказы Уилсона, все же встречаются красочные описания. Когда безымянный повествователь с ужасом осознает, что его возбуждают девочки-подростки (причем выражено это с помощью завуалированных изощренных сравнений – “еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным”)17, в конце концов выясняется, что
уже его взгляд… пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь… Наконец, решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжатым, чуть липким ногам, шершаво свежевшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям – с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все… – пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся, – по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек18.
Однако в повествовании все же сохраняется недосказанность: растлителю так и не удалось овладеть девочкой. Он трогает ее руками, но куда смелей его взгляд: поневоле вспоминается любовь Набокова к ловле бабочек и наблюдению за ними “в удивительном хрустальном мире микроскопа”, когда герой повести, обреченный через считаные минуты погибнуть под колесами грузовика, созерцает райское блаженство.
Возможно, Набоков вернулся к этой теме еще и потому, что чувствовал: этот материал, рискованный, трудный для автора, может обернуться невероятным успехом. Причем успехом не только и не столько коммерческим, хотя, разумеется, Набокову этого хотелось бы (“Все мои предыдущие книги в финансовом отношении, к несчастью, оказывались полным провалом”, писал он Кэтрин Уайт в 1950 году)19, но и стилистическим. К “Волшебнику” у Набокова были именно стилистические претензии. Диалоги, которые в “Лолите” претерпят изменения и окажутся куда свободнее, живее и распущеннее, в “Волшебнике” скованны. Герои изъясняются так длинно и складно, что не сразу и разберешь, кто это говорит – мужчина ли, женщина, – и те и другие словно задыхаются, затянутые в корсет:
– Теперь посидим и потолкуем, – через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван… Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, – иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь… Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, – что может измениться?20
– Но поймите, продолжил он тише… – поймите, что я хочу сказать: отлично – мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки21.
Набоков высмеивает косность и церемонность своих героев, однако и повествование его несвободно от этих качеств. Тема безнравственности фиктивного брака (который в “Лолите” обыгрывается с черным юмором) практически не раскрыта. Педофилия ведет к быстрой гибели, и на этом пути не бывает остановок для дьявольских импровизаций, для разнузданных гумбертовых утех.
Если Набоков собирался пополнить ряды авторов, которые пишут о сексе, – допустим на минуту, что такая мысль могла прийти ему в голову, – ему надо было как-то выделиться. И с “Лолитой” ему удивительным образом удалось этого добиться. Свойственный его повествованию вуайеризм, в “Волшебнике” смахивавший на обычное любопытство, в “Лолите” усугубляется. В “Волшебнике” безымянная девочка выведена слишком общо, Лолита же предстает перед взором гения оригинальности, и окружающая ее обстановка описана столь же живо.
Девочка на роликах проносится перед взглядом читателя так стремительно, что черты ее расплываются – зубы, кудри, прелестные щеки. Лолита же завораживает, так что время необъяснимым образом замедляется, и ее совратитель, сперва ослепленный страстью, тоже учится сдержанности. В начале книги он видит “всего лишь застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака”22. Потом на читателя обрушивается поток открытий, описанных на все лады – глуповатых, напыщенных, наукообразных, ироничных, восторженных. Ни дать ни взять, “Птицы Америки” Одюбона, посвященные одной-единственной девочке, представительнице породы нимфеток:
…я посвятил мадригал черным, как сажа, ресницам ее бледносерых, лишенных всякого выражения глаз, да пяти асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, да белесому пушку на ее коричневых членах… я мог бы сказать… что волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец… ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки23.
“Пишущая дама” смогла бы изучить нимфетку с клинической точки зрения, то есть куда тщательнее, но именно под жадным воспаленным взглядом Гумберта Гумберта она оживает:
Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках… Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями… и кидать ими в валявшуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь – что за дикая пытка – не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная, и загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает24.
Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью – понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Холливуда… Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том…25
И далее Гумберт Гумберт – насиловавший малолетнюю пленницу по три раза в день – не прекращает изучать Лолиту. Гнездящиеся в душе “гниющие монстры” не слепят героя – напротив, зрение его становится лишь острее, нежнее:
На ней было первое ее пальто с меховым воротничком; коричневая шапочка венчала любимую мою прическу – ровная чолка спереди, завитушки с боков, и природные локоны сзади – и ее потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались еще более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки ее все время жестикулировали: она то наступала левой на подъем правой, то отодвигала пятку назад или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков, – и начинала всю серию снова… Но больше всего мне нравилось смотреть на нее – раз мы уже заговорили о жестах и юности, – когда она, бывало, колесила взад и вперед по Тэеровской улице на своем новом велосипеде, тоже казавшемся прелестным и юным. Она поднималась на педалях, чтобы работать ими побойчее, потом опускалась в томной позе, пока скорость изнашивалась. Остановившись у почтового ящика, относившегося к нам, она (все еще сидя верхом) быстро листала журнал, извлеченный оттуда, совала его обратно, прижимала кончик языка к уголку верхней губы, отталкивалась ногой и опять неслась сквозь бледные узоры тени и света26.
Источник пульсирующей, пугающей энергетики романа – пристальный взгляд на запретное. Плененная нимфетка для Гумберта Гумберта – неистощимый предмет для описания: но Лолита, как ни странно, всего лишь девочка.
С первых же страниц становится ясно, что роман о сексе. Доктор философии Джон Рэй, автор предисловия, рекомендуется читателю специалистом по “патологическим состояниям и извращениям”27, обещает, что “пошлые иносказания” не обесцветят ситуации и эмоции, описанные в романе, и предуготовляет читателя к “соблазнительным”28 сценам. Предисловие, которое большинство критиков считают насмешкой Набокова, пародией на тексты такого рода (слово самодовольного и ограниченного редактора, вообразившего, будто понимает роман, о котором решился написать), имеет давнюю традицию: многие известные американские писатели – те же Уитмен и По – сочиняли под псевдонимами рецензии на собственные произведения. Набоков устами Рэя заявляет высшую ценность своего романа: это “трагическая повесть, неуклонно движущаяся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом”. И хотя у нас есть все основания заподозрить, что Набоков в данном случае лукавит, однако его поборники (главным образом жена и сын) в следующие пятьдесят лет будут приводить тот же аргумент:
Великое произведение искусства всегда оригинально; оно само по своей сущности должно потрясать и изумлять, т.е. “шокировать”. У меня нет никакого желания прославлять г-на “Г. Г.”. Нет сомнения в том, что он отвратителен, то он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость… Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору!29
Еще один американский (точнее, принявший американское гражданство иностранец) писатель, нахальный выскочка, чье имя встречается на этих первых страницах – Фрэнк Харрис, автор самых скандальных мемуаров о сексе, которые были опубликованы во времена Набокова. Гумберт Гумберт, также как и Харрис в “Моя жизнь и любови” (My Life and Loves, 1922), в три года остался без матери; у него рано пробудилась сексуальность (у Харриса в пять, у Гумберта чуть позже, когда он впервые отметил “довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона La Beaut Humaine”30.
Набоков пародирует Харриса и прочие эротические мемуары, но вместе с тем создает еще один образец такого жанра31. Секс в романе – не лейтмотив истории: он сам история, все остальное – лишь декорации. В отличие от Харриса, мнившего себя защитником потаенных традиций в англоязычной литературе, “абсолютной свободы, как у Чосера и Шекспира, совершенной прямоты, любви к сладострастным подробностям и остроумным непристойностям, к живой речи”32, Набоков не может или не хочет преодолеть отвращения к сквернословию. “Лолита”, как и “Волшебник”, пестрит эвфемизмами, но здесь они не в силах прикрыть (в большинстве случаев, наоборот, подчеркивают) шокирующую прямоту, небывалую откровенность, с которой писатель говорит о физиологии:
В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени33.
Гумберт и Лолита в доме одни: миссис Гейз ушла в церковь. На Гумберте шелковый халат. “К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием”, и ему удалось “при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать мою замаскированную похоть к ее наивным ногам”34.
Сказанного оказалось бы достаточно, чтобы героя “Волшебника” охватило мучительное, даже, пожалуй, смертельное чувство вины. Гумберту же все нипочем. Он не станет насиловать девочку, но свое все же получит:
Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете – и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперек нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти35.
Лолита, похоже, ничего и не замечает – жует себе “эдемски-румяное яблоко”. В последующем описании того, как Гумберт сладострастно трется о ноги Лолиты, время растягивается и замедляется, будто повинуясь размышлениям о нимфетке, вводит читателя в транс, точно сексуальное колдовство: “Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела”36. Гумберт продолжает:
Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется… То, что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который теперь достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности – состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство37.
И вот уже ему мнятся обитательницы гарема, а себя он чувствует султаном. Гумберт Гумберт описывает состояние, которое по-гречески называется kavla – то есть ощущение стремительно надвигающегося оргазма, его извечную неотвратимость:
В самодельном моем серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны… я все повторял за Лолитой случайные, нелепые слова… как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела дозволенного тенью приличия38.
Лолита, похоже, тоже на грани. Гумберт касается синяка на ее ноге, и она
…со внезапно визгливой ноткой в голосе… воскликнула: “Ах, это пустяк!”, и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестевшую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до ее голой шеи, покаместь я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским39.
Несмотря на “затейливость прозы”, это самый настоящий половой акт, описанный подробно и до самого конца. Раньше в произведениях Набокова ничего подобного не было. Судя по описанию, нимфетка тоже получает удовольствие, сидя на коленях у насильника: Лолита ведет себя как взрослая женщина, испытывающая оргазм (вскрикивает, корчится, извивается, запрокидывает голову, прикусывает губу). Набоков делает возможным то, что прежде для него было невозможно или немыслимо. Джентльмен-европеец из “Волшебника” трансформировался в невиданного, необузданного монстра в обычном американском доме, насытившегося, потного, “купающегося в блаженстве избавления от мук”40: ему и в голову не придет сводить счеты с жизнью.
Набоков писал “Лолиту” пять лет41. Нагрузка в Корнелле оказалась легче, нежели в Уэлсли (по крайней мере, первое время), платили лучше, главы из “Память, говори” регулярно выходили в New Yorker и привлекали внимание читателей, Дмитрий хорошо учился в школе-пансионате, которая нравилась его родителям, так что Набоков смог наконец сесть за новый большой роман.
Книга давалась ему с трудом. “Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика”42, – признается он в послесловии к американскому изданию романа; биографы Набокова сходятся на том, что он действительно пытался уничтожить книгу43: первый раз – осенью 1948 года, когда он только-только начал преподавать в Корнелле, а второй – два года спустя. Вера героически спасла рукописи: выхватила карточки или исписанные листы из оцинкованного резервуара, в которой ее муж развел огонь, затоптала пламя и припечатала: “Это надо сохранить!”, с чем Набоков согласился44.
Сжечь рукопись, а не просто выбросить в ведро, Набоков решил, видимо, потому, что материал сам по себе был опасный, взрывной. Часть заметок он уничтожил, так что рукопись “Лолиты” не сохранилась: автор сжег карточки, на которых писал45, после того как был готов чистовой экземпляр. Попытки уничтожить незаконченное произведение выглядят неестественно и чересчур театрально. Вера каждый раз бросалась спасать бумаги: когда ее не быо поблизости, Набоков огня не разводил.
Разумеется, его беспокоило, что ни одно американское издательство не возьмется за публикацию (в особенности после гонений, обрушившихся на “Мемуары округа Геката”), но работу над рукописью Набоков не прерывал. Да, он боялся за роман, но и возлагал на него определенные надежды. Сложно сказать, почему процесс шел с таким трудом: Набоков винил во всем “перебои… и работу над другими книгами”46 – действительно, в те годы он бывал очень занят, так что времени совершенно не оставалось. Но обычно, если не хватает времени на то, чтобы писать, пересматривают расписание или откладывают рукопись на время, а не сжигают. Еще Набоков винит возраст:
Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней “реальности”… в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания47.
Дело было вовсе не в том, что Набоков якобы выдохся: наоборот, в те годы он был полон сил, много писал. После перехода в Корнелльский университет он создал массу замечательных произведений: никому из современников Набокова, пишущих по-английски, не удалось добиться такого же успеха. Так что жалобы на сложности в “добывании местных ингредиентов” и нехватку “восприимчивости и запоминания”, на первый взгляд, не соответствуют действительности, причем за этим не кроется никакой игры: Набоков не лукавил. Он был открыт новым впечатлениям и полностью погружен в американские темы.
Открытка, которую Набоков прислал Уилсону из Вайоминга летом 1949 г.
В те годы, когда Набоков писал “Лолиту”, он как никогда часто и с огромным удовольствием путешествовал по Западной Америке. Места, в которых побывал писатель, – мотель Corral Log в Афтоне, штат Вайоминг, ранчо Тетон-Пасс неподалеку от Джексон-Хоул, “жизнеутверждающий и великолепный Valley View Court”48, единственный мотель в Теллуриде в 1951 году, горы Чирикауа неподалеку от Портала, штат Аризона, “небесный остров” посреди пустыни – вот из чего складывалась местная специфика в “Лолите”. Во всех этих городках Набоков работал над романом. Мысль о том, что замыслу новой книги не хватает лишь “местных ингредиентов” (впрочем, канадские или мексиканские тоже подойдут), которые нужно “подлить… в раствор индивидуальной фантазии”, для Набокова была не нова. Он утверждал, что для него, как и для Моцарта, главное – воображение: необходимо и достаточно. Но американский колорит играл в данном случае определяющую роль. Он придавал “раствору фантазии” смысл и содержательность. “Старое барахло”, которое Набоков привез из Европы49, в Америке обрело новую жизнь. И попытки сжечь рукопись, скорее всего, были спровоцированы тревогой, которую вызывала у писателя дерзость собственного замысла.
“Лолита” изобилует подробностями американской жизни, и многие читатели с потрясением и восторгом следили за путешествием героев по Америке середины XX века, словно смотрели то цветное, то черно-белое кино. Казалось, именно Америка наделила персонажей романа такой дерзостью, с которой, должно быть, некогда Прометей похитил у богов огонь.
Америку не смущали никакие преграды. Откровенность придумали не в Америке, но именно американские писатели демонстрируют готовность перейти все границы и поговорить о запретном. Уилсон тоже отважился откровенно написать о сексе50, точь-в-точь как его прославленные предшественники и последователи – Генри Миллер, Уильям Фолкнер в “Святилище”, Норман Мейлер в “Нагих и мертвых”, Джек Керуак в “Городке и городе” и “В дороге”, Уильям Берроуз в “Джанки” и “Голом завтраке”. Набоков тоже влился в эти ряды авторов, презревших всякие приличия. Как он признается в послесловии к американскому изданию “Лолиты”, “я… стараюсь быть американским писателем и намерен пользоваться правами, которыми пользуются американские писатели”51. Набоков имел в виду как право “вдохновляться мещанской вульгарностью”, так и право на прямоту, на откровенное высказывание.
Он не был литературным поденщиком, стремившимся угодить публике и заработать денег. Набоков писал то, что считал нужным, и иначе не мог. Пока он работал над “Лолитой”, в печати появились его русские мемуары, и несмотря на то, что публиковали их такие популярные журналы, как New Yorker и прочие, “Память, говори” тоже “глухо шлепнулась”: продажи шли туго. Роман принес Набокову славу, но не деньги52, как он признавался сестре. Казалось, до мифической широкой американской аудитории достучаться невозможно53.
Но Америка все же откликнулась на призыв. Осенью 1939 года во Франции, когда Набоков написал “Волшебника” и как-то вечером прочел его друзьям, история о педофиле, сбежавшем с ребенком, произвела на слушателей впечатление. В Америке же реакция оказалась иной. Как и автору истории о быках и плащах, который перенес действие романа в Испанию[42], Набокову удалось-таки обратить на себя внимание читателей, и печальное, недолгое блаженство героя “Волшебника”, бежавшего с падчерицей, разворачивается в “Лолите” в целое путешествие. Марк Твен, еще один американский писатель, к которому Набоков относился свысока (24 марта 1951 года он писал Уилсону об Американской академии: “Абсолютно ничего про эту организацию не знаю и сначала спутал ее с какой-то марктвеновской шарашкиной конторой, которая в прошлом чуть было не заполучила мое имя”54), слыл мастером этого литературного жанра. Произведения Твена созданы в русле традиции рассказов о беглых рабах и о похищенных индейцами белых жителей приграничных поселений. Чаще всего похищали женщин. Первой популярной книгой на эту тему стали воспоминания “Божья власть и доброта: рассказ о похищении и освобождении госпожи Мэри Роулендсон” Мэри Роулендсон, жительницы Массачусетса, захваченной в плен индейцами племени наррагансет во время войны короля Филиппа (1675–1678). Книга стала первым американским бестселлером55 и за следующие 150 лет выдержала 30 переизданий56. К 1800 году появилось уже 700 различных историй о пленниках индейцев57: Сюзанна Роусон и Чарльз Брокден Браун в полной мере раскрыли тему. То, что пленниц насиловали, подразумевалось, хотя открыто об этом не писали. Набоков живо интересовался такими историями (по крайней мере, был знаком с подобным жанром): он читал о них у Пушкина, который в 1836 году опубликовал в “Современнике” пространную восторженную рецензию58 на французское издание книги под названием “Записки Джона Теннера: тридцать лет среди индейцев”. Пушкин кратко пересказывает содержание истории о маленьком американце, которого в девять лет похитили индейцы племени шони и продали женщине из племени оттава, у которой умер сын. “…Отсутствие всякого искусства и смиренная простота повествования ручаются за истину”59, – пишет Пушкин. Особенно ему понравилось описание животного под названием “муз” (то есть лось), которого поэт называет “американским оленем”60.
Любовь к Пушкину Набоков пронес через всю жизнь. В те же годы, когда писатель работал над “Лолитой”, он вдобавок переводил “Евгения Онегина”61. Скорее всего, Набоков, как и Пушкин62, читал “Последнего из могикан”, лучший роман из цикла о Кожаном Чулке. Купер, как и Майн Рид, который в 1868 году написал роман под названием “Белая скво”, не обошел вниманием тему похищений женщин. Но едва ли решение Набокова взяться за эту тему было вызвано литературным влиянием: вдохновение вообще не поддается объяснению. Он быстро перенимает американский сленг, с любопытством подмечает особенности американского быта, но в выборе темы повествования полагается исключительно на собственное тонкое чутье63: тема эта старая как мир, вызывающая, мнимо-незамысловатая, устремленная вдаль, на бескрайние просторы Америки.
Летом 1949 года Набоков отправился в Солт-Лейк-Сити на писательскую конференцию. Вместе с ним там должны были выступать Уоллес Стегнер, западный писатель, самым известным произведением которого считается полуавтобиографическая книга Big Rock Candy Mountain (“Большие славные скалистые горы”, 1943), и доктор Сьюз (Тед Гейзель), автор “Подумать только, что я увидел на Тутовой улице” (1937) и “Бартоломью и Ублек” (1949). Был там и Джон Кроу Рэнсом, редактор литературного журнала Kenyon Review. Рэнсом показался Набокову умным и приятным, доктор Сьюз тоже ему понравился64. Остановились Набоковы в женском общежитии университета штата Юта. Они приехали на собственном автомобиле, “олдсмобиле” 1946 года выпуска: после поездки в Стэнфорд это было их первое путешествие через всю страну. Вера в Итаке брала уроки вождения, но пока что боялась ехать одна, так что Набоковы пригласили с собой студента из Корнелла, 19-летнего Ричарда Баксбаума, который сменял Веру за рулем.
Романы из цикла о Кожаном Чулке, иллюстрация на обложке К. Оффтердингера
Баксбаума позвали еще и для того, чтобы Дмитрий не скучал65. Они с Ричардом болтали о девушках. На конференции каждый решил “найти себе подружку” на время пребывания в Солт-Лейк-Сити. Баксбаум проводил за рулем больше времени, чем Вера. Рядом с ним на переднем сиденье обычно устраивались Вера или Дмитрий, Набоков же с записной книжкой всегда сидел сзади. Они ехали прямой дорогой, почти как Гумберт Гумберт во время второго своего долгого путешествия с Лолитой66, через северо-восток, через весь штат Огайо, затем через “три штата, начинающиеся на И”, потом через Небраску – “ах, это первое дуновение Запада!”67 – восклицает Гумберт: конечная цель его пути – Калифорния, где он надеется нелегально перебраться с Лолитой в Мексику. Реальные же путешественники останавливались в мотелях68, как и герои романа; мальчики жили в одном номере, Владимир с Верой в другой, причем, как отметил Баксбаум, предпочитали комнаты с отдельными кроватями.
Пик Разочарования, хребет Титон, Вайоминг
“Мы ехали не спеша”, сказано в романе: Набоков и его спутники добирались до Солт-Лейк-Сити одиннадцать дней – даже для того времени это считалось небыстро. Лолите “страстно хотелось посмотреть на Обрядовые Пляски индейцев в день ежегодного открытия Магической Пещеры”; на самом же деле втайне от Гумберта Лолита замыслила бежать с Куильти, другим педофилом. В мотелях их встречают вывески, на которых написано:
Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный (подчеркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предуведомления всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчеркнуто) нежелательного материала в унитаз. Благодарствуйте… Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьми на Свете69.
Гумберт вспоминает, что “две постели стоили нам десять долларов за ночь”, что “мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась”, что “прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке”70. Вымышленный 1949 год похож на настоящий, и наоборот – Гумберт подмечает, как изменились строения вдоль дороги:
Я заметил, между прочим, перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный караван-сарай, а там нарастал и второй этажик, между тем как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж71.
Баксбаум восхищался Верой. Она была грациозна, с “прекрасной осанкой – очаровательна, просто очаровательна”72. Набоков напоминал Баксбауму другого знакомого из Восточной Европы, который также знал несколько языков и отличался безукоризненными манерами. (Родители Баксбаума были немецкие евреи, которым в 1939 году посчастливилось бежать в Америку. Отец Баксбаума работал врачом в городе Канандайгуа, штат Нью-Йорк, в резервации племени могавков на границе с канадской провинцией Квебек.)
После завершения конференции путешественники направились в горы Титон, где Набокову давно хотелось половить бабочек. Он заранее посоветовался с Александром Б. Клотсом73, лепидоптерологом из Американского музея естественной истории. Клотс попытался успокоить Веру, которая боялась гризли, и предупредил, что лоси тоже бывают агрессивными: “Я бы предпочел встретить десять медведиц с медвежатами”74. К югу от хребта Титон75, где река Хобак сливается со Снейк, они двинулись на юг и остановились на ранчо Бэтл-Маунтин, где Набоков увлеченно охотился за бабочками. На ранчо Титон-Пасс, что в городке Уилсон, штат Вайоминг, в 11 километрах к западу от Джексон-Хоул и к югу от подножия Титонской гряды, они пробыли дольше, почти месяц. Оттуда Баксбаум отправился автостопом обратно в Корнелл, но прежде они с Дмитрием попытались подняться на пик Разочарования рядом с восточным отрогом Гранд-Титон. Забраться на гору не удалось, зато молодые люди пережили целое приключение76. Специального снаряжения у них с собой не было, и они в простых теннисных туфлях полезли на крутой двухкилометровый откос. До вершины (высотой почти в 3600 метров) оставалось совсем чуть-чуть, но Дмитрий с Ричардом не решились лезть дальше. Чтобы спуститься, нужно было перепрыгнуть с одного уступа на другой, пониже: оступишься – упадешь и разобьешься. Два часа они собирались с духом, наконец прыгнули – сперва один, а за ним и другой.
Когда спустя несколько часов они вышли из леса, Баксбаум понял, что Набоков злится, однако тот не сказал ни слова упрека. Разумеется, родители не находили себе места от волнения.
18 августа Набоков писал Уилсону: “Мы пережили замечательные приключения… и на следующей неделе возвращаемся. Я потерял много фунтов и поймал много бабочек”77. На обратном пути они завернули в Канаду и проехали севернее Великих озер. За год до этого, весной, после путешествия на машине с Верой, Набоков описывал Уилсону “прекрасные сокровенные пейзажи”78, которые они видели между Итакой и Манхэттеном. Жена, по словам Набокова, “отлично” его прокатила. Они теперь были американцами: могли в любой момент отправиться на машине куда хотели79. Их автомобили: плохонький “плимут” 1940 года, в котором то и дело что-то ломалось, “олдсмобиль”, новый зеленый “бьюик спешиал”, купленный в 1954 году, “восхитительная белая [шевроле] импала”80, которую Набоковы брали напрокат во время краткосрочного пребывания в Лос-Анджелесе, – стали вехами определенных периодов жизни и свидетельством скромного достатка. Герои “Лолиты” ездили в “олдсмобиле” – том самом, который Вера останавливала в тени придорожных деревьев, когда Владимиру требовалось тихое уютное место, чтобы писать. Знаменитая фотография 1958 года, снятая фотографом журнала Life Карлом Мидансом, на которой Набоков пишет в машине, впрочем, постановочная81: в кадре не легендарный набоковский “олдс”, а двухдверный бьюик, и стоит он на обочине дороги неподалеку от Итаки.
Глава 12
Во время следующего путешествия на Запад, в 1951 году, Набоков продолжал наблюдать и делать заметки. В Америке его интересовало абсолютно все1. Записи Набокова свидетельствуют о желании во всем разобраться, об интересе к предмету: например, он записывал информацию о характере и физиологии американских девочек-подростков: в каком возрасте у них в среднем начинается менструация, как меняется поведение, как правильно ставить клизму2. Он собирал девчачий сленг3 из подростковых журналов, и то, что родной язык у него был все-таки русский (хотя правильный английский Набоков прекрасно знал), помогло ему обратить внимание на такие разговорные фразы, как “It’s a sketch” (“Вот умора”) или “She was loads of fun” (“С ней не соскучишься”).
Для вдохновения Набокову нужны были подробности, реальные факты. Ни один другой писатель его времени так трепетно не относился к реальности, в объективности которой можно убедиться на личном опыте, и одновременно не подвергал таким сомнениям, если принимать всерьез предупреждение Набокова о том, что все преходяще. Он специально ездил в автобусах, чтобы подслушать, как говорят подростки, а для сцены с любопытной мисс Пратт4, начальницей Бердслейской школы, встретился с настоящей директрисой под предлогом, что его дочь якобы хочет у них учиться.
В конце марта 1950 года Набоков прочел в газетах о сенсационном преступлении. Безработный автомеханик по имени Фрэнк Ласалль похитил 11-летнюю девочку Салли Хорнер и два года держал ее в наложницах: он и его маленькая рабыня отправились из Нью-Джерси в Калифорнию через Техас, но в мотеле в Сан-Хосе похитителя арестовали. Ласалля описывали в газетах как “насильника с хищным лицом”, с “длинным списком преступлений против морали”, а Салли – как “пухлую девочку”, “симпатичную девушку со светло-каштановыми волосами и сине-зелеными глазами”5. Набокову будто подарили вторую часть “Лолиты”, ее композицию. Салли провела в плену двадцать один месяц, при этом ходила в школу и в конце концов поделилась секретом с одноклассницей: та и сказала Салли, что это преступление. Лолита и Гумберт Гумберт тоже путешествовали в течение двадцати одного месяца, прежде чем нимфетка пошла учиться в Бердслейскую школу. Гумберт боялся, что она проболтается обо всем подружкам, которые подучат ее бежать. Ласалль манипулировал Салли, внушив девочке, будто он агент ФБР, который отправит ее “туда, где таким девчонкам, как ты, самое место”, если она не будет его слушаться. Гумберт также втолковывает Лолите, что, если его посадят в тюрьму, ее, как круглую сироту, отправят в “дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков, или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны”6.
Ласалль случайно увидел, как Салли совершила кражу в магазине, поэтому, похитив ее, угрожал, что пошлет “туда, где таким, как ты, самое место”. Пожалуй, это главное, что позаимствовал Набоков из этой истории: Гумберт также внушает Лолите, что она преступила закон, совратила “взрослого под кровом добропорядочной гостиницы”7, позволила “познать ее телесно” той ночью в “Зачарованных Охотниках”. Не по годам развитая и во многом очень сообразительная, Лолита все-таки еще ребенок, и ее легко одурачить. Также из дела Ласалля Набоков позаимствовал описание героини (“симпатичная… светло-каштановые волосы и сине-зеленые глаза”) и судьбу Лолиты, предсказанную короткой жизнью Салли: через два года после освобождения из плена она погибла в автокатастрофе (Лолита умерла в родах). Для обеих девочек поруганное детство и ранняя сексуальная жизнь обернулись гибелью: несмотря на все надежды и попытки начать все сначала, обе оказались обречены.
Дневник за 1951 год8, заметки, которые писатель делал во время путешествия, свидетельствуют о любопытстве и внимании, с какими Набоков наблюдал за окружающей действительностью. “Воскресенье, 24 июня… выехали в 7.30 вечера. Пробег 50,675, цветет клевер, низкое солнце в платиновой дымке, тепло, персиковый верхний край одномерного бледно-серого облака сливается с далеким туманом”. Пейзажи севера штата Нью-Йорк напоминали Набокову “раскрашенные клеенки… которые вешались на стене над умывальниками… с зелеными деревенскими видами… с амбаром, стадом, ручьем” из детства в России. Он с удовольствием осознавал, что первые впечатления об Америке были “привезены отсюда” – из сельской местности северной части штата Нью-Йорк или похожих мест.
Эти впечатления нашли отражение в “Лолите”. “Лолита не только была равнодушна к природе, – пишет Гумберт Гумберт о первом их путешествии длиною в год через всю страну, – но возмущенно сопротивлялась моим попыткам обратить ее внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта”. И далее:
Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды североамериканской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребенка зелеными деревенскими видами, запечатленными на них – матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьем, мутной белизной каких-то неясно цветущих плодовых садов и, пожалуй, еще изгородью, сложенной из камней, или гуашевыми холмами9.
“Бледно-серое облако” попадает в знаменитое описание “плоского сизого облака”, которое в лучах заходящего солнца кажется персиковым. В реальном штате Миссури, у ресторана, где “счет официантка скромно засунула между рулетов”, Набоков заметил уже другое небо – на этот раз на нем “облака Клода Лоррэна… сливались с туманной лазурью… часть их… выступала на неопределенном фоне”. В “Лолите” мы читаем:
Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лоррэна были вписаны в отдаленнейшую, туманнейшую лазурь, причем одна только их кучевая часть ясно вылеплялась на неопределенном и как бы обморочном фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями10.
Записи из набоковского дневника снова и снова встречаются в тексте романа. Пожалуй, дело не в том, что писатель вдохновлялся увиденным и писал об этом заметки, которые впоследствии мы видим в “Лолите”, – скорее, Набокову нужны были подробности, чтобы решать творческие задачи. Он каждый день смотрит на небо (или каждый раз, как ему это нужно, чтобы решить какой-то вопрос) и видит в нем что-то, что можно использовать: сказать, что Набоков вдохновлялся пейзажем, значит сильно романтизировать процесс.
Он создает то, что ему нужно, из того, что находит, он “выдумывает Америку”, глядя на нее глазами творца, готовый выстроить в нужном порядке те слова, что неотделимы от объекта восприятия. Он воплощает в описании11 небо в определенный день, как дерево философа, которое то ли падает, то ли нет, в лесу. С точки зрения биографии он фиксирует то, как учился читать Америку. Этот процесс (или его подобие) Набоков приписывает Гумберту Гумберту. Сперва такие сцены в книге кажутся довольно банальными, точно картинки на клеенке, и повествователь описывает пейзажи эдак снисходительно, без особого интереса, но “поволока никому ненужной красоты” все-таки пленяет Гумберта, и хотя Лолита остается равнодушной, он научился ценить ландшафт “только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути”12.
Разумеется, пейзажи, которые видел Набоков (безусловно, живописные), – не главное в романе. Однако повествователь подмечает причуды и делает выводы. Год сумасбродных скитаний по мотелям (с августа 1947-го по август 1948-го) начался
с разных извилин и завитков в Новой Англии; затем зазмеился в южном направлении, так и сяк, к океану и от океана; глубоко окунулся в ce qu’on appele “Dixieland”; не дошел до Флориды… повернул на запад; зигзагами прошел через хлопковые и кукурузные зоны… пересек по двум разным перевалам Скалистые Горы; закрутился по южным пустыням, где мы зимовали; докатился до Тихого Океана; поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам; почти дошел до канадской границы; и затем потянулся опять на восток, через солончаки13.
Они побывали практически “всюду”, но “в общем ничего не видали”, признается Гумберт: он имеет в виду, что все затмили похоть и стыд от того, что он сделал с ребенком. Их длинное путешествие “всего лишь осквернило извилистой полосой слизи” мечтательную огромную страну: поездка свелась “к коллекции потрепанных карт, разваливающихся путеводителей и к ее всхлипыванию ночью – каждой, каждой ночью, – как только я притворялся, что сплю”14.
Во время путешествия Гумберт Гумберт и Лолита словно утрачивают ощущение реальности происходящего. Даже
…в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денек… или хорошо и сытно обедали в битком набитом “дайнере” (оседлом подобии вагона-ресторана), или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся, кровью обрызганную машину и на женский башмачок в канаве… во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она – дочерью15.
Разумеется, никакими отцом и дочерью они и не были: перед нами педофил и его жертва. Оба притворяются – у каждого на то свои причины, – и от этого в одном из них просыпается чутье на похожие явления, на подоплеку тайны. “И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, кричали поезда, – вспоминает Гумберт Гумберт в духе Аллена Гинзберга, – с душераздирательной и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле”16. Он увозит Лолиту на “таинственную, томно-сумеречную, боковую дорогу”, где нимфетка ласкает его, и далее:
По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные и гигантские рождественские елки, поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика. И снова, на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселенного неба, и Лолита требовала прохладительного напитка… и когда мы возвращались в машину, температура там была адская; перед нами дорога переливчато блестела; далеко впереди встречный автомобиль менял, как мираж, очерк в посверке отражающем его и как будто повисал на мгновение, по-старинному квадратный и лобастый, в мерцании зноя17.
Автомобиль, похожий на мираж, служит предвестником того, который Гумберт заметит позже: за рулем преследовавшей их машины – тень и альтер эго Гумберта Гумберта, тоже педофил, сценарист Клэр Куильти. Вдалеке вырастают миражи. По мере того как путешественники продвигаются все дальше на запад, Гумберт отмечает “загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курганы в кляксах можжевельника, и затем настоящая горная гряда, бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый”18.
Мошенник и самозванец, он путешествует среди двусмысленных пейзажей. Свобода ехать куда угодно, преодолевать в день сотни миль, останавливаться под вымышленными именами (как делает и Куильти) в мотелях, похожих один на другой: вот рукотворный анонимный мир, наложившийся на таинственный ландшафт. Чем пристальнее Гумберт всматривается в Америку, тем более незнакомой и странной она ему кажется. Здесь зреют иллюзии, рождаются сновидцы и аферисты. Чем больше Гумберт колесит по дорогам Америки, тем сильнее его паранойя. Сперва путешествие сулит радость:
Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу сорока восьми штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе; в упоенном молчании мы скользили по их черному, бальному лоску19. Впрочем, иногда после целого дня пути они оказывались незнамо где, и вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов на мучимых ветром блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении… противоречившем всем человеческим правилам дорожного движения20.
Куильти, который действительно преследует их и который оказывается чертовски хитроумным мучителем, среди блеклых стеблей и клочков туалетной бумаги смотрится на удивление естественно. Он порочен, как и Гумберт, и так же ловко играет словами, но в том, что касается нравственности, они несхожи. Гумберта мучит чувство вины за то, что он сделал с Лолитой, у него болит душа (или то, что заменяет ему душу); Куильти же испорчен до мозга костей, и мучит его лишь скука. При этом он невероятно активен – ни дать ни взять, мошенник наподобие главного героя мелвилловского “Искусителя” (1857), искусный манипулятор, виртуозный лжец21. Куильти чем-то напоминает Чичикова, героя “Мертвых душ”, но Чичиков все же мошенник рангом пониже: он не столько коварен, сколько смешон. Куильти же в некотором роде художник, чародей.
Набоков высмеивает комментаторов, пытавшихся отыскать в “Лолите” скрытый смысл.
Несмотря на то, что давно известна моя ненависть ко всяким символам и аллегориям… один во всех других смыслах умный читатель, перелистав первую часть “Лолиты”, определил ее тему так: “Старая Европа развращает молодую Америку”, – между тем как другой чтец увидел в книге “Молодую Америку, развращающую старую Европу”22.
Читатели, разумеется, вольны видеть в тексте все, что им угодно: романы становятся мифами, потому что так воспринимают их читатели. “Лолита” так и манит истолкователей. В романе описано путешествие по “лоскутному одеялу сорока восьми штатов”, которое, совершенно в духе Уитмена, охватывает всю Америку и обращает внимание на относительно новое, развивающееся явление, как его представляют журналы и телепередачи того времени: пригороды. Повествователь пускается в псевдоаналитические размышления (предмет неизменных насмешек Набокова), старается разложить все по полочкам:
Мы узнали – nous connmes, если воспользоваться флоберовской интонацией – коттеджи, под громадными шатобриановскими23 деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные… Были домики избяного типа, из узловатой сосны… Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот…24 Nous connmes – (эта игра чертовски забавна) – их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия – все эти “Закаты”, “Перекаты”, “Чудодворы”, “Красноборы”, “Красногоры”, “Просторы”, “Зеленые Десятины”, “Мотели-Мотыльки”… Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй25.






