Набоков в Америке. По дороге к «Лолите» Роупер Роберт
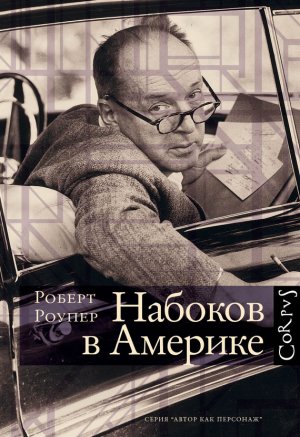
У меня для тебя очень хорошие новости: можно сказать почти наверняка, что тебе доверят перевод “Героя нашего времени”… В прошлый понедельник у нас обедал один из редакторов Doubleday и после долгого разговора с отцом загорелся этой идеей. Сегодня написал и предложил заключить контракт30.
Несмотря на то, что Дмитрий на тот момент уже закончил Гарвард и поступил в Гарвардскую школу права (учиться в которой не имел ни малейшего желания), Вере казалось, что он еще не встал на ноги – по крайней мере, ее письмо, если вдуматься, оставляет именно такое ощущение:
Контракт с Doubleday (если удастся его заключить) будет на твое имя. В книге около 200 страниц… А значит, работать придется усердно, добросовестно, хорошо, переводить по странице в полтора часа, а в день минимум три-четыре страницы… До начала занятий в Лонги ты должен успеть перевести как минимум половину книги. Потом можешь сбавить темп, но все равно придется работать каждый день (без выходных) столько часов, сколько сможешь найти… Работа очень приятная, но и очень трудная, к тому же требует предельного упорства31.
Есть в сыне-американце что-то, что настораживает Веру, – пожалуй, даже несколько черт его характера. “Твой отец, который никогда никому не отказывает32, – как описывает Вера Владимира, – ждет от тебя”33 хорошей работы. Похоже, возможность отказа вообще не рассматривалась. Когда Дмитрий не успел сделать перевод к оговоренному сроку, его родители доделали работу сами. Год спустя, летом 1956 года, Вера его предупреждала:
Даже думать не смей о гонках и прочем. Вспомни сам, как ты в том году распоряжался деньгами: ты получил (и спустил в трубу) весьма круглую сумму (1000 долларов) от Doubleday, причем заработал из нее в лучшем случае треть, а то и меньше; вдобавок ты “взял взаймы” у отца солидную сумму и до сих пор не врнул; ты брал кредиты в банке; все, что заработал, ты потратил до последнего цента; ты вечно сидел без денег… Вместо того чтобы хорошенько отдохнуть, мы с твоим отцом все лето переводили “Героя” и будем биться над ним до конца отпуска. Разве это справедливо? Подумай об этом, сынок, подумай хорошенько, пора уже повзрослеть!34
Дмитрий чем-то напоминал Жабу – не диктатора из “Под знаком незаконнорожденных”, а героя “Ветра в ивах”. У него тоже была “страсть к движущимся предметам”35, причем “намного сильнее”•, чем у других детей, как писала Вера. Он вел себя так, словно ему жить надоело. Во многих произведениях Набокова, написанных в Америке, повторяется мотив смерти ребенка – не только в “Лолите” и “Под знаком незаконнорожденных”, но и в рассказах (“Ланс”, “Знаки и символы”). Поэма “Бледное пламя” в одноименном романе также посвящена в основном смерти дочери.
Сильвия Беркман, приятельница Набокова по Уэлсли, навестила их той весной, когда Набоков читал курс в Гарварде[52]. Она была одной из ближайших подруг Веры по переписке и автором исследования, посвященного творчеству Кэтрин Мэнсфилд. В Уэлсли Беркман и Набоков не всегда ладили36: ее утомляла его веселость. Но к середине 1950-х годов Беркман стала ярой его поклонницей и в некотором смысле протеже. “Сильвия – одна из самых разумных и утонченных американских писательниц37, – так написал в Университет штата Айова Владимир (или Вера), когда Беркман подала заявку на курс писательского мастерства в 1955 году. – Я думаю, что у нее большое будущее. Ее творческий метод отличается вниманием к стилю и живописным деталям и требует досуга”, то есть оплачиваемого отпуска в Уэлсли.
Набоков предложил кандидатуру Беркман в качестве потенциальной стипендиатки фонда Гуггенхайма38. Когда вышла книга ее рассказов, он уговорил издателя, который выпускал и набоковские романы, поддержать писательницу39. Беркман перечитала все, что когда-либо выходило у Набокова, и хотя ее восторги можно списать на соображения личной выгоды, она действительно непритворно им восхищалась40.
Так, о “Пнине” Беркман писала: “Я думаю, отдельные эпизоды превосходны – все проникнуто таким мягким и мудрым юмором и терпким остроумием, что картина получается как живая… с неповторимым привкусом грусти”41. В особенности ей понравилось то, что “Пнин” – роман об университетской среде. “Удивительно совершенное изображение колледжа («Рощи Академии» меркнут по сравнению с ним), не только беспощадное в своей точности, но и гениальное: оно заставляет задуматься о том, что у зануд, быть может, самые благие намерения”.
Беркман по возможности следовала примеру мастера. Провела лето в Стэнфорде, общаясь с теми же людьми, с которыми Набоковы подружились в 1940-х42. Путешествовала по Америке, как Набоков, но не на машине, а на междугородном автобусе, побывала на Диком Западе, превратив эту поездку в настоящее приключение: “Сперва на юг и юго-запад, потом на северо-запад тихоокеанского побережья и на юг через всю страну в Колорадо”43. Останавливалась в основном в дешевых мотелях. В то время “Лолита” как раз вышла и в Америке. В конце 1940-х и в 1950-е годы был популярен жанр “романа дороги”. Вне зависимости от того, читала ли Беркман подобные произведения, путешествовала по стране и открывала ее для себя в духе “Аэрокондиционированного кошмара” Генри Миллера (1947), “Америки день за днем” Симоны де Бовуар (1948), “В дороге” (1957) и “Бродяг дхармы” (1958) Джека Керуака, не говоря уже об эпопее Гумберта Гумберта. Однако, разумеется, Беркман не могла перенять у Набокова все. “Чему я лучше всего научилась у него, – писала Сильвия Вере, – так это ясной, концентрированной скрупулезности, умению подобрать не простое нейтральное слово, а такое, которое задевает за живое”44. Она и сама могла писать с удивительной точностью, раскрывая смутные ощущения, но, как и прочие талантливые последователи психологического реализма, едва ли могла брать Набокова за образец45. Его пример вел к отчаянию:
Я с удовольствием прочла тонкие замечания о “Пнине” в английских газетах и рецензиях… “Лолиту” я считаю самым талантливым и оригинальным романом века. Насколько я знаю, ее часто комментировали в периодике и ежеквартальных журналах: ко всему сказанному могу присовокупить лишь собственное изумленное восхищение и невероятное наслаждение. Как и зачем после такого вообще браться за перо? Этот роман хочется перечитывать снова и снова, что для меня – основное мерило гениального произведения46.
Набоков был гений, и его смелость писать, то есть – в его случае – отважно заниматься самоанализом вопреки большевикам, нацистам и прочим стремящимся подчинить искусство собственным целям, побуждала следовать его примеру. Однако скрупулезность и le mot juste[53] в его случае только полдела. В знаменитом письме Уилсону, в котором Набоков говорит об “особых деталях, уникальных образах, без которых… нет искусства”47, он объясняет не собственные эстетические принципы, а лишь формулирует непременное условие талантливого произведения. Одной точности мало: кроме нее, есть еще много всего. Реальность в его описаниях вибрирует, точно сосулька, по которой ударили тростью. Взять хотя бы “Смех в темноте”:
Оно было действительно очень голубое: пурпурно-синее издалека, переливчато-синее, если подойдешь к нему ближе, алмазно-синее на блестящей крутизне волны. Она поднималась, пенясь, стремительно неслась к берегу, вдруг приостанавливалась и, отступая, оставляла за собой гладкое зеркало на мокром песке, на которое тут же набегала уже следующая волна. Волосатый мужчина в оранжевых трусах стоял у самой воды и протирал очки.
Или, к примеру (оттуда же): “Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный мяч и со звоном заскакал по песку”.
Или: “Вода мокрая, мокрая! – крикнула она и побежала вперед, навстречу прибою, вихляя бедрами и раскинув руки, проталкиваясь сквозь едва доходящую до колен воду”.
В “Лолите”:
Под каким-то крайне прозрачным предлогом… мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственными свидетелями коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного одобрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.
Собственно, эта вибрация происходит исключительно в сознании восприимчивого к подобным явлениям читателя. Автор подходит слишком близко и произносит ровно те слова, которые будут поняты. Они могут быть приятными или смешными, но совершенно необязательно “эстетически прекрасными”: зачастую они очень просты. Они заставляют задуматься, причем мысль сопровождается ощущением, будто читатель уже знал это, видел нечто подобное ранее, просто не удосужился оформить чувства в слова.
Такой писатель, как Беркман – или Джон Апдайк, с которым Дмитрий учился чуть ли не в одной группе в Гарварде и который стал самым горячим поклонником творчества Набокова из представителей молодого поколения, – добивается четкости и точности определений, совершенствует их, но это вовсе не означает некоего прорыва, проникновения в ту сферу, в которой гиперреалистическое перестает существовать. Мэри Маккарти, еще одна писательница-реалистка, оспаривала этот следующий шаг. В письме к Уилсону, когда они оба читали рукопись “Лолиты”, она хвалит “все описания мотелей и прочих характерных особенностей нашей действительности”, но при этом ей кажется, что роман “бежал от реальности в сферу свободных аллегорий или ряда символов… Такое ощущение, будто над каждым персонажем вьется воздушный змей смыслов”48. В результате произведение получилось “ужасно небрежным”, “полным того, что учителя называют «туманом», и обычных для Владимира пустых шуток и каламбуров. Мне даже показалось, что так и было задумано”.
Она оказалась права: так и было задумано. Реальность в романе полна двусмысленности и зачастую противоречит сама себе, она примеряет кавычки и тем самым становится интереснее для Набокова, открывает перед читателем сферу волшебного, первопричину бытия, сознание автора. В “Бледном пламени” (1962) читатель узнает, что “так или этак, а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой”, и этот Вселенский Разум, который, пожалуй, можно отождествить с сознанием Господа, не кто иной, если верить все тому же “Бледному пламени”, как некий верховный плут, одержимый игрой слов, всевозможными уловками и удвоениями, заблуждениями и перекличками между литературными произведениями. “Бледное пламя”, подобно “Пнину” (и в отличие от “Лолиты”), – роман эзотерический и спиритуалистический, понятный лишь посвященным; о нем можно сказать многое, но главное – это попытка постичь высшие сферы. На то, что такое измерение существует, намекают аномалии мира земного, в котором мы обитаем: Высший Разум, создавший мир двойников, загадочных совпадений и тайных соответствий, по забавному совпадению, не что иное, как модель сознания, которое способно все это постичь.
Американской литературе известны произведения такого рода. Эмерсон, Готорн, Уитмен, Дикинсон и множество других, малоизвестных, авторов тоже принадлежали к когорте духоискателей: были таковые до них, были и после, однако к концу XIX века метафизические спекуляции49 в некотором смысле вышли из моды, так что Твен, Джеймс, Хоуэллс и прочие изображают мир без размышлений о божественном. Возможно, нелюбовь Набокова к Джеймсу объясняется тем, что гносеология последнего казалась писателю чересчур заурядной. Окружающий мир, в особенности социальная сфера, сложен и обманчив, однако, по Джеймсу, вполне познаваем50, и это знание заключается в восприятии, которое проверяется опытом других людей. Набоков, хотя и пишет о комизме ужасных, нелепых недоразумений (к примеру, некто мнит себя королем чужих земель, на деле же – никому не известный беженец, преподаватель, как главный рассказчик “Бледного пламени”), утверждает за собой право на такую прозорливость, что ему совершенно не нужно поверять свои знания другими умами. Достаточно и того, что это его метафизические прозрения и загадки: это и есть главное подтверждение их правильности. Разум, который творит миры, – вот наивысшее волшебство.
Как и другие лучшие романы Набокова, “Бледное пламя” – вторая попытка раскрыть тему, новая версия. Какие-то значимые его мотивы присутствовали уже в “Пнине” (кстати, сам Пнин снова появляется в “Бледном пламени”: те читатели, кто переживал из-за того, что бедолагу уволили из университета, могут успокоиться – он благополучно устроился на новую работу). Зимой 1939–1940 годов, закончив “Волшебника”, предшественника “Лолиты”, Набоков написал две главы романа, который так никогда и не был завершен51: впоследствии из него выросло “Бледное пламя”. Это фантазия на тему утраченного царства: в нем есть художник, который оплакивает потерю и надеется, что за гробом встретится с ней. Набоков почувствовал, как шевелится в душе замысел нового романа, нового, но при этом старого, в те самые чудесные годы, когда завершил “Лолиту”, но никак не мог опубликовать так, как ему хотелось, когда написал “Пнина” и погрузился с головой в изучение “Евгения Онегина”, перевел его несколько раз, чтобы снова и снова с мукой в сердце браковать результаты своих трудов и в конце концов создать тот вариант, который наверняка понравился бы Пушкину. Тогда он взялся за новую вещь: в октябре 1956 года Вера написала Сильвии Беркман, что преподавание “мешает Владимиру писать: помимо книги о Пушкине, он пытается работать над новым романом”52.
Замысел “Бледного пламени” созревал долго. Между тем, как Набокову впервые пришла идея романа, и тем, когда он наконец-то начал его писать (в начале 1960-х годов, уже вернувшись в Европу), пронесся “ураган Лолита”53, как его называл писатель, невероятный подъем во всех сферах жизни. В марте 1957 года Набоков послал редактору издательства Doubleday Джейсону Эпштейну предварительный синопсис романа, который запланировал после “Лолиты”: предполагалось, что новому произведению будет свойственен “весьма изощренный спиритуализм”54. “Мое творение посвящено былому и грядущему; мне кажется, я нашел весьма изящный ответ на эти вопросы”.
“Бледное пламя” метафизично, однако не имеет никакого отношения ни к религии, ни к вере. В нем изображено “островное королевство”55, где в результате “бессмысленной и жестокой революции” свергли короля, и он бежал в Америку. Набоков, похоже, собирался поиграть с географией, как уже делал не раз в ранних книгах. Река Гудзон у него течет “в Колорадо”56, а граница между севером штата Нью-Йорк и “Монтарио” окажется “чуть размытой и непостоянной”, но в целом “местоположение и обстановку риэлтор назвал бы «реалистичной»”.
Центральная тема романа57 – то, что человек по имени Чарльз Кинбот рецензирует поэму, которую написал некто Джон Шейд, – в письме Эпштейну не упоминается. Брайан Бойд, считавший “Бледное пламя” “самым совершенным из существующих в мире романов”58, гениально описывает читателя, который впервые открывает эту книгу:
На второй странице предисловия Кинбот сообщает нам, что в последний день своей жизни его друг Шейд объявил ему, что труд его завершен. К этому Кинбот добавляет: “смотри мое примечание к стиху 991”. С этого места мы можем либо читать дальше предисловие и ознакомиться с примечанием, либо поверить автору на слово и сразу обратиться к примечанию. Пойдя по второму пути, мы сразу же убедимся в странноватой привязанности Кинбота к Шейду. Вернувшись домой, он… обнаруживает Шейда “на напоминавшем беседку крыльце или веранде, о которой я упоминал в моем примечании к строкам 47–48”. Что нам тут делать – читать дальше примечание к строке 991, которое уже представляет отношения между поэтом и комментатором в каком-то странном свете, или обратиться к более раннему примечанию? Если мы это сделаем, нас почти сразу же отошлют к примечанию к строке 691, и хотя нам уже не хватает пальцев на закладки и мы начинаем тайно задаваться вопросом, удастся ли нам когда-нибудь вернуться к предисловию, мы все-таки предпринимаем последнюю попытку59.
Набоков не жалеет сил, чтобы позабавить читателя. Это даже немного унизительно. Между 1956 годом, когда в душе его впервые шевельнулся замысел романа, и началом 1960-х годов появились произведения, о которых Набоков знал60 (а некоторые даже хвалил), – например, творения Алена Роб-Грийе и Раймона Кено, представлявшие соответственно французский “новый роман” и литературное течение УЛИПО. Эти романы предвосхитили, а в чем-то даже затмили самые революционные набоковские работы. Возможно, они вдохновили его на дальнейшие эксперименты. Унизительно же все это было для обычного читателя61. После блестящего бестселлера Набоков замыслил роман, который вообще непонятно как читать. Кинбот по-своему пытается помочь:
И хоть эти заметки следуют – в силу обычая – за поэмой, я посоветовал бы читателю сначала ознакомиться с ними, а уж потом с их помощью изучать поэму, перечитывая их по мере перемещенья по тексту и, может быть, покончив с поэмой, проконсультироваться с ними третично, дабы иметь законченную картину62.
Вполне понятно, что комментатор надеется на то, что читатель предпочтет именно его часть. Вероятно, в попытке увеличить продажи книги вдвое (наподобие сообразительного копирайтера, придумавшего написать на бутылке шампуня “Смыть и повторить”) Кинбот признается:
В случаях вроде этого мне представляется разумным обойтись без хлопотного перелистывания взад-вперед, для чего следует либо разрезать книгу и скрепить вместе соответственные листы произведения, либо, что много проще, купить сразу два экземпляра настоящего труда, которые можно будет затем разложить бок о бок на удобном столе.
Ключевой текст книги, длинная поэма Шейда “Бледное пламя”, старомодна как в плане рифмы, так и метра. Бойд признает, что с поэтической точки зрения она “блистательна сама по себе”: “Немногое в английской поэзии может сравниться с «Бледным пламенем»”63. Он полагает, что поэма выросла из творчества Александра Поупа, хотя перекликается и с произведениями других авторов64, в том числе Мильтона, Гете, Вордсворта, Хаусмана и Йейтса. Джон Шейд, университетский поэт-затворник, – малоизвестный северо-восточный автор, или, как он сам говорит о себе в “Бледном пламени”, “…дважды // Я назван был, за Фростом, как всегда // (Один, но скользкий шаг)”65. Его поэма длиной в 999 строк написана классическим английским вольным неравносложным стихом (так называемым “доггерелем”), пусть и нестрогим, но от этого не менее нудным и монотонным. Героические дистихи XVIII века – рифмованные двустишия, написанные пятистопным ямбом, – кажется, кичатся собственным мастерством и аккуратностью:
- Мод Шейд сравнялось восемьдесят в год,
- Когда удар случился. Твердый рот
- Искривился, черты побагровели.
- В известный пансион, в Долину Елей
- Ее свезли мы. Там она сидела
- Под застекленным солнцем, то и дело
- В ничто впиваясь непослушным глазом.
- Туман густел. Она теряла разум…66
Здесь рифма и метр словно управляют смыслом (качество, от которого Набоков старался отмежеваться при переводе “Евгения Онегина”), и все приносится в жертву буквальной точности. Ранее Шейд описывает странный случай из детства:
- Однажды, лет в одиннадцать, лежал
- Я на полу, следя, как огибала
- Игрушка (заводной жестяный малый
- С тележкой) стул, вихляя на бегу.
- Вдруг солнце взорвалось в моем мозгу!
- И сразу ночь в роскошном тьмы убранстве
- Спустилась, разметав меня в пространстве
- И времени, – нога средь вечных льдов,
- Ладонь под галькой зыбких берегов,
- В Афинах ухо, глаз – где плещет Нил,
- В пещерах кровь и мозг среди светил.
- Унылые толчки в триасе, тени
- И пятна света в верхнем плейстоцене,
- Внизу палеолит, он дышит льдом,
- Грядущее – в отростке локтевом.
- Так до весны нырял я по утрам
- В мгновенное беспамятство. А там —
- Все кончилось, и память стала таять67.
Этот фрагмент перекликается с эпизодом, в котором у героя “Пнина” прихватывает сердце и ему мерещится Мира Белочкина. Поэма, как “Прелюдия” Вордсворта68, “о росте моего ума”: история ментального кризиса, имеющего духовное измерение, в русле прочих произведений канона (“Исповеди” Августина, “Божественной комедии” Данте, “Из колыбели, вечно баюкавшей” Уитмена и отдельных частей его же “Песни о себе”). В “Бледном пламени” отразились многие убеждения Набокова. Как он признавался в 1960-е годы в интервью: “Я действительно приписал… некоторым моим более-менее заслуживающим доверия персонажам кое-какие из моих собственных взглядов. Вот, например, Джон Шейд… позаимствовал некоторые мои мнения”69.
Среди этих убеждений попадаются и старомодные капризы: “Ненавижу такие вещи, как джаз” и бои быков, “когда болваны в белых чулках издеваются над животными”. Как и его создателю, Шейду “мерзки”
- …джаз,
- Весь в белом псих, что черного казнит
- Быка в багровых брызгах, пошлый вид
- Искусств абстрактных, лживый примитив,
- В универмагах музыка в разлив,
- Фрейд, Маркс, их бред, идейный пень с кастетом,
- Убогий ум и дутые поэты70.
В метафизике Шейда нет места богу: отголоски этого мы находим и в других книгах Набокова. Так, в “Пнине” герой не верит “во всевластного Бога. Он верил, довольно смутно, в демократию духов. Может быть, души умерших собираются в комитеты и, неустанно в них заседая, решают участь живых”71 – как сгинувшая в концлагере Мира, которая посылает белочек в мир живых, чтобы приободрить Пнина.
“Память, говори” – в некотором смысле контакт с умершими: изображая собственную жизнь, объясняя, как развивалось сознание художника, Набоков раскрывает собственное восприятие подобных явлений. “Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями”72. “Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни?”73 – признается писатель, и хотя “отчеты о медиумистических переживаниях” не дали ответа на его вопросы, как и самые ранние сны, в которых он рылся “в поисках ключей и разгадок”, но и против “меры” он “решительно восстает” – здравый смысл раздражает его своей заурядностью. Он убежден, что вечность существует и проникнуть в нее можно с помощью фантазии: воображению художника свойственна способность чувствовать, “все происходящее в определенной точке времени”74. Поэт, погруженный в творческие раздумья,
постукивает себя по колену карандашом, смахивающим на волшебную палочку, и в этот же самый миг автомобиль (с нью-йоркским номером) пролетает дорогой, ребенок стучится в сетчатую дверь соседской веранды, старик в Туркестане зевает посреди мглистого сада, венерианский ветер катит крупицу пепельного песка, доктор Жак Хирш в Гренобле надевает очки для чтения, и происходят еще триллионы подобных же пустяков, – создающих, все вместе, мгновенный, просвечивающий организм событий, сердцевиной которого служит поэт (сидящий в садовом кресле, в Итаке, штат Нью-Йорк)75.
Джон Шейд, пишущий “Бледное пламя” в вымышленной Итаке (“Нью-Вай”), наделен истинной властью. Об этом свидетельствуют некоторые строки его поэмы, и Набоков, хотя и посмеивается над своим героем (ставит Шейда “за Фростом”, а ведь Фрост – и сам не Пушкин и не Шекспир), отчасти все же олицетворяет себя с ним76. “Бледное пламя” – пример “избытка витиеватости”77, который Шейд (столько же от своего имени, сколько от имени Набокова) наделяет глубоким смыслом, поскольку за способностью художника управлять временем, объединять воспоминания детства со стариком из Туркестана и событиями, которые происходят в эту самую минуту, а также с возможным будущим (тем будущим, в котором непременно выйдет книга этих самых стихов), таится сила и красота, во много раз превосходящая щель слабого света. Шейду кажется, что ему “посильно”
- Постигнуть бытие (не все, но часть
- Мельчайшую, мою) лишь через связь
- С моим искусством, с таинством сближений,
- С восторгом прихотливых сопряжений;
- Подозреваю, мир светил, – как мой
- Весь сочинен ямбической строкой.
- Я верую разумно: смерти нам
- Не следует бояться, – где-то там
- Она нас ждет, как верую, что снова
- Я встану завтра в шесть, двадцать второго
- Июля, в пятьдесят девятый год,
- И верю, день нетягостно пройдет78.
Однако проснуться ему не суждено. Накануне вечером его убьют.
Шейд обожает свою покойную дочь Гэзель. Смерть перевернула и подчинила себе всю жизнь поэта:
- Был час в безумной юности моей,
- Когда я думал: каждый из людей
- Загробной жизни таинству причастен,
- Лишь я один – в неведеньи злосчастном:
- Великий заговор людей и книг
- Скрыл истину, чтоб я в нее не вник.
- Был день сомнений в разуме людском:
- Как можно жить, не зная впрок о том,
- Какая смерть и мрак, и рок какой
- Сознанье ждут за гробовой доской?
- В конце ж была мучительная ночь,
- Когда постановил я превозмочь
- Той мерзкой бездны тьму, сему занятью
- Пустую жизнь отдавши без изъятья79.
Гэзель умирает молодой: девушку очень жаль. Шейд вспоминает, что она была некрасива: толстушка со смешными глазами и т.п. “Пусть некрасива, но зато умна”80, – говорили друг другу родители, впрочем опасаясь, что и это неправда.
“Все бестолку”81, – сокрушается поэт. “Я, помню, как дурак рыдал в уборной”, – вспоминает Шейд: прослезиться его заставила роль дочери в школьной пантомиме (до того бедняжка была неуклюжа). Внешность очень важна – пожалуй, это вообще самое главное. В поэме, которая затрагивает самые насущные вопросы, едва ли уместно считать трагедией заурядную внешность. “Увы, но лебедь гадкая не стала древесной уткой”, – пишет Шейд, и девушка впадает в уныние: ничто не может ее утешить.
- …Но с каждого пригорка
- Кивал нам Пан, и жалость ныла горько:
- Не будет губ, чтобы с окурка тон
- Ее помады снять, и телефон,
- Что перед балом всякий миг поет
- В Сороза-холл, ее не позовет;
- Не явится за ней поклонник в белом;
- В ночную тьму ввинтившись скользким телом,
- Не тормознет перед крыльцом машина,
- И в облаке шифона и жасмина
- Не увезет на бал ее никто…82
Гэзель отправляется на свидание вслепую. Молодой человек, увидев ее, вспоминает о неотложном деле, и это становится для бедной дурнушки последней каплей. Она идет прямиком к полузамерзшему озеру и бросается в воду. Ничего не подозревающие родители в это время дома сидят перед телевизором и переключают каналы, поскольку ничего интересного не передают. Судьба уже подмигивает им, подает знаки, которых они еще не понимают:
- “А может, ей не стоило идти?
- Ведь все-таки заглазное свиданье…
- Попробуем премьеру «Покаянья»?”
- Все так же безмятежно, мы с тобой
- Смотрели дивный фильм. И лик пустой
- Знакомый всем, качаясь, плыл на нас83.
- …Телетеней судьбу
- Рубин в твоем кольце вершил, искрясь;
- “Ну, выключай!..” Порвалась жизни связь,
- Крупица света съежилась во мраке
- И умерла84.
Этот контрапункт85 – дочь топится, пока родители смотрят телевизор, – отражается эхом в нескольких частях романа. Несопоставимые истории перекликаются друг с другом. Особняком стоит главный источник комического в романе – комментарии Кинбота к поэме и то, как мы их воспринимаем: суждения Кинбота на удивление примитивны – классический пример того, как читатель искажает смысл текста в своих целях. Такое ощущение, что перед нами очередной нелепый набоковский солипсист наподобие Германа из раннего романа “Отчаяние” (герой убивает человека, которого считает своим двойником, хотя они совершенно не похожи), или Гумберта Гумберта, или коварных любовников из “Короля, дамы, валета”, или Альбинуса из “Смеха в темноте” (тот настолько слеп, что в конце концов слепнет на самом деле).
Кинбот верит, что он вовсе не несчастный преподаватель языков в университете, смутно похожем на Корнелл, но Карл-Ксаверий-Всеслав, прозванный Возлюбленным, последний король Зембли86, “страны далеко на севере”87 по соседству с Россией. В Америку он бежал от революционеров, которые его свергли и хотели убить. Поклонник поэзии Шейда, которого он даже пытался переводить, он подружился с поэтом в последние месяцы его жизни. Они болтают о вечере в Нью-Вае, районе наподобие преподавательского гетто Итаки, Каюга-Хайтс. Кинбот рассказывает поэту о Карле II и надеется, что Шейд вставит эти фрагменты в поэму.
“Бледное пламя” могло бы завершиться описанием “разрозненной американы”, но победила Зембля:
О нет, я не думал, что он посвятит себя полностью этой теме… но я был уверен, что в поэму войдут удивительные события, которые я ему описал… ничего этого не было! Взамен чудесной, буйной романтики – что получил я? Автобиографическое, отчетливо аппалаческое, довольно старомодное повествование в ново-поповском просодическом стиле… лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронижет поэму, позволив ей пережить свое время88.
Роман, как и поэма, совершенно американский: он изобилует образами в духе “Лолиты” и “Пнина”, сценками из тогдашней университетской жизни и любовно-точными описаниями природы. И поэма, и роман выросли из образа птицы, которая круглый год гнездится во дворах Итаки:
- Я тень, я свиристель, убитый влет
- Подложной синью, взятой в переплет
- Окна; комочек пепла, легкий прах,
- Порхнувший в отраженных небесах89.
Птицы разбиваются о панорамные окна: грустно, но факт. Родители Шейда были орнитологами. Как Набоков и Федор, герой “Дара”, Шейд унаследовал полунаучный взгляд на мир:
- Был люб мне, взоры грея, всякий цвет.
- Я мог сфотографировать предмет
- В своем зрачке. Довольно было мне
- Глазам дать волю или, в тишине,
- Шепнуть приказ, – и все, что видит взор, —
- Паркет, гикори лиственный убор,
- Застрех, капели стылые стилеты
- На дне глазницы оседало где-то
- И сохранялось час, и два90.
- Свободный жив без бога. Но в природе
- Увязнувший, я так ли был свободен,
- Всем детским нёбом зная наизусть
- Златой смолы медвяный рыбий вкус?91
Свиристель сообщает о том, что существуют миры-двойники, что оба мира взаимно проницаемы, проецируются друг на друга:
- Так и снутри удвоены во мне
- Я сам, тарелка, яблоко на ней;
- Раздвинув ночью шторы, за стеклом
- Я открываю кресло со столом,
- Висящие над темной гладью сада,
- Но лучше, если после снегопада
- Они, как на ковре, стоят вовне —
- Там, на снегу, в хрустальнейшей стране!92
“Я не желаю мять и корежить недвусмысленный apparatus criticus, придавая ему кошмарное сходство с романом”, – заявляет Кинбот93. Однако он не в силах справиться с неукротимой тягой комментировать. Кинбот, словно чревовещатель, рассказывает свою историю устами мертвого поэта и создает именно такой независимый критический аппарат. В конце концов вопрос, кто же все-таки Кинбот – король Карл II или сумасшедший с манией величия, остается без ответа. В пользу того, чтобы поверить в его слова, помимо увлекательных, подробных и логичных описаний, говорит и его царственность, величественно-снисходительная манера и открытый, даже активный гомосексуализм:
Я поворотился, чтобы уйти… Я объяснил, что не смогу задержаться надолго, ибо вот-вот должен начаться своего рода маленький семинар, за которым мы немного поиграем в настольный теннис с двумя очаровательными близнецами и еще с одним, да, еще с одним молодым человеком94.
Тут нам придется вернуться из августа 1958-го года лет на тридцаь назад, во вторую половину одного майского дня… У него было несколько близких друзей, но ни один не шел в сравнение с Олегом, герцогом Ральским. В те дни отроки высокородных фамилий облачались по праздникам… в вязаные безрукавки, беленькие носочки при черных на пряжках туфлях и в очень тесные, очень короткие шорты… Мягкие светлые локоны со времени последнего визита во Дворец остригли, и юный принц подумал: Да, я знал, что он станет другим95.
Как поступил бы лишенный трона король, к тому же гомосексуалист, вынужденный бежать, чтобы укрыться в далекой стране? Карл Возлюбленный держится с идеально выверенной смесью страха и превосходства, отвечая на издевки, подчас жестокие, продиктованные гомофобией, с привычным хладнокровием искусного бойца, потерявшего форму:
Что ж, мне известно, что среди некоторых молодых преподавателей, которых авансы были мною отвергнуты, имелся по малости один озлобленный штукарь, я знал об этом с тех самых пор, как, воротившись домой после очень приятной и успешной встречи со студенчеством и профессурой (где я, воодушевясь, сбросил пиджак и показал нескольким увлеченным ученикам кое-какие затейливые захваты, бывшие в ходу у земблянских борцов), обнаружил в пиджачном кармане грубую анонимную записку: “You have hal……s real bad, chum”, что, очевидно, означало “hallucinations”96.
Как-то… мне случилось зайти на кафедру английской литературы и услышать, как молодой преподаватель в зеленой вельветовой куртке, которого я из милосердия назову здесь “Геральд Эмеральд”, небрежно ответил на какой-то вопрос секретарши: “По-моему, мистер Шейд уже уехал вместе с Великим Бобром”. Верно, я очень высок, а моя каштановая борода довольно богата оттенками и текстурой, дурацкая кличка относилась, очевидно, ко мне, но не стоила внимания, и я… отправился восвояси и лишь мимоходом распустил ловким движением пальцев галстук-бабочку на шее Геральда Эмеральда97.
Лукавые и многословные излияния Кинбота очень образны. Читать его одно удовольствие: его стиль напоминает заумные, шокирующие-откровенные пассажи Гумберта Гумберта, только у Кинбота он не настолько интеллектуальный. Спустя несколько дней после приезда в город Кинбот знакомится с Шейдом в преподавательском клубе:
Его лаконическое предложение “отведать свинины” меня позабавило. Я – неукоснительный вегетарьянец и предпочитаю сам готовить себе еду… Шейд сказал, что у него все наоборот: ему требуется сделать определенное усилие, чтобы отведать овощей… В то время я еще не привык к довольно утомительному подшучиванию и перекорам, распространенным среди американских интеллектуалов узкородственной университетской группы, и потому не стал говорить Джону Шейду перед этими ухмыляющимися пожилыми самцами о том, как восхищают меня его творения, – дабы серьезный разговор о литературе не выродился в обычный обмен остротами98.
Кинбот, несмотря на все самообладание, испытывает стресс. У него вырываются слова отчаяния: “Господе Иисусе, сделай же что-нибудь”99, – восклицает он в конце лирического описания университетского городка. Он откровенен, это главное: ему хочется внимания слушателей, читателей, хочется задеть за живое. “Тут перед моим нынешним домом расположен гремучий увеселительный парк”100, – сообщает он и затем признается: “– Как докучает мне эта музыка!” Кинбот едва не рвет на себе волосы от досады. Он король, но вынужден со многим мириться. Сочетание церемонности Старого Света и непонимания особенностей света Нового, страх, несбыточные мечты и грусть придают ему очарования несмотря на то, что он едва ли заслуживает доверия. Шейд, если верить рассказам Кинбота, относится к нему с неподдельной добротой. Они часто прогуливались вдвоем. Шейд, безусловно, поэт университетский, но не вполне академический: его заключительный труд, поэма, которую он пишет в последние недели жизни, задумана как прорыв, как попытка заговорить в полный голос и назвать вещи своими именами. При этом он выбирает просодию в духе Александра Поупа101, жанр ученой, интеллектуальной поэзии, но с сердечными излияниями в стилистике Вордсворта. Ведь, в конце концов, даже вооружившись научной точностью, невозможно подчинить себе небеса. Мудрость поэмы в ее недостатках102: гром с небес не грянет, поскольку с миром иным нет и не может быть общения, однако творение поэта с его запутанными аналогиями копирует устройство мироздания.
Кинбот, разумеется, не Поуп. “В иных из моих заметок я примечаю свифтовский присвист”, – признается он, однако его стиль ближе к романтизму, нежели к классицизму. И пусть по природе своей он “склонен к унынию”103, с “мерзлой грязью и ужасом в сердце”, но и у него бывают “минуты ветрености и fou rire”104. В восторге от знакомства с Шейдом, он признается:
Преклонение перед ним было для меня своего рода альпийским целением. При каждом взгляде на него я испытывал грандиозное ощущение чуда, особенно в присутствии прочих людей, людей низшего ряда. Особое очарование придавало этому чуду понимание мною того, что они не чувствуют, как я, не видят, как я, что они принимают Шейда за должное вместо того, чтобы, так сказать, всеми жилками впитывать романтическое приключение – близость к нему105.
Шейд – художник: вот он стоит и жует кусок сельдерея, но при этом впитывает происходящее и переосмысливает впечатления, чтобы впоследствии сотворить “органичное чудо – стихотворную строчку – совокупление звука и образа”106. Благоговейный трепет Кинбота не утихает и после убийства Шейда:
Трень-брень, играли подковы в Тайном Жилье. Я нес крупный конверт и ощупывал жесткие уголки стянутых круглой резинкой карточных стопочек. Сколь несуразно привычно для нас волшебство, в силу которого несколько писанных знаков вмещают бессмертные вымыслы, замысловатые похожденья ума, новые миры, населенные живыми людьми, беседующими, плачущими, смеющимися. Мы с таким простодушием принимаем это диво за должное, что в каком-то смысле самый акт восприятия отменяет вековые труды, историю постепенного совершенствования поэтического описания и построения, идущую от древесного человека к Браунингу, от пещерного – к Китсу107.
Кинбот продолжает, с глубоким почтением к предшественникам:
Набожно взвесил я на ладони то, что нес теперь слева подмышкой, минутами ощущая немалое изумление, как если б услышал, что светляки передают сигналы от имени потерпевших крушение призраков, и эти сигналы можно расшифровать, или что летучая мышь пишет разборчивым почерком в обожженном и ободранном небе повесть об ужасных мучениях108.
Кинбот похож на самого автора, тоже восприимчивого к чуду. Впервые приехав в Америку (Кинбот приземлился с парашютом на поле неподалеку от Балтимора), он оглядывается “с восторгом и умилением”109. Комментарии проникнуты набоковской любовью к горам. Зембля – страна гористая, расположена на полуострове, через который проходит горный хребет, так что сбежать королю удается, только взобравшись на хребет и спустившись с другой его стороны. “На сверхъестественной высоте, в пьянящей сини” он оказывается в пространстве, “где альпинист замечает рядом с собой призрачного попутчика”110 – друга, воображаемого союзника, который поможет ему выбраться отсюда целым и невредимым[54].
Таким же другом для Кинбота стал Шейд111. Его поэма, частично основанная на земблийских воспоминаниях, полна упоминаний о горах, в основном известных (Монблан, Маттерхорн), но при этом автор путает гору с родником. Кинбот с восторгом описывает горы, которые “в один безоблачный вечер… плавали в мареве заходящего солнца”, вспоминает, как “на заре, при первом звоне коровьего колокольца” король-беглец проснулся в горной хижине и как “оскользнулся той ночью на влажном, заросшем папоротником склоне”, вспоминает об опасных полях, заваленных валунами (“мистер Кэмпбелл подвернул однажды лодыжку и двум здоровенным прислужникам пришлось тащить его, дымящего трубкой, вниз”), и о горных хижинах, где утомленных путников приютили и накормили радушные крестьяне (“кружка горного меду”), а их чумазые дочери провели их опасными тропами и потом разделись, пытаясь отдаться112.
Многие мотивы поэмы, видоизменяясь, повторяются снова и снова: свет телевизора в гостиной у поэта и свет далекой хижины в горах. Бабочка, образ которой проходит через всю поэму (Шейд называет ее “темной ванессой”113: она напоминает ему о жене, Сибил), встречается королю на рассвете в горах. Его путешествие навстречу свободе напоминает “Тинтернское аббатство” Вордсворта (“Хоть я не тот, каким я был, когда, // Попав сюда впервые, словно лань, // Скитался по горам”)114 и прекрасный отрывок из “Бледного пламени”115, позаимствованный из “Лесного царя” Гете, – фрагмент, в котором Шейд оплакивает смерть дочери: Карл, замыслив побег, повторяет те же строки116.
Возможно, Шейд действительно писал о Зембле. Или же Кинбот, который после смерти поэта (Шейд, как отец Набокова, погиб от рук убийцы, целившего в другого) стал единственным владельцем рукописи, решился на основе поэмы написать комментарий117: тот начинается с обманчивого утверждения, будто это критик вдохновил поэта, а не наоборот. Кинбот отзывается о себе так:
Сам я, немало поплававший в синей магии, хоть и способен изобразить какую угодно прозу (но не поэзию, как ни странно, – рифмач из меня убогий), не отношу себя к истинным художникам, впрочем, с одной оговоркой: я обладаю способностью, присущей одним только истинным художникам: случайно наткнувшись на забытую бабочку откровения, вдруг воспарить над обыденным и увидеть ткань этого мира, ее уток и основу118.
Набоков вполне мог бы сказать то же самое о себе. Его художественная манера заключалась в том, чтобы суметь взглянуть на вещи по-новому и свободно их сочетать. Произведения его полны метафор и сравнений. “Бледное пламя”, образ Зембли в котором позаимствован из классической метафизической поэзии119, сама по себе метафора, где одно подменяет другое, – совпадение, на первый взгляд, абсурдное, но увлекательное, если знать, как нужно его читать. Об этом же говорит и Кинбот:
Постепенно всегдашнее самообладание возвращалось ко мне. Я с пущим тщанием перечел “Бледное пламя”. Я ожидал теперь меньшего, и поэма мне понравилась больше. И что это? Откуда взялась эта далекая, смутная музыка, это роение красок в воздухе? Там и сям находил я в поэме и особенно, особенно в бесценных вариантах, блестки и отголоски моего духа, длинную струйную зыбь – след моей славы. Теперь я испытывал к поэме новую, щемящую нежность120.
В книге отражаются и другие, более личные, черты Набокова. Автор всегда поневоле изображает самого себя, будь то в образе Шейда или кого-то другого:
Мужчина крупный, неповоротливый и напрочь лишенный страстей, помимо страсти к поэзии, он редко покидал свой хорошо протопленный замок с пятьюдесятью тысячами коронованных книг, – известно, что однажды он два года провалялся в постели: читал, писал, а после, хорошо отдохнувший, навестил Лондон в первый и единственный раз, но погода там стояла туманная, языка он понять не сумел и потому еще на год вернулся в постель121.
Комментарий в буквальном смысле слова превосходит поэму – 75 тысяч слов против 750, – а романтический порыв побеждает стремление к трансцендентному. Разработанная Шейдом метафизика (его космология строится на личности художника, который единственный из всех понимает внутренний механизм творения и в этом равен Творцу) кажется сущей чепухой. Пламенные верующие все же обычно ощущают свое ничтожество перед лицом Господа, но никак не равенство с Ним. В страхе или унынии они ищут милости, а не познания; ими движет не талант, а жалость, легенды о мучениях святых. Иногда кажется, что и Кинбот принадлежит к той же многочисленной когорте. Он не согласен со скептическим отношением Шейда к понятиям греха и Бога122. Он ходит в церковь (можно сказать, что он рьяный прихожанин) и однажды в воскресенье, помолившись не в одном, а сразу в двух храмах, возвращается домой “в возвышенном расположении духа” (“я каждой жилочкой ощущаю, что и для меня еще не закрыто Царствие Небесное”)123. И тут в летнем воздухе ему слышится бесплотный голос, похожий на голос Шейда, который говорит ему нечто, что очень трогает Кинбота: “Придите вечером, Чарли” (то есть “приходите вечером, мы пообщаемся, погуляем”). Позже, во время телефонного разговора с Шейдом, Кинбот “беспричинно разрыдался”124 (он вообще эмоционален): он нуждается в своем друге и его искренней доброте. В конце концов, они связаны.
Глава 16
В последние годы в Америке Набоковы продолжали регулярно ездить на Запад, словно хотели побывать во всех уголках страны, отметиться во всех красивых местах (разумеется, тех, где можно хорошо поохотиться на бабочек). У Владимира скопилась целая библиотека карт и путеводителей с его собственными пометками. Он был уверен, что однажды ему захочется их перечитать и вспомнить былое.
После того как в конце 1960-х годов Набоковы перебрались в Швейцарию, “тамошняя горничная в один из первых же вечеров из лучших побуждений безвозвратно опорожнила дареное, украшенное бабочкой ведерко для сора”, – вспоминал Дмитрий. Среди хранившихся в корзине сокровищ была “толстая пачка дорожных карт Америки, где отец тщательно помечал дороги и веси, которые он проехал с моей матерью. Там были записаны и разные его наблюдения, и названия бабочек и мест их обитания”1.
“Память, говори еще”, продолжение мемуаров “Память, говори”, Набоков так и не закончил. Хотя, конечно, едва ли только из-за утерянных безвозвратно карт. Первому своему биографу, Эндрю Филду, он рассказывал, что вынашивал замысел в течение двадцати лет, но когда сел писать, книга превратилась в сборник анекдотов, нечто, что обещало “не… скрипки, но тромбоны”2. Единственными воспоминаниями, по-прежнему не лишенными для него вдохновенных вибраций, были годы, проведенные в Музее сравнительной зоологии, и охота на бабочек в Скалистых горах.
В 1956 году Набоковы отправились в долгое счастливое путешествие: началось оно поздней весной и продлилось до августа. Вера сняла в Юте летний бревенчато-каменный дом, построенный художником Мейнардом Диксоном близ деревни Маунт-Кармел вдоль рукава реки Вирджин. В тридцати километрах к западу находился национальный парк “Зайон”, в пятидесяти километрах к северо-востоку – национальный парк “Брайс-Каньон”, а на северо-западе, тоже километрах в пятидесяти от Маунт-Кармел, раскинулся альпийский пояс хвойных деревьев и каньонов, заповедник “Сидар-Брейкс”.
Необычайное разнообразие ландшафта, холмисто-овражистый рельеф местности обещали хорошую охоту. Кажется, никто из Набоковых не знал, кто такой Мейнард Диксон. Некогда представитель сан-францисской богемы3, иллюстратор романов Кларенса Э. Малфорда о ковбое по имени Хопалонг Кэссиди, со временем Диксон стал живописцем-станковистом и мастером фресковой живописи, он был художник-самоучка, умевший виртуозно воссоздать атмосферу залитой светом пустыни, показать бескрайние просторы и мглу. В его живописи прослеживаются, ностальгические мотивы Дикого Запада – а-ля Фредерик Ремингтон, при этом кажется, будто по пейзажам Диксона скачут в ковбойских шляпах Сезанн и Брак. Набоковым коттедж сдала вдова Диксона, сама бывшая художница-монументалистка Управления общественных работ, Эдит Хэмлин Дейл4. Как и другие дома, которые снимали Набоковы во время путешествий, этот находился неподалеку от города, но не слишком близко. В пойме реки Вирджин тянулся луг длиной в несколько километров, а рядом с ним – поросшие полынью пески. В двух часах езды на автомобиле5 располагался северный край Большого Каньона, и там Набоков тоже охотился за бабочками.
Из Юты они отправились на север и приехали в Афтон как раз к появлению новых бабочек, которых обнаружили там за четыре года до того. Набоковы уже пятнадцать лет путешествовали по западным штатам. Они не стали встречаться с теми, кого знали или с кем когда-то Владимир охотился на бабочек, и остановились в мотеле Corral Log по тем же причинам, по которым и ранее: удобство и низкие цены. Весь год им приходилось общаться с сотнями людей, причем не всегда по собственному желанию, чаще по делу, так что на пустынном Западе они отдыхали душой. В 1950 году, когда Набоковы прожили в Америке десять лет (это была ровно половина срока, проведенного ими в США), лишь в Колорадо, единственном из всех штатов, где находились отроги Скалистых гор, обитало более миллиона человек. В Вайоминге, любимом штате Набоковых, жителей было примерно столько же, сколько в Неваде6 (из расчета количества человек на квадратную милю): можно сказать, что штат был практически необитаем[55].
Домик Мейнарда Диксона, Маунт-Кармел, Юта
Последние годы жизни, которые Набоков провел в европейской полуизоляции, в номере люкс гостиницы на берегах Женевского озера, напоминали его отпуска в Америке. Владимиру нужно было время, чтобы писать, читать, думать, восстанавливать силы, и чтобы его при этом никто не трогал. Вера, как и ее муж, тоже общительностью не отличалась: впрочем, назвать Набоковых отшельниками нельзя. Им нравилось проводить время с близкими друзьями – если, конечно, удавалось контролировать продолжительность и время дружеских визитов. В этом смысле супруги идеально подходили друг другу, в отличие, скажем, от Пушкина и его очаровательной жены, чье кокетство с красавцем-кавалергардом в конечном счете привело к гибели поэта на дуэли7. С женой Набокову повезло, тем более что женился он по любви. Так же как внимательное изучение Гоголя подсказало ему, как не следует себя вести в случае, если какое-то из его произведений добьется оглушительного успеха, судьба Пушкина, вероятно, научила его, что жениться надо на верной и преданной женщине, которая к тому же станет помощницей в делах[56]. Ему невероятно повезло еще и в том смысле, что Вера Евсеевна была очень умна и обладала тонким литературным вкусом8.
Интерьер домика Диксона
Одиночество Запада с его пустынными пространствами, для многих олицетворявшее космическую пустоту, – то, чего нет в прозе Набокова. На Гумберта Гумберта и Пнина давит гнет одиночества и забот, но страдают они вовсе не из-за необъятных просторов Нового Света. В конце романа Пнин уезжает в неизвестное на машине с пожитками и маленькой белой собачкой. Его жизнь в Америке разлетелась на куски, но он вовсе не пал духом и не утратил надежду:
Воздух был резким, небо – ясным и оттертым до блеска. Крошка-“Седан” храбро обогнул передний грузовик и, наконец-то свободный, рванул по сияющей дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где холм за холмом творят прекрасную даль, и где просто трудно сказать, какое чудо еще может случиться9.
Гумберту Гумберту тоже приходится пройти через многие испытания, однако при этом он раскатывает по Западу как ни в чем не бывало. Больше всего он боится ловушек социальных: соседей-соглядатаев, прогрессивных школ с любопытными директрисами, полиции.
В 1957 году Набоковы на запад не ездили. А вот в 1958 году за семь недель преодолели на машине без малого 13 тысяч километров10, на следующий же год, их последний год путешествий по Америке, проехали еще больше, через всю страну и обратно, по извилистым маршрутам. Вера описала поездки последних американских лет: взяла дневник, в который Владимир начиная с 1951 года писал по странице в день, и на пустых страницах оставила заметки за 1958–1959 годы. Дневник начинается с краткого описания всего, что с ними происходило11: все, что им довелось пережить в Америке с самого первого дня. “Мы приплыли… на «Шамплене»”, школы Дмитрия, первые писательские контракты Владимира, летние лагеря, Уэлсли, Стэнфорд, вечеринки, на которых Вере “трудно было следить за разговорами по-английски сразу на несколько тем”•, лето в Алта с Лафлином, друзья-энтомологи Владимира: ничто не забыто. Адреса съемных квартир (только в Итаке их было одиннадцать). То, что в Колорадо “туда и обратно ездили на поезде, попали в наводнение, пришлось менять маршрут”•. Книги, которые написал ее муж, когда Набоковы жили в Крейги-серкл в Кембридже. Где Дмитрий жил на первом курсе Гарварда.
Как истинные американцы, Набоковы определяли периоды жизни по автомобилям, которыми владели12: сперва “олдсмобиль”, потом “бьюик” 1954 года. У Дмитрия была своя история: сначала он ездил на том, что Вера называла “форд-кейсер”13 (темно-синий “форд” с индексом А, выпуска 1931 года), потом на “бьюике” 1938 года (на нем Дмитрий возил отца в горы Титон). К 21 августа 1958 года, когда Вера сделала большую часть записей, Дмитрий из сорванца превратился в выпускника Гарварда14, подающего надежды оперного певца, молодого человека “с прекрасной работой и великолепным учителем вокала”, с “уютной отдельной квартирой, в которой он поддерживал идеальный порядок”•. В 1957 году его призвали в армию. После шести месяцев обучения Дмитрий поступил в резервную часть, которая раз в неделю собиралась на Манхэттене15, а летом на две недели выезжала за город на сборы. “Сегодня Дмитрий уехал в лагерь Драм”•, – писала Вера 7 августа 1958 года, отметив, что по телефону он разговаривал с ней “весело, разумно, нежно и с искренним интересом”•.
Приближалось событие, которое, словно небесное явление – например, как гигантская комета, пролетающая совсем близко к Земле, провоцирует взрывы и смещение орбиты, – должно было изменить всю жизнь. Набоковы прочно стояли на ногах и были как нельзя лучше подготовлены к переменам: они любили друг друга, вместе делали одно дело (то есть продвигали творчество Владимира, причем Вера, кажется, никогда не завидовала успехам мужа), не пили и (уже) не заводили романы на стороне, и уверенность в собственной гениальности, о которой Набоков часто говорил, лишь окрепла, притом что раньше он не раз высказывал сомнения, от которых не свободны лучшие художники независимо от их таланта, и утверждал, что всех ждет забвение.
В окрестностях Итаки, штат Нью-Йорк. Сентябрь 1958 года (фото Карла Миданса, журнал Life)
Набоков не исписался: когда разразился “ураган Лолита”, то есть роман вышел в Америке, Владимир как раз работал над новыми произведениями. Он обдумывал замысел “Бледного пламени”, последнего своего великого романа, практически закончил перевод и комментарии к “Евгению Онегину” и, в качестве заключительной прививки против “звездной болезни”, доделывал еще один перевод – “Слова о полку Игореве”16. Так что, когда наконец он прославился в тех масштабах, о которых давно мечтал, привычки, сложившиеся за долгие годы, в том числе к ежегодным бюджетным поездкам по западным штатам, надежно защищали его от того, что другому могло бы вскружить голову.
При этом публикация “Лолиты” стала в Америке сенсацией: Вера в записках постаралась передать впечатление, которое произвело это событие. “Ужин у Бишопов, – пишет она 20 мая 1958 года, и тут же ее муж, как будто заглядывая ей через плечо, приписывает карандашом, – расправлял бабочек из Вайоминга, пойманных в 1952 году… в Западном Вайоминге”. Некоторое время они ведут записи по очереди: публикация в издательстве Putnam запланирована на август, и они ждут ее с нетерпением. “Звонил Дмитрий. В восторге… Пел (прослушивание) перед коллективом Оперы, очень хвалили. Обожает свою квартирку”•. Пожалуй, больше всего и Владимир, и Вера переживали из-за Дмитрия. Что бы им ни предстояло, эти события непременно должны были повлиять и на беспечного и неуверенного писательского сына, к тому же склонного к восторженности. Дмитрий рассказывал соседу по казарме, парню из Нью-Йорка, с которым подружился на сборах, что “в этом году он прославится”17, то есть что его отца в 1958 году ждет успех. Пожалуй, чувствовать себя сыном знаменитости нелегко, но в этот момент, который Вера изо всех сил старалась представить как поворотный, да к тому же учитывая увлечение Дмитрия гонками и альпинизмом, требовалась особая деликатность.
“Спокойный день”, – пишет Владимир 22 мая, в четверг. Он провел его, разбирая насекомых. Они были его драгоценными воспоминаниями: время, место, погода – все запечатлелось тут. До того как разразился “ураган Лолита”, до того как Вера стала единственной в семье, кто вел дневник, мы встречаем на его страницах дивную интерполяцию: не предисловие к полевым заметкам и не наброски новых художественных произведений, но несколько старых записей за неделю (с 24 июня по 1 июля 1951 года), сделанных в то время, когда Набоков усердно работал над “Лолитой”. Они очень пестры и интересны, заметки того счастливого времени: тут и цены на бензин, и русские слова, и рисунки карандашом, и английские фразы, практически без изменений вошедшие в роман. Из одного выросло другое. Тон заметок дружелюбный, сардонический: Набоков замечает и “зловонную речушку” за мотелем, и фермера “с затылком мумии”•, и мальчишку, “лягушкой скачущего”• на велосипеде. Даже странно, что пустой дневник, в который Владимир положил записывать по странице в день, оказался не вполне пустым, что в нем обнаружились эти ранние наброски: эти страницы могли вырвать, но поскольку не вырвали, мы по ним можем составить впечатление о днях, которые теперь кажутся легендарными. Перевернешь страницу – и вот уже едешь с Набоковыми в Теллурид на “олдсе”, за рулем которого сидит Вера, а расположившийся рядом с ней Владимир делает эту самую запись. Бури и потопы Канзаса остались позади, Набоковы уже на бескрайних живописных просторах настоящего Дикого Запада, и солнце восходит над горизонтом с особой силой, как бывает лишь после дождя18.
Примерно 15 июля 1958 года сигнальный экземпляр “Лолиты”19 нагнал их в национальном парке “Уотертон-Лейкс” в Альберте. Они уже видели опубликованную в New Republic рецензию, в которой Набокова очень хвалили: называли его “истинным гением”20. До публикации “Лолиты” оставались считаные недели. Спешить нужды не было, однако Набоковы с удовольствием повернули на восток и остановились у памятника природы Девилз-Тауэр (Башня Дьявола) на северо-востоке Вайоминга. Домик Набоковых располагался как раз напротив башни, напомнившей Вере огромный пломбир, который “чуть подтаял у основания… лилово-шоколадного цвета” 21. В теплую погоду Владимир охотился за бабочками.
“В Шеридане [Вайоминг] все увлечены большим родео”22, – писала Вера. Ее возмущало зрелище того, “как издеваются над бедной скотиной”•, но в городке событие наделало шума: “Нас то и дело едва не выталкивали с дороги, приходилось постоянно останавливаться, чтобы пропустить машины, которые объезжали другие машины и снова возвращались в свой ряд, и у каждой… был прицеп с лошадьми”•. Они видели, “как столкнулись два грузовика – никто не пострадал, только машины; на обочине стоял ковбой, весь разодетый… и угрюмо менял колесо”•.
В начале августа Набоковы приехали в Нью-Йорк. Уолтер Минтон, президент издательства G.P. Putnam’s Sons, в котором должна была выйти “Лолита”, устраивал в гарвардском клубе прием для журналистов, а автор должен был выступать в качестве приглашенной знаменитости. Минтон был “превосходным издателем”23, писала Вера, он не жалел денег на “красивую рекламу”• и вообще книгу выпустил качественно и со вкусом: Набоковым очень понравилась обложка (потому что на ней не была нарисована девочка). 18 августа Минтон прислал им телеграмму:
ДЕНЬ ВЫХОДА ВСЕ ГОВОРЯТ ЛОЛИТЕ ВЧЕРАШНИЕ РЕЦЕНЗИИ ОТЛИЧНЫЕ СЕГОДНЯШНИЙ РАЗНОС NEW YORK TIMES ПОДЛИЛ МАСЛА ОГОНЬ 300 ПОВТОРНЫХ ЗАКАЗОВ СЕГОДНЯ УТРОМ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ СООБЩАЮТ ПРОДАЖИ ИДУТ ОТЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ24.
Продажи действительно шли как нельзя лучше. Только за первые четыре дня поступило 6777 повторных заказов от магазинов25, в которых закончились экземпляры “Лолиты”, а к концу сентября роман занимал первое место в списке бестселлеров New York Times26 и удерживал его семь недель.
На приеме у Минтона Владимир “пользовался бешеным успехом… остроумный, блестящий собеседник и – слава богу – не стал говорить, что он думает о некоторых современных знаменитостях”, – записала Вера в дневнике. Этот прием стал первым в череде чествований в Париже, Лондоне, а через год и в Риме: автор романа и его роскошная жена, с изящной длинной шеей, белыми, как снег, волосами, в вечернем наряде (в Париже Вера была в черном муаровом платье и в норковом палантине)27, блистали на этих торжествах. Продажи и succs d’estime “Лолиты” прославили Набокова на весь мир. Ему удалось невозможное: написать скандальный, но при этом серьезный роман на сексуальные темы, который на момент публикации “Лолиты” в США по-прежнему оставался под запретом во Франции и Великобритании28. Ф.У. Дьюпи, преподаватель Колумбийского университета и внештатный литературный критик, назвал “Лолиту” “великолепно возмутительным романом”, “маленьким шедевром” и “важным дополнением к популярной мифологии”29. Под мифологией Дьюпи имел в виду истории, наслоившиеся на ту, что рассказана в романе. Главной стала история публикации романа: как почтенные нью-йоркские издательства в ужасе отказались его печатать и гениальному автору пришлось послать рукопись в Париж, где за нее взялось какое-то издательство с сомнительной репутацией, чуть ли не порнографическое, теперь же набоковский шедевр оказался “бизнес-чудом”, “не просто романом, но феноменом”30.
Теперь “Лолите” “дружно пели осанну” все: “великие, средние и маленькие умы”, то есть категории читателей, вкусы которых обычно не сходятся, писал Дьюпи31. Роману повезло: “он вышел в Америке в нужное время. За последний год восприятие литературы… существенно изменилось”, так что “Лолита” “помогла совершиться этой перемене и сама от нее выиграла”32.
Дьюпи, пожалуй, лучше, чем прочим первым рецензентам, удалось сформулировать, в чем гениальность этого маленького шедевра. Едва ли у автора получится изменить американские нравы, полагал Дьюпи: во-первых, потому что Набоков – иностранец и не имеет совершенно никакого отношения к послевоенным переменам33, которые Дьюпи, в общем, не одобрял, – движению “к корням”, возвращению к местным традициям, стремлению поставить в ценр американской литературной жизни вопросы морали. “В эту ситуацию Набоков не вписывается совершенно”34. Да и репутация его до публикации “Лолиты” не предвещала появления “восхитительного, но довольно-таки беспорядочного” романа, который “принадлежит к отживающей категории авангардных произведений”.
Дьюпи, человеку саркастическому35, любителю посмеяться, роман показался новым и свежим. “Благодаря ему испаряющаяся улыбка эпохи Эйзенхауэра сменилась зловещей ухмылкой”36, – писал он, и эти жуткие образы, пожалуй, лучше всего описывают двойственное ощущение, которое книга оставляет у читателя: “ужас и отвращение” переплетаются со странной, мучительной радостью, почти неосознанной, губительно-изощренной. (“Строго говоря, книгу нельзя назвать порнографической, поскольку в ней нет нецензурных слов. Гумберта Гумберта это рассмешило бы”37.) Дьюпи долго пытался нащупать новую интонацию. “Лолита” “слишком скандальна, чтобы хоть одна из великих литератур согласилась считать ее своей”38, но Дьюпи роман, безусловно, был близок, отвечал на какие-то насущные вопросы.
13 сентября Набоковым позвонил друг и поздравил их с новостью, о которой только что прочитал в New York Times39: Стэнли Кубрик за 150 тысяч долларов приобрел права на экранизацию романа. В 1958 году это была неслыханная сумма40. Вместе с авторскими отчислениями с продаж книги, которые тоже вскоре начали поступать, это было куда больше, чем Набоков заработал за всю предыдущую писательскую карьеру. Вера записала в дневнике: “В. отнесся к этому совершенно безразлично: он занят новым рассказом, а еще ему нужно расправить около 2000 бабочек”. Впрочем, едва ли Набокову была безразлична общая сумма гонораров. В дневниках сохранились воспоминания о настроении тех дней: Владимир считал, что Верин дневник “еще важнее”•41 – своего рода научные полевые заметки. Но это был его (и ее) грандиозный успех, заработанный тяжелым трудом, и разумеется, Набокову это не могло быть безразлично. Продолжали поступать “запросы от кинокомпаний и агентов, письма от поклонников и т.п.”•42, а также просьбы об интервью. Все это “должно было бы случиться тридцать лет тому назад”, писал Набоков сестре, прибавляя: “Думаю, что мне не нужно будет больше преподавать”43.
В Итаку приехала группа из журнала Life во главе со штатным корреспондентом Полом О’Нилом и фотографом Карлом Мидансом44. Вера описывала это событие с интересом и воодушевлением: Набоковы прекрасно понимали, что значит публикация в Life. “Подумать только, три года назад, – писала Вера, – Ковичи, Лафлин и… Бишопы настоятельно советовали В. никогда не публиковать «Лолиту», потому что… «на вас обрушатся все церкви и женские клубы»”. Теперь же некая миссис Хаген из городской пресвитерианской церкви звонит и просит Владимира выступить перед женской общиной. Какая прелестная насмешка судьбы! Однако советчики не ошибались: выйди “Лолита” четырьмя годами ранее, ее, скорее всего, постигла бы участь уилсоновских “Мемуаров округа Геката”. Публикация романа во Франции45, где одиозное издательство вступило в первую битву с цензурой, способствовала перемене, которую приветствовал Ф.У. Дьюпи.
Они “не поверили своим ушам”46, записала Вера в воскресенье, 7 декабря, когда увидели в “Шоу Стива Аллена” скетч о новых “научных” игрушках. Последней из них была куколка, которая может делать “все, о, совершенно все”. “Надо будет ее послать мистеру Набокову”. Мы оба это ясно слышали”•.
А в шоу Дина Мартина47 певец рассказывал, как приехал в Вегас, но делать ему там было совершенно нечего, поскольку “в азартные игры он не играет. Так что сидел в фойе и читал… детские книжки – «Поллианну», «Близнецов Бобси», «Лолиту»”.
Более того, первое шоу в этом году Милтон Берл открыл фразой: “Во-первых, я хочу поздравить «Лолиту»: ей исполнилось 13 лет”48. А Граучо Маркс пошутил: “Я пока «Лолиту» отложил, прочитаю через шесть лет, когда ей будет восемнадцать”.
Набокова тоже – впервые в жизни – показали по телевизору49: он специально приехал на Манхэттен, чтобы принять участие в канадском шоу, которое вел Пьер Бертон с канала CBC. В передаче также участвовал литературный критик Лайонел Триллинг, поклонник “Лолиты”. Вера с Дмитрием были в студии. Дмитрий гордился отцом, а Вера нашла, что муж “прекрасно выступил”. “Загорелась табличка: приготовиться!.. три минуты до эфира… две… одна…”• Декорации напоминают кабинет писателя (или то, как его показывают в фильмах с Винсентом Прайсом): стол с канделябром, диван, скульптура, полки с книгами. У приглашенного известного писателя помятый вид. Ему пятьдесят девять лет, у него крепкая широкая шея, он почти лыс, но морщин нет. Триллинг хоть и моложе и худее, но выглядит старше. Он погружен в мрачные раздумья и всю передачу курит.
“Наконец начали”, – пишет Вера. Ее муж оказался “идеальным гостем” (так сказали продюсеры). Он снисходителен к тем, кто хочет прочесть его книгу, но не дает спуску “филистерам и мракобесам”. Он излагает свои основные идеи. Ему неинтересно вызывать у читателей какие бы то ни было чувства и мысли. “Оставим идейную сферу доктору Швейцеру с доктором Живаго”, – говорит он. “Доктор Живаго”, которого недавно опубликовали в Америке, раздражал Набокова: писатель считал, что это дрянь, макулатура, а публикация на Западе – происки советских агентов50. (Ну и что, что “Доктор Живаго” – произведение якобы антикоммунистическое: Набоковы считали, что эта тема в нем заявлена недостаточно убедительно.) Набоков признается: он хочет, чтобы вместо чувств читатель испытал от “Лолиты” “легкую дрожь в позвоночнике”, пережил миг эстетического блаженства, и ведущий не может оставить такое заявление без ответа: он спрашивает Триллинга51, испытывал ли тот какие-то чувства, когда читал роман, и Триллинг отвечает: “Книга тронула меня до глубины души… Возможно, мистер Набоков и не ставил себе задачи тронуть чье-то сердце, но мое ему тронуть удалось”.
Набоков утверждает, что в романе его нет сатиры. Он не критикует Америку, “выставляя на посмешище социальные язвы”. Триллинг отвечает: “Но в подоплеке романа именно сатира”52, к тому же “нельзя верить словам писателя о его произведении: он может рассказать лишь о том, что намеревался сделать, и даже тогда мы не обязаны ему верить”.
Оба гостя студии говорят несколько нравоучительно. Это единственное, первое и последнее, интервью, перед которым Набоков не настаивал, чтобы ему показали все вопросы заранее, так что по этой записи можно составить себе живое впечатление о писателе. И все равно у Набокова на коленях лежала стопка карточек с отрывками из романа: он старался по возможности цитировать свои произведения53.
Набоков усмехается – незаметно для Триллинга. Он усмехается, когда критик говорит о том, что нельзя верить писателю на слово, – возможно, потому что знает: этим его роман обязан социальной критике, глубокой и резкой, критике, которая заставила усмехнуться многих американцев. В случае с “Лолитой” сыграл свою роль культурный скептицизм. А насколько велика была эта роль, выяснится в следующие полтора десятка лет. Появится множество стилистических перекличек с романом, в частности в фильмах – “Психо” Хичкока (1961) и “Докторе Стрейнджлаве” Кубрика (1964), а также в литературе и прочих сферах культуры, где шло бурное развитие, воплощением которого ныне считаются “шестидесятые”. Внимательные читатели что-то почувствовали. Провинциальные мирки Рамздэля и Бердслея, безвкусно оформленный дом Шарлотты Гейз, дорожная романтика сороковых годов с мотелями и беспечными путешествиями – все этопоявилось в изобилии уже после “Лолиты”: Набоков сделал свое дело, но его утверждения, что созданный в его творчестве образ Америки, “такой же фантастический, как у любого автора”, не основывался на реальных фактах, казались натяжкой и капризом.
Он осмотрелся вокруг и заметил забавных полусонных людей – разбитных обывателей с их мрачными секретами, населявших великолепный ландшафт, который они умудрялись изгадить. Это общество жило по строгим правилам, рассказать о которых убедительнее всего можно было лишь с помощью едкой сатиры. В последнем акте непременно должна была быть перестрелка, как во многих других американских фильмах и книгах. И, разумеется, в подоплеке всего должен быть секс: нетрадиционный, с извращениями, поскольку страна хоть излучает молодую свежесть и сексуальность, но скована запретами. Автор клянется, что не ставил себе целью изменить действительность, не собирался никого “будить”, и в этом ему можно верить: Америка для такого писателя, как Набоков, прекрасна в первозданном виде.
Триллинг хранит величественное спокойствие. Набокову не сидится на месте: он то подастся вперед, то откинется на спинку дивана, вертит головой54. Усмехается, когда Триллинг, пытаясь объяснить, что же в романе так его “шокировало” (“маленькая девочка, которая… обычно защищена от сексуального внимания взрослых мужчин, очень юная, лет двенадцати, насколько я помню”)55, сам с трудом удерживается, чтобы не усмехнуться, и Набоков бросает взгляд на ведущего: “Он, кажется, облизывает губы? Боюсь, ваш почтенный критик неправильно истолковал мой роман, буквально самую малость!”
Питер Селлерс внимательно изучил эту документальную запись, готовясь к роли Клэра Куильти в фильме Кубрика, и использовал полученные находки в трех последующих ролях, сыгранных им в “Докторе Стрейнджлаве”: его догадки ни в чем не противоречат нашим выводам56. Доктор Земпф, школьный психолог (на самом деле это был Куильти), позаимствовал у Триллинга манеру прикусывать губу на определенных словах (“секс”, “сексуальный”) и манеру держать сигарету (примерно так же ее держал Эдвард Р. Марроу) – как между указательным и средним пальцами, так и между большим и указательным (что для Америки необычно). Селлерс блестяще это обыгрывает в сцене, когда доктор Стрейнджлав объясняет устройство Машины Судного дня57. Этот пафосный разговор, похоже, вдохновил Селлерса и Кубрика: два ученых мужа рассуждают о сексе с миловидной девочкой, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться; Набоков скромно признается, что разбирается в клинических аспектах педофилии и в бабочках – это помимо того, что он великий писатель; Триллинг же с его пустым взглядом похож на человека, которому его гастроэнтеролог только что сообщил плохие новости.
И Триллинг, и Набоков по-своему обаятельны. Триллинг, рассуждая о романе, сбрасывает привычную угрюмость: “Лолита” действительно задела его за живое, его тронул горестный жребий девочки, ее трагический жизненный путь и печальная нежность, с которой Набоков все это описал. А некоторые фрагменты наверняка его рассмешили. И Набоков находит с ним общий язык, несмотря на все свои ужимки. Даже в таких комических обстоятельствах, в роли высокомерного эстета, он то и дело выглядывает из-под маски, чтобы взглянуть на тех, кто на него смотрит. Он беззастенчиво играет великого человека, но то и дело очаровательная мальчишеская улыбка пробегает по его большому лицу – беззащитная, искренняя58, улыбка человека, всегда готового разразиться беспомощным смехом.
Глава 17
Произошел случай, который всех немало шокировал (Веру-то уж точно – возможно, потому, что в деле оказался замешан ее сын). 25 ноября, во вторник, Набоковы ужинали в Нью-Йорке с издателем Уолтером Минтоном в любимом заведении театральной богемы – ресторане Caf Chambord1 на Третьей авеню, На ужине присутствовала и жена Минтона, Полли2. Супруги были в ссоре. Издатель увлекся “субреткой-профурсеткой из ночного клуба Latin Quarter”3, а миссис Минтон узнала о романе всего лишь неделю назад из статьи в журнале Time. Полли была убита горем. “Она очень красивая девушка, – писала Вера в дневнике, – испуганная, растерянная”, добрая и хорошая мать троих детей. До выхода “Лолиты” супруги жили дружно и счастливо: по словам Полли, “после этого Уолтер завел множество новых знакомств и сбился с пути”•4 из-за бури, разразившейся вокруг романа. История напоминала водевиль5: именно любовница Минтона впервые рассказала ему о “Лолите” (он ничего не знал о романе до 1957 года, несмотря на публикацию в Париже), так что, по законам издательства, ей полагалось вознаграждение за то, что она нашла интересную книгу.
Дмитрий и MGA 1957 года
Веру неприятно поразило, что Полли так откровенно рассказывает о своей беде “чужому человеку” (сама Вера была куда более сдержанна). Тут появился Дмитрий. Он был на еженедельном собрании резервистов; Набоковы, Минтоны и Толлеры завернули за угол, чтобы посмотреть на его новую машину, MG 1957 года6, которую даже его мать называла “красавицей”. Полли Минтон попросила ее прокатить. Дмитрий уехал с Полли, а Минтон и Набоковы взяли такси и отправились в гостиницу, где, как записала Вера в дневнике (впоследствии она вычеркнула эту запись), “втроем сидели и ждали, ждали, ждали”. Минтон, тоже человек откровенный, в такси признался им, что, кроме танцовщицы, у него есть еще одна любовница, а именно автор той самой разоблачительной статьи в журнале Time, которая таким образом решила разделаться с соперницей: назвала ее “престарелой… нимфеткой [с] глупой улыбкой”•7. “Вот из-за этих двух потаскушек, – припечатала Вера, – М[интон] разрушил свой брак”•. Причем рассказывал он об этом достаточно громко, так что и водитель такси наверняка все слышал. “Удивительные люди эти американцы!”• – заключила Вера.
В общем, они сидели и ждали. Вдруг Дмитрий с Полли попали в аварию? “Наконец они приехали”. Минтоны ушли, и “Дмитрий, смущенно улыбаясь, сообщил нам, что из ресторана они поехали прямо к нему домой, поставили машину в гараж, потом – ему нужно было что-то забрать в квартире, Полли захотелось увидеть его квартиру (раз машину она уже видела), ну и так далее”•.
“А на следующий день, – писала Вера, – Минтон сказал В.: «Я слышал, Дмитрий вчера неплохо развлек Полли». И, сконфуженная, завершила: – Неужели такое поведение нынче в Америке в порядке вещей? Как будто в плохом романе какого-нибудь О’Хара или Козенса”•8.
Да уж, вихрь славы кружит головы. Когда твои книги занимают первое место в списке бестселлеров, а придуманные тобой слова входят в язык (например, “нимфетка”)9, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Эдмунд Уилсон упоминал о невиданном “разгуле”10 “Лолиты”, которая “явно задела потаенные струны широкой американской души”. Читателей привлекло ее скандальное содержание, которое многим могло показаться настоящим откровением. Америка в некотором смысле строилась на скандалах: ее литература на протяжении долгого времени служила источником сенсаций, в частности сенсаций сексуальных. Бестселлер в Америке 1950-х, “Пейтон-Плейс”11 Грейс Металиус, вышедший в 1956 году, – Набоков, как ни странно, утверждал, будто слыхом не слыхивал об этом романе, – порнографический двойник “Лолиты”. И в том и в другом произведении сексуальные тайны прячутся за видимостью приличия, и в том и в другом отец насилует приемную дочь, а городки, в которых развиваются события обоих романов, находятся в штате Нью-Гэмпшир12. В обеих книгах описаны убийства и животная похоть. Комизм “Лолиты” отчасти в том, чт утонченный европеец Гумберт Гумберт попадает в сюжет, характерный, скорее, для какого-нибудь бульварного романа. Не все обратили внимание, что книга Набокова на самом деле пародия.
Интервью, регулярные поездки в Нью-Йорк, новые заботы – о зарубежных изданиях, о том, как лучше распорядиться внезапно свалившимся на семью богатством, – привели Набокова к мысли сложить с себя груз преподавания. Он попросил в Корнелле отпуск на год и получил его на условии, что найдет себе замену13. 16 ноября первое место в списке бестселлеров Times занял “Доктор Живаго”. В октябре Пастернаку вручили Нобелевскую премию14, что подстегнуло продажи, так что следующие несколько месяцев “Лолита” занимала второе место после “Доктора Живаго”. В середине ноября Набокову выплатили очередную круглую сумму – еще 100 тысяч долларов15 за права на публикацию “Лолиты” в мягкой обложке, и Вера обратилась к преподавателям юриспруденции из Корнелла16 и к специалистам по контрактам издательства Putnam’s за советом, как лучше поступить с правами на экранизацию “Лолиты” (там был какой-то головоломный контракт) и разобраться с налогами. В начале 1959 года она обратилась за консультацией в находившуюся на Манхэттене адвокатскую контору Paul, Weiss, Rifkind, Wharton&Garrison17. Набоковых беспокоил не только предстоящий переход в другой налоговый класс. Они пережили две инфляции, во время которых потеряли все сбережения, – первый раз сразу после революции, а второй – в Берлине периода Веймарской республики, поэтому вскоре после продажи прав на экранизацию Набоков потребовал, чтобы его издатель выплатил ему половину причитавшихся денег “в государственных облигациях или других надежных ценных бумагах”18 в качестве страховки от инфляции.
Даже в вихре деятельности Набоковы не забывали о Дмитрии. Работа над переводом “Героя нашего времени” пошла вовсе не так, как они рассчитывали, и все равно Набоков, улучив минутку пообщаться с издателем в суматошные дни перед публикацией “Лолиты” и последовавшей за этим шумихой, заговорил о переводе “Приглашения на казнь”. Писатель настаивал, что “переводчик должен быть: 1) мужчина 2) коренной американец или англичанин. Также он должен хорошо владеть русским языком и профессионально в нем разбираться. Не знаю никого, кто бы отвечал этим требованиям, кроме моего сына, – но он, к сожалению, слишком занят”19.
К январю 1959 года Дмитрий освободился, его отец подписал договор с издательством20, а Дмитрий тут же получил аванс. “Я тебе передать не могу, как я счастлива”21, – писала Вера своей подруге Елене Левиной в Кембридж. Дмитрий все время чем-то болел. У него постоянно “какие-то хвори, – писала Вера в дневнике, – он большой и сильный, и до того как его призвали в армию, был совершенно здоров. Потом схватил не то простуду, не то грипп, не то какой-то вирус, и никак не может от него избавиться”•22. В общей сложности Дмитрий проболел год. В 1962 году у него обнаружили синдром Рейтера, аллергическое реактивное состояние, которое часто возникает у молодых людей после перенесенной венерической инфекции23. Вера считала, что у Дмитрия слишком большая нагрузка, и была рада, когда он бросил работу в офисе – единственную за всю его жизнь24.
19 января 1959 года Набоков провел последнее занятие в Корнелле25, “которому прибавил шарма, – писал он Минтону, – фоторепортер”, непрестанно снимавший писателя. Мировая пресса ни на минуту не оставляла его вниманием26. В конце февраля на Манхэттене Набоковы отвечали на звонки Time, New York Times, лондонской Daily Mail и Daily Express и других журналов, а еще Набоков отказал трем телепередачам. Вере приходилось писать до пятнадцати деловых писем27 в день[57]. Встречи и приступы недомоганий задержали Набоковых в Нью-Йорке до 18 апреля, и все это время с ними носились как со знаменитостями – впоследствии Вера вспоминала те “золотые деньки” и записала в дневнике, что сотни людей пожелали засвидетельствовать им свое почтение28.
Перед тем как снова отправиться на Запад, Набоков уладил важное для него дело: отдал исследование о “Евгении Онегине”, главный научный труд всей своей жизни, в принстонское издательство Bollingen Press. Сопутствовали ему и прочие признаки писательской славы, о которых обычно писатели могут лишь мечтать. Британский издатель “Лолиты”, Джордж Уэйденфелд, встретился с Набоковыми, когда они были в Нью-Йорке, и пообещал (причем в конце концов сдержал почти все свои обещания)29 издать или переиздать в Великобритании “Под знаком незаконнорожденных”, “Приглашение на казнь”, “Николая Гоголя”, “Память, говори”, “Смех в темноте”, “Подлинную жизнь Себастьяна Найта”, а также или “Дар”, или “Защиту Лужина”. В Англии положение с цензурой пока что оставалось неясным, так что издание приличных, без мотивов педофилии, произведений Набокова могло пойти на пользу “Лолите”, однако чутье подсказывало Уэйденфелду, что каждое слово такого автора, как Набоков, – тем более теперь, после выхода революционного романа, – будет долгие годы привлекать читателей, и он решил рискнуть.
Превосходный французский перевод “Лолиты”, выполненный издательством Gallimard, был завершен: в Нью-Йорке Набоков прочел корректуру30. Перевод “Приглашения на казнь”, который сделал Дмитрий, тоже оказался удачным. Больше Набоковым не пришлось с досадой доделывать за сыном его работу, по крайней мере, так, как это было с “Героем нашего времени”, так что несбыточная мечта приспособить Дмитрия к семейному делу, то есть перевести на английский язык все русские произведения Набокова, начиная с “Машеньки” (1926), теперь казалась осуществимой31. Как и долгое путешествие по западным штатам. Из Нью-Йорка Набоковы поехали на юг, поближе к теплу. Первую остановку сделали в Гетлинберге, штат Теннесси, – воротах в национальный парк “Грейт-Смоки-Маунтинс”, в котором впервые побывали в 1941 году, в первое эпохальное путешествие на запад. “Мы ехали медленно”, – описывала Вера эту часть их поездки. В высокогорьях Теннесси “буйно цвел кизил и многочисленные… деревья и кустарники, которыми пестрели склоны гор”32.
Набоковы надолго попрощались с Америкой. Они не знали, что это прощание, и не признавались в этом сами себе: им виделась определенная бестактность в том, чтобы, получив большой куш, развернуться спиной к стране, которая их приютила и благодаря которой, как утверждают некоторые, Набоков стал всемирно известным писателем[58]. Безукоризненная восприимчивость Набокова, его интерес к экзотической, пестрой американской действительности породили великие произведения. “Бледное пламя” стал последним, наполовину американским романом (задуман в Соединенных Штатах, написан по большей части за границей; события разворачиваются в Америке, если не считать воспоминания Кинбота о волшебной стране); после “Бледного пламени” появилась “Ада”, труд всей жизни, умное, жесткое, высокомерное произведение, полное описаний механистических совокуплений в духе Хью Хефнера, на фоне фантастических пейзажей, полное гротескных каламбуров, напоминающих стиль “Поминок по Финнегану”: Набоков некогда сказал, что этот роман – “холодный пудинг, а не книга, надоедливый храп в соседней комнате”33.
“Удивительные люди эти американцы!” – восклицает Вера, и в этих словах отразилось их с Владимиром отношение к Америке. Однако были у них и причины для досады. Из проекта под названием “Дмитрий” долгие годы ничего не выходило. В Америке родители, которым, разумеется, хотелось видеть сына благополучным, постоянно боялись за него из-за склонности Дмитрия к опасным увлечениям. Набоковы хотели, чтобы он занимался чем-то полезным и разумным. А уж когда Владимир прославился, объяснять Дмитрию, что не стоит покупать ту или иную машину или спускать родительские деньги на ветер, стало еще труднее: действительно, почему бы не жить весело и на широкую ногу?
Беспокоили Веру и беспорядки в Америке. В мае 1958 года она записала в дневнике: “Вчера ночью ревущая толпа студентов Корнелла заявилась к дому президента Мэлотта. Когда он вышел с ними поговорить, они забросали его яйцами и камнями”. Причиной протестов оказался “предполагаемый запрет на так называемые «вечеринки в общагах», – может, и несправедливый, но это не оправдание для уличных беспорядков, – отрезала Вера. – Кирка, младшего сына профессора Сейла, – речь о Киркпатрике Сейле, редакторе студенческой газеты и будущем «левом» журналисте, – который в июне должен был закончить университет, временно исключили как официального заводилу студенческой толпы”•34.
Жесткая реакция Веры объясняется памятью об уличных беспорядках, которые устраивали большевики. А может, молодежный протест пугал ее сам по себе. В доме президента Корнелла разбили окна35. Иногда ярый Верин антикоммунизм рождал странные идеи – к примеру, уверенность (которую разделял и Владимир) в том, что Пастернак охотно служит советским хозяевам и что рукопись “Доктора Живаго” передали итальянскому издателю-коммунисту Джанджакомо Фельтринелли36 не просто так; что критика Советского Союза в романе насквозь фальшива и рассчитана исключительно на то, чтобы “поднять продажи на Западе” и в Советский Союз “потекла иностранная валюта, которую власти прикарманят и в конце концов потратят на зарубежную пропаганду”, как объяснял Владимир в интервью. “Любой русский интеллигент понимает… что на самом деле книга большевистская и исторически лживая – хотя бы потому, что в ней нет ни слова о февральской революции 1917 года”37, о попытке переворота, устроенного политической партией, в которой состоял отец Набокова.
К концу 1960-х годов, уже в Монтре, антипатия Веры к студентам-бунтарям только укрепилась. Она считала их фанатиками, а в 1972 году с гордостью заявляла: “Мы все за Никсона и особенно против Макговерна: мы считаем его безответственным демагогом, который намеренно сбивает своих избирателей с толку и причинит вред Америке… Нам омерзительна позиция журнала The New York Review of Books (орган тех, кто «щеголяет радикализмом») по вопросу войны во Вьетнаме” (это мнение разделял и Владимир)38.
Они уехали из Америки, и теперь Америка их пугала. Набоковы приняли за чистую монету браваду юных радикалов, их уверенность в том, что им, к примеру, по силам устроить революцию. В 1970-х годах Набоковы подружились с Уильямом Ф. Бакли, который подписал их на консервативный журнал National Review, и Набоковы регулярно его читали39. Из этих и других источников Вера заключила, что Америка на грани расовой войны40, что в Нью-Йорке опасно выходить на улицу, что общество сошло с ума. При этом Набоковы не переносили, когда при них критиковали Америку, и изо всех сил защищали ее внешнюю политику. В 1966 году, когда де Голль вывел Францию из НАТО41, тем самым бросив вызов США, Набоковы отменили запланированный было отпуск у Монблана. Их приводили в ярость оскорбления американского флага (например, если флаг сжигали или изображали карикатурно)42.
Набоковы часто обещали вернуться, чтобы повидаться с американскими друзьями, но вместо этого те сами ездили к ним в гости в Монтре, соблюдая все правила поведения, чтобы не создавать хозяевам неудобств. Набоковы приезжали в Америку в 1962 году на премьеру фильма Кубрика, а в 1964-м – для рекламы “Евгения Онегина”, который вышел в издательстве Bollingen. Обе поездки получились приятными, хотя во время них Набокову приходилось немало работать. 5 апреля 1964 года он громовым голосом читал стихи и прозу в культурном центре еврейской молодежной ассоциации 92nd Street Y в Нью-Йорке. Манера чтения Набокова с его шутливо-поучительными интонациями и старомодным британским произношением тех или иных слов (a-gane вместо again, re-wawd вместо reward) напоминала стиль актера Джона Хаусмана (родом из Румынии)43, в особенности в рекламе инвестиционного банка Smith Barney. Рафинированный разговорный английский Набокова (он словно посмеивался над другими, утверждая собственное превосходство), однако, всегда был четок и понятен. Ему несколько мешал пробивавшийся иногда русский акцент44 да, пожалуй, вставные зубы, но и это писатель ухитрился обратить себе на пользу: он взял манеру изъясняться так назидательно и высокопарно, как носители языка позволяют себе разве что в шутку.
Через восемь лет Набоков снова собирался приехать в Америку. Издательство McGraw-Hill как раз должно было выпустить Strong Opinions (“Твердые убеждения”, 1973) – сборник его интервью, рецензий и писем к редакторам. “У меня уже скопилось немало дневников, заметок, писем и т.п., – писал он в издательство, – но чтобы адекватно описать годы, проведенные в Америке, мне понадобятся деньги, чтобы снова посетить несколько мест”, в том числе Большой Каньон и “прочие западные края”45. Последнее путешествие через всю страну, за счет издательства. В заметки вошла часть предисловия, и Набоков с самого начала заявляет, что его раздражает, когда в его произведениях ошибочно усматривают сатиру на американскую действительность: то, что он написал, никакая не сатира, хотя, что уж тут скрывать, у американцев есть свои странности.
Среднестатистический русский эмигрант… не позаимствует вашу расческу, не станет расхаживать босиком по ковру в гостинице или затыкать пробкой умывальник, чтобы набрать воды, как, не задумываясь, поступит его американский собрат46.
Набокова “очень беспокоило”, что в Америке его понимают превратно, – настолько беспокоило, что второй том мемуаров он писать не стал.
Требование Набокова не считать его сатириком имело под собой формальные основания. Он прекрасно понимал, что пишет с иронией, однако ирония – еще не сатира, которая требует нравственной оценки происходящего и нацелена на то, чтобы что-то изменить. И действительно, российские реформаторы XIX столетия намеревались изменить жизнь общества и потому в грош не ставили произведения, которые не служат реформам. Но Набоков и другие европейские писатели-модернисты (и даже некоторые американцы, начиная по меньшей мере с По)47 не ставили перед собой таких сверхзадач и строго разделяли социальную действительность и литературу. Эдмунд Уилсон, навещавший Набокова в Монтре, понял бы позицию друга и даже, пожалуй, согласился бы с ним. Уилсон не раз замечал, что литературное произведение полноценно само по себе и несопоставимо с реальностью. А вот в вопросе о том, что же главное в литературе, Набоков с Уилсоном расходились. Уилсону очень понравился “Доктор Живаго”, который Набоков считал “макулатурой” и сомнительным в политическом отношении произведением48. Уилсон опубликовал две большие статьи – одну в журнале New Yorker, а другую в Encounter, в которых отстаивал мысль о том, что роман Пастернака – “одно из величайших событий в истории литературы и морали”49. Пастернак обладает “смелостью гения”, утверждал Уилсон. Поэт, которого некогда Набоков уважал и который надолго замолчал в годы советского террора, написал роман-эпопею, обличавший ужасы режима50.
Тем более что это был современный роман. “Некоторые критики… совершенно не поняли дух и форму книги”, – писал Уилсон. Их сбили с толку
британский и американский перевод, в которых… начисто отсутствует поэзия и сместились важные акценты. “Доктор Живаго” вовсе не старомоден: несмотря на то, что в некоторых военных фрагментах слышится интонация Толстого, сравнивать роман с “Войной и миром” не имеет смысла. Это современное поэтическое произведение, написанное автором, который читал Пруста, Джойса и Фолкнера и который, подобно Вирджинии Вульф… далеко ушел от своих предшественников и сказал новое слово в этом жанре51.
Текст романа сложен, изобилует символами и аллюзиями, писал Уилсон. В нем есть искусные аллегории и местами он “очень похож на произведения Джойса… На Пастернака оказали влияние «Поминки по Финнегану»”, – утверждал Уилсон52.
Разумеется, Уилсон прекрасно понимал, что его мнение о Пастернаке раздражает Набокова. Заканчивая работу над статьей для журнала New Yorker, Уилсон признавался в письме приятелю, что общался по телефону с Владимиром и тот “отзывался о Пастернаке очень дурно. Я говорил с ним… трижды за последнее время на другие темы, и каждый раз он распинался о бездарности «Доктора Живаго». Ему хочется быть единственным современным русским писателем”53. Уилсону, видимо, хотелось осадить Набокова: он знал за ним привычку высмеивать других писателей и не выносил ее. Тот “только что обнаружил, что Стендаль – обманщик, – писал он другому другу, – и собирается сообщить об этом студентам. Еще он впервые прочел «Дон Кихота» и заявил, что это полная дрянь”54.
Набоков извращал смысл произведений. Так, толстовская “Смерть Ивана Ильича” в его пересказе превратилась в “вереницу жестоких насмешек”55 – так, как могло получиться у самого Набокова. Уилсон и Набоков расходились в оценке содержания и потенциального будущего “Доктора Живаго”. Уилсону хотелось объявить “этот жанр” (он полагал, что роман Пастернака создан в русле модернизма) литературной традицией, в рамках которой появляются произведения настоящего нравственного величия, которые несут читателям истину и при этом безупречны в эстетическом отношении. Набоков, разумеется, ни о чем таком и не помышлял: собственно, вся его писательская карьера доказывает, что это невозможно. Он как мог старался избегать довлеющего “русского вопроса” и снова и снова заявлял решительное non serviam[59]: никаких личных страданий, никаких излияний из темных глубин души56. Он не собирался становиться ни Пастернаком, ни Мандельштамом, ни Солженицыным (если взять пример из младшего поколения писателей). Как бы он ни чтил великую русскую литературу и ни служил ей, он никогда не написал бы роман в духе Пастернака, религиозно-историческую сагу, опять же о “вечном вопросе”, – гуманистическую, общечеловеческую, “вдохновляющую”.
Он яростно реагировал на “символико-социальную критику и ложную эрудицию”, которые видел в статьях Уилсона о “Докторе Живаго”. Чтобы впредь не смели обращаться к мистеру Уилсону за статьями в поддержку его, Набокова, произведений: так велел он Уолтеру Минтону по поводу перевода “Приглашения на казнь”. Он заставил Веру написать Уилсону:
Как вам уже, должно быть, известно, в издательстве New Directions выходит новое издание “Подлинной жизни Себастьяна Найта”. Вы тепло отзывались об этом романе в 1941 году, когда его впервые опубликовали, и поэтому редакция New Directions решила попросить вас снова высказаться о нем… Владимир не одобряет, что издательства докучают знаменитостям… и просит вас отказаться. Он написал в New Directions, что возражает против подобных требований57.
На случай, если вдруг Уилсон не заметил ледяного тона письма, Вера прибавляет:
Это письмо написала я, а не Владимир, по той лишь причине, что он хотел отправить его как можно скорее, но поскольку последние четыре дня писал, совершенно выбился из сил.
Письмо застало Уилсона в его доме на севере штата Нью-Йорк. Стоял июль 1959 года, и Уилсон, действительно, был знаменитостью и грелся в лучах запоздалой славы. “Свитки с Мертвого моря” (The Scrolls from the Dead Sea, 1955) пользовались оглушительным успехом: на протяжении 33 недель удерживали место в списке бестселлеров New York Times58. К работе над книгой Уилсон подошел со свойственной ему обстоятельностью: сперва выучил новый язык (иврит), потом написал серию глубоких репортажей для New Yorker, потом – две статьи, пользовавшиеся невероятной популярностью59, и, наконец, книгу, – с удачно выстроенной композицией, затрагивающую острые политические и сложные научные вопросы, стилистически безупречную. Стиль Уилсона, безусловно, добавлял теме увлекательности. Уильям Шон, главный редактор New Yorker, считал Уилсона с его описаниями одним из шести лучших стилистов за всю историю существования английского языка60. Вскоре Уилсон выпустил еще один труд на сложную и спорную историческую тему, “Извинения перед ирокезами” (Apologies to the Iroquois, 1960)61, основанный на скрупулезном репортаже в духе “Американской дрожи” (The American Jitters), а спустя два года выпустил классическое исследование по литературе периода гражданской войны, “Патриотическое кровопролитие” (Patriotic Gore, 1962), великую книгу по американской истории. Говоря словами Набокова, Уилсон тоже творил миры. Нельзя сказать, что он не реализовался как писатель и поэтому страдал от зависти. Роджер Строс, издатель, который стал близким другом Уилсона, как-то признался: “Я никем так не восхищался, как Уилсоном, и ни с кем так не любил общаться”62 – в основном потому, что “меня восхищало то, с каким интересом и теплом он относился к писателям прошлого и настоящего”. Если считать, что неприятие “Лолиты” объяснялось завистью, то нужно заметить, что другие за Уилсоном подобного не замечали.
Переписка Набокова с Уилсоном, продолжавшаяся двадцать лет, служила источником и доказательством их прекрасной дружбы – и вот теперь почти сошла на нет. Они уже не писали друг другу пространных писем63, и хотя в кратких записках по-прежнему уверяли друг друга в самых теплых чувствах, но все же после того, как Уилсон с восторгом встретил “Доктора Живаго”, что-то между ними завершилось. Скандал, разразившийся шесть лет спустя, летом 1965 года, когда Уилсон опубликовал в New York Review of Books резкую, насмешливую, небрежную статью о набоковском переводе “Евгения Онегина”, зрел еще со времен истории с “Доктором Живаго”. Возможно, Уилсона вывела из себя жестокость Набокова по отношению к другим писателям, так что в статье он бесцеремонно нападает не столько на перевод, сколько на его автора:
Этот труд, в некоторых отношениях, безусловно, ценный, все же вызывает разочарование, так что, хотя критик – близкий друг мистера Набокова и питает к нему искреннюю и теплую привязанность, которую лишь изредка остужает раздражение, а также поклонник большей части его произведений, – даже не будет пытаться это разочарование скрыть. Поскольку в правилах мистера Набокова предварять каждый труд такого рода… утверждением, что он гений, не знающий себе равных, а остальные – невежды, тупицы и шуты… то едва ли он вправе обижаться, если рецензент… укажет на его недостатки64.
Годом ранее, расчищая место для своего “Онегина”, Набоков разнес в пух и прах предыдущий перевод, выполненный литературоведом из университета Северной Каролины. Теперь настал черед Уилсона выступить с резкой критикой:
Мистер Набоков… выступал на этих страницах с пространной критикой [той книги]. В [своей] статье, похожей на мелочные придирки и упреки Маркса всякому, кто осмеливался писать об экономике и при этом держаться отличных от него взглядов, он подробно разбирал то, что назвал “германизмами” и прочими погрешностями профессора Арндта… Арндт предпринял титаническую попытку перевести “Онегина” оригинальным размером, то есть четырехстопным ямбом… Набоков решил, что перевести “Онегина” таким образом, сохранив верность оригиналу, невозможно… Перевод Набокова гораздо хуже, чем у Арндта. Он выполнен неуклюжим и убогим языком, который не имеет ничего общего с пушкинским языком и стилем65.
Уилсон сравнил Набокова с Марксом: такого Владимир стерпеть не мог. Ответ Набокова, ответ Уилсона на его ответ, реакция третьих лиц, – история растянулась на три года. Набоков ехидно возразил, что “некоторые честные простофили считают мистера Уилсона авторитетом в моей сфере… Едва ли необходимость защищать мой труд… стала бы для меня достаточной причиной, чтобы обсуждать его статью”66, но кошмарные ошибки Уилсона – “сбывшаяся мечта полемиста, и надо уж совсем не иметь спортивного азарта, чтобы оставить подобное без ответа”.
Набоков остроумно критикует ошибки Уилсона и тем самым ставит его на место: стиль оппонента отличает “смесь высокопарного апломба и брюзгливого невежества”, а его английский “вопиюще неточен и ущербен”. А вот что Набоков думает о том, как Уилсон владеет русским языком:
Терпеливый свидетель его длительной и безнадежной любви к русскому языку и литературе, я неизменно пытался объяснить Уилсону его чудовищные ошибки в произношении, грамматике и значении слов. Не далее как в 1957 году… мы оба были неприятно поражены тем, что, несмотря на мои регулярные замечания о русской просодии, Уилсон по-прежнему ничего не смыслит в русских стихотворных метрах. Я попросил его прочесть “Евгения Онегина” вслух, и он принялся с жаром декламировать, искажая каждое второе слово… то кривя рот и бормоча, то трогательно взлаивая… так что вскоре мы оба покатились со смеху67.
Набоков высказывает “крайнее отвращение”68, которое вызвала у него “безнравственная” и “мещанская” критика его “Онегина”. Эти выпады направлены против главного врага, Уилсона (впрочем, других оппонентов Набоков тоже обсуждает с ядовитым пренебрежением). Уилсон проигрывает по всем пунктам. И хуже всего то, что он придерживается “старомодного, наивного, банального критического метода оценивать произведения с точки зрения общественных интересов… который переносит персонажей из созданного автором мира” и анализирует “этих перенесенных персонажей, как если бы они были «реальными людьми»”69.
Статья написана весело и задорно. Читаешь слова Набокова про “огрызок карандаша”70 и сразу представляешь себе невысокого Уилсона. Но в целом тон статьи агрессивен и натянут. Набоков не справился с главной задачей эссеиста (даже того, кто отстаивает собственный труд): зажечь в читателе интерес и не дать ему погаснуть. Вместо этого Набоков в язвительной и нудной статье на восемь тысяч слов поносит Уилсона на чем свет стоит, о Пушкине же упоминает мельком, так что складывается впечатление, будто “Онегин” – произведение для педантов. Гибкий и образный перевод Набокова, во многих отношениях – самый точный и невероятно красивый, несмотря на вольное обращение с рифмой и метром, остается за кадром. Похоже, писателя все же смутили замечания некоторых критиков, так что он рассказывает о “довольно-таки сухой и скучной”71 работе над романом в стихах, называет свой перевод “не таким уж безобразным” и обещает “в переизданиях избавиться от излишней образности… превратить его целиком в утилитарное произведение с еще более неровным английским… чтобы уничтожить последние остатки буржуазной поэзии”. И даже если это самоуничижение – не более чем притворство, обычно Набокову было несвойственно критиковать собственные работы. Статья пронизана горечью, несмотря на внешне шутливый слог, это акт разрушения, убийства дружбы – пожалуй, неизбежного, учитывая критику, с которой на него обрушился Уилсон, но от этого не менее прискорбного, гибельного и дикого72.
В Европе Набоковы в теплое время года часто выбирались на природу, в горы – охотиться на бабочек. В гористой опрятной Швейцарии им жилось хорошо, хотя иногда они скучали “по нашему родному Западу”73, как выразился Набоков в письме. Дмитрий жил неподалеку, в Италии, за время обучения оперному вокалу выучился бегло говорить по-итальянски и перевел на этот язык кое-какие произведения отца. Дмитрию принадлежала коллекция баснословно дорогих и редких спортивных автомобилей, на которых он участвовал в гонках74. Он обладал разносторонними талантами, которые отчасти повторяли таланты его знаменитого отца: не “поэт, писатель, энтомолог, ученый, переводчик”, но “переводчик, музыкант, альпинист, гонщик, моряк, донжуан и эссеист”, а также, помимо прочего, горнолыжник и любитель пинг-понга75.
В 1980 году, через три года после смерти отца, Дмитрий разбил “феррари” 308 GTB на дороге между Монтре и Лозанной, сломал позвоночник в районе второго шейного позвонка и получил ожоги третьей степени почти на всем теле. Он был уверен, что кто-то намеренно вывел его машину из строя. Через двадцать лет он признался в интервью, что все это время работал на ЦРУ76: “У меня было два воинских звания… Меня просили стать агентом, и с идеологической точки зрения это вполне объяснимо. Все было организовано на высшем дипломатическом уровне”. В 1960-е годы в Италии “наметился опасный перекос влево”77, и “мне поручили найти поддержку для правых партий и понять их цели. Непростая задача, сродни шахматной партии”. Американка, с которой Дмитрий дружил больше сорока лет78, знавшая все о его занятиях и житейских ситуациях, подтвердила, что Дмитрий работал “на ЦРУ или какую-то службу безопасности. Он был частью организации, которая принимала беглецов и эмигрантов из Восточной Европы”: Дмитрий встречал их в Италии и объяснял, что делать дальше. В 1980-е годы она познакомилась с куратором Дмитрия из разведки. Встречалась она и с итальянцами, которые держали конспиративную квартиру, где Дмитрий общался с беженцами.
Отцу об этой своей деятельности Дмитрий никогда не рассказывал79. После аварии, лечения в ожоговом центре и восстановления (на все вместе ушло больше года) у Дмитрия “поменялись приоритеты”80, и он решил посвятить себя “литературе – как произведениям отца, так и собственным”. Гонки, однако, не бросил. Купил новый “феррари” – “побыстрее и чуть более темного оттенка голубого”81. Он обожал гоночные катера, участвовал в многодневных гонках в Средиземном и Карибском море82, вместе с такими же богатыми любителями гонок, – это было сборище космополитов, в котором Дмитрий был своим благодаря харизме, самоуверенности, знанию языков, громкому имени и обаянию.
Его отец поменял отношение ко многим вещам – в частности, Америке с ее нормами и принципами, – благодаря своему юному сыну. Так Гумберт Гумберт через Лолиту познает Америку. Оба без памяти любят своих детей. В конце последней своей поездки в Америку, в 1964 году, выступив в Гарварде и в еврейском молодежном культурном центре 92nd Street Y, Набоков написал тому преподавателю, который, представляя его публике в Гарварде, “упомянул, что сын писателя взбирался на те самые стены, в которых его отец ныне читает лекцию” (речь шла о трюке, распространенном среди членов Гарвардского клуба альпинистов).
С отъездом Набокова в американской литературе что-то необратимо переменилось. Появились новые писатели (некоторых даже можно назвать последователями Набокова, наследниками его стиля), модернисты и постмодернисты, любители черного юмора, хотя о вере в силу искусства прозаика, чей титанический труд преодолевает все препятствия, уже открыто не упоминали – слишком самонадеянное убеждение, чтобы в нем признаваться. Количество ценителей литературы, близкой по стилистике творчеству Набокова, не растет так стремительно, как, скажем, количество любителей видеоигр, а то и вовсе уменьшается. В то же время средства компьютерного поиска позволяют с невероятной легкостью отыскивать в текстах литературные заимствования. Некогда писатели, подобно Набокову, полагались исключительно на собственные познания и интуицию и часами просиживали в библиотеках. Творческий метод Набокова, в значительной степени заключавшийся в дополнении или пародии на произведения предшественников, может пережить второе рождение с помощью уже имеющихся новых средств или тех, что появятся в ближайшем будущем: нет никакого сомнения, что найдется немало желающих поучаствовать в этом маскараде.
Набоков в своем творчестве затрагивает глубоко личные, сокровенные темы. Его сдержанность, мнимая отчужденность, отрицание интереса к реальности любого рода, кроме той, которая существует в текстах, – все это надо оценивать, исходя из тональности его произведений. Максимальная близость: не близость показного сопереживания, но близость разума, который апеллирует к другому разуму самым трогательным образом. Он шепчет на ухо, пусть иногда и ядовито. Ему удается заставить читателя отождествить себя с героем или повествователем, но и этого мало: сам автор за спиной рассказчика тайком пожимает читателю руку83. Кинбот в “Бледном пламени” – ярчайший пример такого рода. Исповедальная поэзия Шейда уступает место куда более откровенным признаниям безумного многословного комментатора, а Набоков с читателем знай себе переглядываются за спиной Кинбота: ну надо же, как жаль беднягу, но до чего же он смешон! Врет и не краснеет!
Голос Кинбота обретает беззаботность, надменность и нескрываемое самодовольство Набокова, который пишет “собственным” голосом – голосом, к примеру, комментатора “Евгения Онегина”:
Проницательность критика курьезно изменяет Пушкину, когда он в опубликованной статье… одаряет чрезмерной похвалой Сент-Бева за его вторичную и посредственную “Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма” (1829). Он нашел там необыкновенный талант и счел, что “никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такою сухою точностию”, – эпитет, который исключительно неуместен по отношению к напыщенной банальности Сент-Бева84.
Или, к примеру, более типичное примечание, посвященное одному-единственному слову:
…томной. Излюбленное слово, характеризующее Пушкина и его школу… в общем и целом эквивалент близких слов, которыми изобилует французская и английская чувствительная литература; однако, в силу фонетической близости слову “темный” и благодаря его итальянскому полнозвучию, русский эпитет своею мрачной выразительностью превосходит соответствующий английский и лишен несколько иронического оттенка последнего85.
Кинбот пишет, словно прочитав боллингеновское издание “Онегина”:
Добрая, старая Сильвия! Она разделяла с Флер де Файлер нерешительность манер, томность повадки, частью врожденную, частью напускную – в качестве удобного алиби на случай опьянения, – и каким-то чудесным образом ухитрялась сочетать эту томность с говорливостью, напоминая мямлю-чревовещателя, которого вечно перебивает его болтливая кукла86.
И, наконец, Кинбот, как Набоков, так отчаянно жаждет близости, что трансформируется сама сущность правды. Научная истина – позитивистская, основанная на доказательствах, истина, что подобна приколотому насекомому на лабораторном столе, – уступает истине страстной просьбы, истине отчаянной задушевной мольбы, перед которой все бессильны и которая не знает преград. Он непременно должен существовать, этот сумасшедший король, и он наверняка существует, поскольку его слова превращают безумие в действительность.
Критика реальности – которая, по словам Набокова, ничуть его не интересовала, а значит, не должна занимать и нас, его читателей, – все-таки непоследовательна. В книгах американского периода правит реальность: узнаваемая американская реальность87. И она куда правдивее, нежели признает Набоков: она передана так верно и свободно, что даже немного пугает. Читатель “Лолиты” чувствует, что “накал страстей в книге высок, от него несвободен даже рассудок, даже чувство юмора”, так что смех в романе звучит “жутко”. Книга производит такое впечатление, поскольку в ней убедительно изображена Америка. Сперва читатель испытывает шок, даже, пожалуй, отвращение, но потом у него возникает желание “посмеяться над теми, кто не сумел увидеть, сколько правды таится за этой фантасмагорической игрой теней”. Вскоре после выхода романа Ф.У. Дьюпи написал, что от “Лолиты” остается ощущение, будто “жизнь – мистификация, игра”. Образы, выведенные в романе, “призрачны и страшны, но узнаваемы”, и “жуткие перипетии, в которые попадает Гумберт, – это наши перипетии”. Союз Шарлотты Гейз и Гумберта Гумберта, безусловно, аномален, но это отражение “мучительной комедии семейной жизни в целом”88. Не будь “Лолита” настолько убедительна, едва ли она произвела бы такое впечатление: скорее всего, сейчас о ней бы уже никто не помнил.
В середине 1960-х годов в своем швейцарском пристанище Набоков предпринял эксперимент со временем89, идею которого позаимствовал у писателя Дж.У. Данна, опубликовавшего в 1927 году трактат о снах. Основная мысль Данна заключалась в том, что человеку кажется, будто время движется только в одном направлении: вперед. На самом же деле время вовсе не река, а океан – прошлое, настоящее и будущее в нем сливаются воедино и всегда доступны, если, конечно, научиться их различать. Данн признавался, что ему, бывало, снились сны “не в ту ночь” – не после какого-то сенсационного события, о котором он читал в газетах, а до него. Самым страшным примером90 стал сон о взрыве на острове, при котором погибли четыре тысячи человек: через несколько дней сообщили об извержении вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника (8 мая 1902 года), которое, по первым оценкам, унесло жизни сорока тысяч человек.
Набоков привлек к проекту Веру и в течение трех месяцев, начиная с октября 1964 года, записывал их сны. Первое, о чем хочется упомянуть в связи с этими записками, – они противоречат его жалобам на бессонницу. Он спит каждую ночь – может, и меньше, чем хотелось бы, и не так глубоко, но все же спит. И ему снятся сны, копятся рассказы о них, и набирается их такое множество, что Набоков даже делает какие-то общие выводы – например, о том, что
для всех моих снов характерны следующие признаки91:
1. Четкое ощущение точного времени, но при этом смутное чувство того, как оно проходит
2. Множество совершенно незнакомых людей, некоторые почти в каждом сне
3. Вербальные особенности
4. Довольно последовательное, довольно ясное, довольно логичное (в определенных рамках) мышление
5. Очень трудно вспомнить сон целиком, даже в общих чертах
6. Повторяющиеся темы и мотивы.
Он уже некоторое время работал над романом “Ада”, часть которого основывается на этих и других наблюдениях. (В частности, Ван Вин – психиатр, который специализируется на снах.) Другая часть – это трактат, над которым работает Ван Вин, под названием “Текстура времени”. Набоков записал жутковатый сон про Уилсона, которого в последний раз видел в ноябре 1964 года, когда тот ненадолго приезжал в Монтрё:
Спускаюсь по лестнице на вокзале, похожем на лозаннский, и встречаю Эдмунда… Он ждет поезда. Я говорю ему, что пойду “наверх”, чтобы его проводить. Он оживленно ходит по платформе, и я отмечаю, каким подтянутым и бодрым он выглядит в темно-сером костюме. Мы теряем друг друга из виду в толпе, и поезд ускользает92.
В другом сне Набоков расплакался, как когда-то, пятилетним ребенком93. Причину расстройства он не объяснил.
Рассказы о снах дружелюбны. Как большинству взрослых, Набокову снится, что ему нужно сделать какое-то срочное и важное дело, причем как можно скорее и в стрессовой ситуации. В отличие от большинства сновидцев, ему обычно это удается. Он редактирует рассказы, чтобы не обременять читателя подробностями своих кошмаров. (За все время он записал только один кошмар: он оказался в местности, полной прекрасных бабочек, а сачка у него с собой нет.) Кто же тот “читатель”, для которого Набоков так тщательно выбирает, о чем рассказывать, а о чем нет? Во-первых, он писал для самого себя или для исследователей, которые однажды могут обнаружить в архивах его дневники с описаниями снов: для них он признается, что у него бывают повторяющиеся зловещие сны, “пророческие” сны, сны, предвещающие ужасные катастрофы, после которых наступит конец света, но в целом Набоков склонен приуменьшать важность дурных снов. Он крайне рационален и рассудочен, если верить его записям, и даже в курьезной стране сновидений ему усилием воли удается сохранять хладнокровие94.
Читать эти рассказы – одно удовольствие. Они полны странностей и движения: автор явно наслаждается несоответствиями. Иногда во сне Набоков думает о том, что надо бы это все записать, тут же просыпается и записывает. Для тех читателей, кто будет вечно по нему скучать, для кого литературный пейзаж без него пуст, а голоса слабы, кому он подарил незабываемые, богатые впечатления от литературы ХХ века, Набоков будто оживает снова и шутливо шепчет на ухо:
8 часов утра, 16 октября 1964 года, пятница. Танцевал с Ве. Ее открытое платье, почему-то в крапинку, летнее. Проходивший мимо мужчина ее поцеловал. Я схватил его за голову и ударил его лицом об стену с такой яростной силой, что едва не насадил его, как кусок мяса, на какую-то арматуру… С трудом отлепил окровавленное лицо от стены и, пошатываясь, ушел прочь.
17 октября, 8:30 утра. Сижу за круглым столом в кабинете директора маленького провинциального музея. Он (…безликий администратор, незапоминающиеся черты лица, короткая стрижка) объясняет что-то про коллекции. Вдруг я понимаю, что все то время, пока он говорил, я рассеянно ел экспонаты на столе – какие-то крошащиеся кирпичики, которые я, видимо, принял за пыльные и безвкусные пирожные и которые на самом деле оказались редкими образцами почв… И теперь меня больше заботит не то, как я перенесу подобное угощение… но как их вернуть и что же это на самом деле было: вдруг они очень ценные… Директора позвали к телефону, и я разговариваю с его заместителем.
Один из снов с пышностью, достойной бодрствующего писателя, демонстрирует – в духе Дж.У. Данна – видение прошлого, настоящего и будущего, совмещенных в одном событии:
Проснулся рано и решил это записать, хотя еще очень сонный… Я лежу на диване и диктую Ве. Видимо, сначала диктовал я с карточек, которые держал в руках, потом диктую в процессе сочинения… Речь идет о новом, дописанном “Даре”. Мой молодой человек Ф[едор] рассказывает о своей судьбе, которая уже состоялась, и о собственном постоянном смутном ощущении, что она должна была стать великой. Я медленно говорю это [по-русски]… Я декламирую все это, взвешивая каждое слово и сомневаюсь, брать ли [это русское слово], не увеличит ли оно и без того длинную внутреннюю тень… Вместе с тем я не без самодовольства думаю о том, что никому еще не удавалось передать ностальгию лучше меня и что я искусно изобразил… некую тайную черту: до того, как все на самом деле покинули навсегда эти авеню и поля, ощущение невозможности вернуться… было в них запечатлено.
Есть множество других снов. Последняя коллекция, написанная не для публикации, но – потому что таков был его непобедимый инстинкт – для того чтобы те, кому она попадется на глаза, с интересом прочитали эти рассказы, полюбили его – и получили удовольствие.
Благодарности
Как всякий, кто берется писать книгу, я очень волновался, принимаясь за этот труд. Великие писатели пугают столько же, сколько привлекают, а Набоков особенно: вся западная литература так или иначе взаимодействует с ним, выражает себя через него. Он – великий Пифон искусства, поглотивший русскую литературу, французскую литературу, английскую начиная с Шекспира и далее, вобравший в себя собственный ХХ век – от поэтов Серебряного века и до постмодернизма, который во многом начался именно с него, – он, можно сказать, самый длинный змий за всю историю литературы. Я полюбил его книги еще в далекой юности. Удовольствие, которое я получал от его произведений, во многом связано со временем: не с осмыслением понятия времени у Набокова, но с тем, как я ощущал его, читая. Темп его прозы доставлял мне истинную радость, опьянял: я чувствовал, что у меня “достаточно времени”, чтобы прочитать тот или иной его абзац, в кои-то веки не заботясь о том, сколько страниц осталось в книге. Для меня Набоков уникален: его романы “зачаровывают” – словом, производят на меня ровно то впечатление, на которое и рассчитывал писатель (по его собственному признанию).
Набокову посвящено множество исследований – как профессиональных ученых, так и дилетантов – поклонников его творчества. Любовь к писателю выливается в конференции, сайты, посвященные Набокову, информационные и новостные рассылки, общества его имени, бесчисленные статьи и книги и так далее. Я сам набоковед и с гордостью в этом признаюсь, хотя и отдаю себе отчет, что мои старания больше похожи на потуги фанатов. При этом меня как набоковеда немного смущает общая тональность поклонения писателю. К примеру, беспорядочное употребление слова “гений”. Великого писателя называют гением романа, поэзии, энтомологии, рассказа, чтения лекций перед студенческой аудиторией в 300–400 человек, шахматных задач типа solus rex, драматических произведений и эссе. Хорошо, согласен, он был действительно очень талантлив – несказанно талантлив[60].
Все это напоминает мне теорию, о которой я впервые услышал от историка Джудит Волковиц: эта теория называлась “мальчик в возрасте бар-мицвы”. Такой мальчик обладает самыми разными талантами, лезет из кожи вон, чтобы понравиться, а если вы не считаете его самым умным и замечательным, так спросите его маму, она вам все быстренько разъяснит. Дело-то не в том, действительно ли Набоков гений в той или иной сфере: куда интереснее ответить на вопрос, почему спустя 115 лет после его рождения знаменитые ученые по-прежнему посвящают ему исследования и ломают копья из-за его статуса разностороннего гения. Зачем Набокову понадобилось, чтобы о нем так думали? Мы-то полагали, что он уже давно вырос.
Я заметил, что поклонение непременно влечет за собой стремление обладать, так что, принимаясь за книгу, больше всего боялся реакции ученого сообщества, в котором все друг друга знают, разбираются в творчестве Набокова (в особенности в его произведениях, написанных по-русски) во сто крат лучше меня и воспримут меня как самозванца. Однако каждый раз, как мне случалось обращаться к тому или иному авторитетному набоковеду, он или она относились ко мне по-доброму. На каком-то этапе я решил, что мне совершенно необходимо прочитать все, что писали о Набокове до меня. Я на два года уселся в удобное кресло и погрузился в изучение биографий и критических исследований. К счастью, по большей части они оказались остроумными, основательными и содержали массу новой для меня информации. Да и просто было приятно их читать: такими и должны быть труды по литературоведению. Лучшие из них перенесли меня в беззаботные университетские годы, когда я знакомился с искусно написанными работами таких ученых, как Джон Кроу Рэнсом, А.А. Ричардс, Ф.Р. Ливис, Лайонел Триллинг, Аллен Тейт, Роберт Пенн Уоррен, Эдмунд Уилсон: всех их я представлял себе джентльменами в твидовых костюмах, которые курят трубку у камина комнате, полной книг, а за венецианским окном медленно падает снег. Я учился в маленьком университете, где читал лекции Монро Бердсли, соавтор манифеста “новой критики” “Заблуждение в отношении намерения”, и хотя я ни разу не был ни на одном его занятии, его подход так или иначе оказал влияние на всех молодых университетских преподавателей английской литературы. Меня учили избегать биографического подхода, искать “структуру” и “систему образов” в текстах, суть которых не должна была меня заботить. Критические исследования, которые нам задавали читать, сами по себе были увлекательными.
Среди тех, кто любезно отвечал на мои расспросы о Набокове, хочется упомянуть профессора Брайана Бойда из Оклендского университета, профессора Эрика Наймана из Калифорнийского университета в Беркли и почетного профессора Стивена Дж. Паркера из Канзасского университета. Хотелось бы поблагодарить профессора Джона Берта Фостера-младшего из университета Джорджа Мейсона за приятный ланч и обсуждение вопросов, которые долгое время не давали мне покоя, а для него были прописными истинами. Его работа “Искусство памяти и европейский модернизм в творчестве Набокова” (Nabokov’s Art of Memory and European Modernism) – единственное известное мне исследование по культурным корням Набокова. Профессор Фостер прочел эту книгу в рукописи и указал мне на ряд досадных ошибок. Также рукопись любезно прочитала и прокомментировала (чем немало воодушевила ее автора) профессор Галя Димент из Вашингтонского университета, чью книгу о Набокове отличает мягкий юмор и глубокое понимание творчества писателя. Также хочу поблагодарить писателя и врача-эпидемиолога Эндрю Мосса из Сан-Франциско и прозаика и мемуариста Роба Куто из Нью-Пальтца, штат Нью-Йорк, за то, что они прочитали мою книгу.






