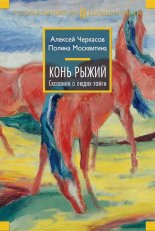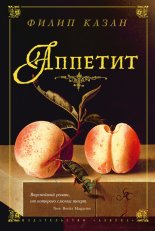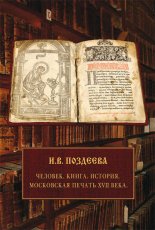Шаг за край Сескис Тина

— Ты чего это хлопочешь, детка? — спрашивает Ангел, и я рассказываю, как провела день, стараясь, чтобы получилось поинтереснее, но меня одолевает робость, присутствие всех остальных меня стесняет.
— Так что сегодня у меня был день отдыха, завтра надо начать искать работу, — говорю под конец, смущенная, что сделалась центром внимания.
— А какая у тиибья занятья, Китти Кэт? — спрашивает Долорес.
Все это у меня продумано и подготовлено, я даже еще в Чорлтоне тайком себе резюме составила, только не распечатала: тогда, понятно, еще не знала своего нового адреса или номера телефона.
— Я референт, в приемной сижу, — говорю. — Раньше работала в юридической фирме, теперь задумала сменить это занятие на что–нибудь, будем надеяться, более вдохновляющее.
— Долорес тоже в приемной сидит, не так ли, детка? — говорит Ангел. Смотрю на Долорес, на ее обтягивающий сексуальный наряд, вижу, какая она живая и по натуре солнечная, и никак не могу вспомнить, с чего это я решила, что работа референта в приемной для меня сгодится. Как–то это связано с тем, что ее легко освоить (наверняка), что думать много не придется, что в глаза не буду бросаться. И будет трудно найти меня.
— А то! Абажаааю это дело, лючче работа в мире нет… Ха–ха–ха.
Интересно, думаю, насколько на деле хороша Долорес как референт с ее–то акцентом, какой и разобрать–то трудно, и своеобразными познаниями в английском языке. Тем не менее она радушна и забавна, на вид симпатична, и я начинаю понимать, что на самом деле не выгляжу референтом из приемной, нет у меня того лоска. Мой наряд для собеседования строг, если не по–адвокатски чопорен, я не очень пользуюсь косметикой, и у меня теперь нет никаких украшений, ни единого — с тех пор, как я оставила свое обручальное кольцо в вокзальном туалете Кру.
Смуглый малый отходит от плиты и достает из посудной сушки две мисочки, я и впрямь надеюсь, что — для его же пользы — Бев исполнила обещанное и хорошенько все отчистила после того, что случилось с ее обувкой. Малый половником накладывает в миски зловонное зеленовато–коричневое варево. Достает две вилки из ящика и два стакана из шкафчика, наполняет стаканы водой из–под крана, сует вилки зубцами вверх и в стороны в карман джинсов, помещает (на манер официанта) одну миску на правую руку, прихватывает оба стакана большим и указательным пальцами левой руки так, что его длинные грязные ногти уходят в воду, и наконец подхватывает вторую миску свободной правой рукой. Осторожно шагает из кухни, зацепляет правой ногой дверь, тянет ее, открывая на себя, варево падает на пол, малый размазывает его подошвой. К тому времени, пока он проделал все это, я успеваю подумать, не быстрее ему было бы отнести миски, а потом вернуться за водой и вилками, а еще увериться: в чем–то тут кроется урок, — но не могу сообразить, в чем именно. Заканчивается последняя песня, под конец раздается громкий треск, которого я раньше не слышала (айпод, думаю, должно быть, чудит или список воспроизведения составлен с бору по сосенке), а потом звучит «Ты солнца свет жизни моей» и, когда Стиви Уандер поет вторую строку, глаза мои полны слез, что замечает Ангел, и я сразу опускаю взгляд, упираюсь им в руки, в то место, где когда–то было кольцо.
— А как ты хочишь работу достать, дарагушка? — спрашивает Долорес.
Беру себя в руки и рассказываю ей, что намерена зарегистрироваться в каком–нибудь бюро по временному трудоустройству и посмотреть, какие будут предложения. Долорес уговаривает меня пойти в бюро, которым руководит ее приятельница, это близко, сразу на Шафтсберри–авеню, а занимается оно подбором работников для медийных компаний. Говорит, надо спросить Ракель и сказать той, что я знаю ее, Долорес; я, конечно, признательна, только думаю про себя, а здорово ли будет упоминать об этом. Долорес поднимается со стула, склоняется и целует Ангел в обе щеки, причем дважды, тянет за рубашку Джерома вниз, к полу, и говорит:
— Покедова… так ты скажи Ракель, что виликая Долорес тебя послать… Ха–ха–ха.
Она уходит, покачиваясь на каблуках, а сзади раскачивается ее мощная аппетитная задница. Джером покорно плетется следом, словно громадный щенок на поводке, я слышу, как они выходят из дома и, наверное, направляются к Долорес домой в Энфилде.
Теперь на кухне остаемся только мы с Ангел. Ангел читает по моему лицу и понимает, что ничего болезненного касаться не стоит. Она зевает и говорит:
— Уф, нужно отдохнуть ночку. Вымоталась я что–то.
Наливает себе водку с тоником, предлагает и мне, и я сожалею, что не догадалась купить бутылку в супермаркете, нельзя же всю дорогу пить за ее счет. Пить мне не хочется, но я говорю «да», а потом предлагаю Ангел какую–то купленную готовую еду, и она тоже говорит «да», так что я ставлю лазанью и каннеллони в духовку, достаю из пакета зеленый салат. Иду к раковине, заглядываю в тумбочку под нею, откуда несет сыростью, все же нахожу какой–то отбеливатель и освобождаю раковину от грязной посуды и столовых приборов, наливаю лужицу отбеливателя и растираю его по всем сторонам. Споласкиваю раковину, снова мою, а потом наполняю горячей мыльной водой и мою оставленные, уже мытые и кое–как запихнутые в сушку тарелки. Ангел следит за мною, но, похоже, просто считает, что у меня бзик на чистоту, так что я рассказываю ей про Бев и собачье дерьмо, и мы обе хохочем, пока уже дышать не в силах горячим тошнотворным воздухом. Кожа на руках у меня после отбеливателя натянулась, высохла, я лижу кончики пальцев, смачивая их: отвратительная привычка, от которой я думала, что избавилась. Выпиваю еще водки и под конец делюсь своими тревогами насчет того, во что одеться завтра. Ангел уговаривает пойти за ней, ведет меня наверх, и хотя взять поносить ее одежду я не могу (я покрупнее ее), она одалживает мне серебристый пояс с сумочкой и серебристо–черный шарфик с рисунком в виде скелета, которые преобразили мое черное повседневное платье. Ангел идет собираться на работу, а я думать ни о чем не могу, кроме как о том, чтобы улечься в постель. Вот тут и подступает самое худшее: одна в комнате, волнуюсь, как там Бен с Чарли, правильно ли я на самом деле поступила, — только теперь уже слишком поздно, назад мне не вернуться. Взамен начинаю мысленно готовиться к завтрашнему, лежу неподвижно в полумраке и заставляю свои мысли нестись не в прошлое, а в будущее: по спутанным телефонным проводам, по пищащим факсам, расходясь по всем разрастающимся внутренним каталогам. Я вытесняю воспоминания, переключая рычажки необузданной панели управления, пока наконец не приходит сон.
14
Позже Эмили выяснила, что один благородный господин построил этот дом в 1877 году для любовницы, бывшей великой страстью его жизни. Рассказывали, что она обожала открывавшийся оттуда вид, и тогда он уговорил ее бросить камень в направлении моря, а там, где камень упал на землю, выстроил дом, хотя с точки зрения инженерии это было сущим кошмаром. Дом расположился в гуще деревьев, его ниоткуда не было видно, кроме как с моря у берега, и если смотреть оттуда при волнах, то казалось, что дом цеплялся за скалу — почти отчаянно, — будто боялся упасть. Казалось, что это даже и не в Англии вовсе, перспектива открывалась ясная и широкая: только желто–зеленые деревья и плоское голубое море, Средиземное, быть может. Бен с Эмили отыскали дом в тот первый Новый год, когда, чтобы убежать из грозящего невесть откуда бедой дома Фрэнсис и Эндрю (в конце концов, Кэролайн все еще жила в нем), они набили вещами его машину и подались на побережье Девоншира, веря, что доберутся туда, куда им и хотелось. Они ехали и ехали вдоль побережья с расположенными на нем мертвыми городками, мимо по–зимнему печальных гостиниц, и Эмили начинала терять терпение: может, с их стороны было безумием не подыскать заранее что–нибудь приличное, особенно в первый Новый год, который они встречали вместе, — она вовсе не хотела, чтобы праздник обернулся бедствием. Она уже собиралась предложить, может, лучше отправиться в глубь острова и найти себе маленький сельский паб: там обычно елку новогоднюю наряжают, говорила она, а может, и местечко окажется таким, какое славно увидеть в новом году, — как раз когда Бен повел машину вверх по круто забиравшей вверх дороге, зигзагами уходя от моря. Когда же они одолели последний поворот, то увидели старомодную вывеску: «Приют Шаттеров. Размещение. Питание вечером».
— Попробуем здесь? — спросил Бен. Эмили кивнула (не без сомнения), и он направил машину в ворота; по подъездной дорожке ехали, казалось, вечность в окружении деревьев, но в конце концов выбрались на открытое место, где и стоял просторный старинный деревенский дом: совершенный, неземной, словно по волшебству там возведенный. Бен поставил машину на стоянку, и они вышли из нее. Вокруг не было никого. Где располагался вход, было непонятно, да и дом вовсе не выглядел гостиницей, может, знак на дороге был старым или еще что. Ветер задувал резко и пронизывающе, Эмили куталась в жакет. Было четыре часа, небо казалось высоким и голодным, оно жадно пожирало остатки зимнего света. Они прошли до дальнего конца дома, зашли в каменный портик, чувствуя себя незваными гостями. Не было никакого звонка или колокольчика, и после нескольких бесплодных попыток достучаться Эмили попробовала повернуть бронзовое кольцо на гигантской дубовой двери. Та со скрипом отворилась, и им навстречу пахнуло теплым воздухом.
— Эй, есть кто? — позвала Эмили. Они уж совсем было отказались от своей затеи, когда послышались шаги и неизвестно откуда появился самый настоящий старый дворецкий, препроводил их к теплу, словно бы ожидал их прихода, подал им чай с фруктовым пирожным у камина в огромном зале. Вот так они и отыскали место, где в один прекрасный день им предстояло пожениться.
Та первая встреча Нового года была во всем, кроме одного, лучшей изо всех, какие только помнились Эмили. Обычно ей становилось ненавистным это время натужного веселья, и она давным–давно отказалась от походов в местный паб со старинными школьными подружками, где народ считал, что если уж канун Нового года, значит, вполне можно дать волю языкам и рукам. В прошлый раз она встречала Новый год у себя дома вместе с Марией с работы и еще парой девчонок, они приготовили море еды и смотрели музыкальное шоу Джоолса Холланда и очередной фильм из документального цикла «По Африке», который показывали по телику. Как считала Эмили, то был идеальный случай: никаких забот с возвращением домой, никаких хулиганских выходок, никакой пьяной и противной Кэролайн. Она даже не считала себя обязанной приглашать сестричку: Кэролайн даже и не снилось участие в такой скучище — да и, в любом случае, она укатила в Лондон пошастать по клубам.
Эмили с Беном поужинали в гостинице. Еда была (на свой, второразрядный лад) прихотливой: кругом причудливо нарезанные морковки да струйки тонизирующего соуса поперек разваренной баранины, но это не имело значения, очаровывал зал ресторана, отделанный деревянными панелями, и вино оказалось отличным. Они с Беном все говорили и говорили, казалось, им никогда не выговорить всего до конца, обменивались признаниями в детских проделках, смеялись над тем, как познакомились, как будто им ничуть не досаждало вспоминать об этом снова и снова. Эмили млела оттого, что Бен стал первым человеком, кому она смогла довериться, рассказывая о своем семействе, она знала, что он не осудит ни ее, ни ее семью, поймет, что до встречи с ним она всю жизнь чувствовала себя такой одинокой, хотя тогда и не осознавала этого.
— …И вот только я там оказываюсь, — рассказывала Эмили, — как Кэролайн захлопывает стеклянную дверь, и я пролетаю сквозь нее, будто она из бумаги сделана, как в конце фильма «Это — нокаут», или что–то в этом духе. А потом отец гонится за Кэролайн по комнате и никак не может ее поймать, а мама орет как безумная, а я в это время тихо истекаю кровью. — И она начинает хихикать, а потом и Бен смеется, он, правда, уже спрашивал раньше про шрам на коленке, но в тот раз она ему правду не сказала, даже не очень–то понимая почему. Не собиралась же Кэролайн убить ее или еще что.
— Думаю, мне радоваться надо, что я единственный ребенок, — сказал Бен. — Худшее, что со мной случилось в том возрасте, это как у меня носик отвалился, когда я в школьном зале «заварной чайник» изображал. Так и не смог преодолеть унижение.
Эмили глянула на Бена и опять подумала, насколько, должно быть, по–разному они росли, при его–то добрых пожилых родителях, которые купали сына в любви, и при том, что никто его не мучил.
— Не странно ли было не иметь братьев или сестер? — спросила она. — По–моему, я, если бы была единственным ребенком, только бы и делала, что смотрела «Они с Ист — Энда», без Кэролайн жизнь была у меня такой скучной.
— Да нет, если честно. Рядом со мной кузены жили, я с ними проводил кучу времени, и еще у нас была собака. — Бен помолчал. — Если что и странно, так то, что я никогда не ощущал себя таким цельным, как с тех пор, когда тебя встретил. Я не имею в виду, в каком–то причудливом смысле, будто ты моя сестра или еще что. — Тут они оба иронически поморщились, глядя друг на друга. — Но с той минуты, когда мы встретились, я чувствовал, будто знал тебя, пусть поначалу ты была и не особенно дружелюбна…
— Об этом сейчас жалею, — тут же вставила она. — Меня такой ужас брал при мысли, что надо будет с самолета прыгнуть… Не понимаю, о чем я думала, когда согласилась проделать это, я до чертиков боюсь летать и высоты… Дэйв, должно быть, подловил меня на какой–нибудь слабости. Мне совсем не надо было этого делать.
— Нет, надо было, — возразил Бен, и она ему улыбнулась. А он продолжил: — Не знаю почему, только ты, как никто другой, даешь мне почувствовать самого себя. — Бен прищурился. — Особенно почувствовать нарыв у себя на шее.
Эмили рассмеялась:
— Извини, но с того места, где я сидела, не смотреть на него было просто невозможно. Я думала, что его прорвет прямо на меня.
— Жаль, что не прорвало, грубятина ты эдакая, — буркнул он и, подавшись через стол, взял ее за руку.
— Вы закончили, мадам? — спросил официант, который, хоть хорошо смотрелся в своем жилете, все ж был таким хрупким и древним, что, казалось, в чем только душа держится, не говоря уж про то, как ему еще и удается работать. Похоже, там вообще никто из молодых не работал, появлялось ощущение, будто весь этот дом откуда–то из другого времени. Официант собирал тарелки, руки его слегка тряслись, Эмили с Беном переглянулись с легкой улыбкой, и Эмили почувствовала, как у нее почему–то слезы на глаза навернулись.
— Давай прогуляемся попозже, — настойчиво предложил тогда Бен. — Такая прекрасная ночь!
— Темно, мы расшибемся там, — сказала Эмили.
— Нет, ни за что, сегодня громадная полная луна. Давай в полночь сходим на утес. Отлично получится.
Эмили взглянула на своего мальчишку–ухажера в рождественском сиянии и давалась диву, как могла она когда–то счесть его странным, ведь он был великолепен. Ей по душе была его страсть, его восторженное отношение к жизни, глубина его глаз, преданных, как у собаки, и она знала, что никогда не даст ему от ворот поворот — ни за что.
Они оделись потеплее, Эмили натянула на себя под пальто все, что взяла из одежды, до того на улице было холодно. Пришлось выпрашивать у дворецкого ключ (в это время дверь запиралась на ночь), и тот, явно считая их безумцами, ключ все же дал, большой, с одной бородкой, старомодный, похожий на тюремный, и они побежали по дорожке, уже опьяневшие от трех четвертей бутылки красного, которую Бен засунул во внутренний карман пальто, они вели себя как шаловливые дети, убегающие из школы–интерната. Бен оказался прав: сияла несравненная луна, словно ее сам Господь ножницами вырезал идеальным светящимся кругом — только для них. Они дошли до утеса, где ветер стих, а вода там, внизу под ними, была спокойна, и казалось, что земля, а не море движется туда–сюда, будто в дреме.
— Давай поближе подойдем, — сказал Бен.
— Ты уверен, что это неопасно? — Эмили почувствовала волнение, хотя она и боялась высоты, но дело было не только в этом, волновало что–то другое, давно позабытое.
— Ничего опасного, разумеется, пока мы слишком близко не подойдем к краю. Не тревожься, я с тобою.
Эмили держалась на безопасном расстоянии от того места, где кончалась трава и начинался воздух, и, пока она любовалась залитым лунным светом простором посеребренного моря, в голове у нее одна за другой возникали разные картины, путаные, несвязные. Эмили хнычет. Эндрю кричит. Кэролайн скачет вприпрыжку рядом, держа ее за руку. Зубцы крепостной стены замка. Фрэнсис бледная и онемевшая, как камень. Мороженое, там где–то было мороженое. Потасовка: Эмили дерется со своей сестрой–близняшкой так, будто от этого ее жизнь зависит. Горячая ванна.
— Эмили, что с тобой? — спросил тогда Бен, расслышав, как изменилось у нее дыхание, хотя она ничего не сказала и не сделала ни единого движения.
Слова ее отомкнули от прошлого, и она побежала, по крайней мере, шагов тридцать отбежала — подальше от бездны, с маху бросилась на вымерзшую жесткую траву и лежала, тяжело дыша, пока не прекратилось это кружение.
— Чего ж удивляться, что я перепугалась, когда инструктор выпихнул меня из самолета, — выговорила она наконец и попыталась засмеяться, но вместо этого заплакала, а оказавшись в объятиях Бена, рассказала ему, перемежая слова всхлипами, о чем она вспомнила, а Бен думал, смог бы он любить ее больше или, как Кэролайн, меньше, и как при такой злыдне близняшке Эмили сумела остаться такой милой, такой нормальной.
15
Просыпаюсь, плача, похоже, сны не отпустили меня. Остаюсь пока в постели: вставать еще слишком рано. Нахожу под кроватью старую газету, ту самую, из Кру, и с головой ухожу в судоку, трудное на сей раз, и у меня получается решить все до конца: слегка довольна собой, будто достижение какое свершила. Заставляю себя спуститься на кухню позавтракать, потом принимаю душ и одеваюсь в пикантно подправленный наряд, по–прежнему чувствуя стеснение: ну, не выглядит он во всем подходящим, не вполне он под стать Кэт, что бы это ни значило. Когда наконец–то выхожу из дома, настроение гнетущее, но, как всегда, мне лучше, когда я на свежем воздухе. Какая ж это отрада быть никому не известной, не тревожиться, что кто–то на тебя пальцем показывает, что о тебе перешептываются. Ангел посоветовала мне проехать подземкой до Ковент — Гардена, потому как оттуда легко пешком дойти до Шафтсберри–авеню и мне не придется пересадки делать. Она одолжила мне карманный справочник «От А до Я», так что сегодня чувствую себя увереннее, буду знать, куда идти.
Подземка (тут ее зовут «трубой») — это круто. Эта самая «труба» пропитана потом: свеженьким от перегревшихся конторских мальчиков, стоялым от людей, которым, наверное, приходится мириться с ванными вроде моей, а потому они и не мылись давненько, и густым, глубоко въевшимся, который много дней, месяцев и лет стекал на сиденья, а теперь снова воспарял в этой сумасшедшей жарище. Именно этот, последний, вызывает во мне наибольшее отвращение, так что решаю не садиться, хотя свободные места есть, и хватаюсь за желтый вертикальный поручень; моя рука находится рядом с рукой чернокожей обладательницы маникюрных бабочек на ногтях. Обладательница руки, похоже, взволнована (может, на работу опаздывает): постукивает кончиками пальцев, заставляя бабочек порхать, смотрит на часы на другой руке, слегка притоптывает правой ногой в изящной обуви, словно понукая поезд, чтоб еще быстрее мчался сквозь глубокую черную дыру.
Ищу взглядом интернет–кафе, где можно обновить мое резюме. Надо добавить мой новый адрес и новый номер мобильного телефона, сократить мое новое имя. Расстраиваюсь, что у меня нет доступа к Интернету, и жалею, что в магазине настаивала на самом дешевом мобильнике, надо было послушать того симпатичного продавца, а не вести себя как капризный ребенок. Отсутствие доступа к «Гуглу» воспринимается еще одной утратой, еще одной нехваткой, и я решаю: если удастся найти работу быстро, то непременно разорюсь на ноутбук или какой–нибудь навороченный телефон с Интернетом. «Если б только я могла спросить Бена, он бы знал, что подошло бы мне лучше всего». Обрываю себя. Спросить его я не могу.
Никак не найду интернет–кафе (а ято думала, что это будет легко), потому пробую останавливать и расспрашивать людей, но никто не знает, большинству эти кафе до лампочки, у них дома и на работе есть свой проводной Интернет для подключения ко всему белому свету. Перестаю спрашивать и бреду по улицам наудачу, выискивая нескладно, бесцельно, слезы того и гляди опять польют. Вдруг вижу нескольких девиц со спутанными и грязными с виду волосами и кольцами в носу, в коротеньких плиссировках поверх легинсов и в кроссовках, не очень–то хочется, но все же обращаюсь к ним, они по–английски говорят не очень хорошо, зато знают, где такое кафе, и шлют меня обратно к Лестер–сквер.
Сижу за одним из экранов в глубине рабочего зала, полного компьютерных терминалов и роботоподобных людей, и гадаю, что за жизнь ведут они в своем киберпространстве, насколько отличается она от их реальности из крови и плоти. И как это только в последние десятки лет история настолько быстро дошла до создания всего, связанного с человеческим взаимодействием, как это скажется в будущем? Зачем мне даже думать об этом? Мне всегда не нравились интернет–кафе. Начать с того, что само название оманчиво, внутри даже не предпринимаются попытки сделать обстановку приятной, кофе подать некому, а в этом я вообще себя чувствовала как в каком–то научно–фантастическом фильме о светопреставлении. Глухое буханье перекрывает низкое жужжание жестких драйверов и клацанье клавиатур, я вздрагиваю, но, оказывается, бухнула банка «коки», которую кто–то купил в стоящем в углу автомате. Мое резюме содержится в единственном сообщении (помимо всякого спама), которое я получила на свой новый электронный адрес, тот самый, что сама же завела для Кэтрин Браун, еще будучи Эмили. Как–то ночью я не ложилась допоздна, чтобы напечатать резюме, а Бену сказала, что хочу послать несколько писем: одна ложь в ряду многих, сказанных мною ему в последние недели перед побегом. (И подумать только, что до того мы всегда были так открыты, так свободно рассказывали друг другу о чем угодно.) Я отправила резюме прикрепленным файлом от самой себя старой себе самой новой, а потом удалила вордовский файл и отправленное сообщение, очистила корзину и уничтожила все сведения о них. Пара щелчков мышью — как легко избавиться от следов! Я сама себе была ненавистна.
Я поискала какое–нибудь солидное агентство по трудоустройству и нашла одну контору в Холборне, на тот случай, если ничего не выйдет с приятельницей Долорес: эта ниточка не внушала мне доверия, хотя попытаться следовало непременно, Долорес была так настойчива, так старалась помочь мне. Заканчиваю работу над резюме, жму «сохранить», а потом отправляю файл снова себе, чтобы был под рукой. Жму на «печатать» и печатаю десяток копий. Обходится это очень дорого, зато, по крайней мере, какое–то время больше не придется заходить в такое «кафе», а если повезет, то и вообще больше никогда. Слежу за тем, как машина втягивает в себя чистые белые листы бумаги и выдает их заполненными красиво составленной ложью, потом плачу парню на кассе, от которого несет табачищем с травкой и который даже не взглянул на меня, давая сдачу.
Мой «От А до Я» шлет меня по Чаринг — Кросс–роуд, а потом налево в узкую улочку, пропахшую спертым воздухом воздушных кондиционеров и китайской пищей. Уже почти полдень, хочется есть (я теперь, похоже, всегда испытываю голод), но я решаю пойти и покончить с делом, пока я еще не растеряла остатка храбрости. Отыскиваю на улочке нужный мне дом и нужную дверь, солидную, металлическую, с разными звонками с правой стороны. Средняя кнопка гласит: «Мендоса медиа рекрутмент», — должно быть, оно и есть, так что жму ее и жду.
Чувствую, меня пробирает дрожь. Я бросила свою семью. Мое резюме сплошная выдумка. Я переменила имя, профессию, место работы. Представления не имею, как управляться с коммутатором.
— Поднимайтесь, — доносится голос с сильным акцентом, жужжит замок, я толкаю дверь, а она, выясняется, тяжелая. Оказываюсь в обшарпаной прихожей: налево дверь с поблекшей покоробленной вывеской «Смайл телемаркетинг», а прямо передо мной серые крашеные ступени, — по ним и ступаю, поскольку ничего другого не остается. На следующей площадке меня поджидает темноволосая девушка.
— Вы в «ММР»? — спрашивает она, и у меня в голове мелькает мысль: что за странная аббревиатура, которая вызывает легкий укол боли, но я киваю. — Вам назначено?
— Нет… меня приятельница послала, сказала спросить Ракель.
— Лады, как мне вас представить? — спрашивает девушка. Она немного полновата, и юбка с блузкой ей тесны, но мордашка у нее приятная и, по–моему, она моложе, чем кажется.
— Кэт Браун, — произношу уверенно. — Прислала меня Долорес.
— Долорес… какая? — спрашивает она, а я фамилии не знаю, и девушка закатывает глаза, так, слегка, но я замечаю. Она права: я идиотка. Девушка проводит меня в небольшую приемную с некогда бывшим в моде серым диваном и низеньким стеклянным столиком, посредине которого стоит увядающий папоротник. Все это как–то не вяжется у меня со средствами коммуникации, о которых, говоря честно, мне мало что известно. Девушка жестом приглашает садиться, и я послушно сажусь, а она исчезает за дверью позади меня.
Минут через двадцать я готова уйти. Девушка не вернулась, Ракель не появилась, а я сижу тут голодная, взбудораженная, чувствую, что оборачивается это пустой тратой времени. Только я собираюсь встать, как слышу внизу звонок, тяжелый топот по ступенькам и наконец вижу, как на площадку выходит, тяжело дыша, очень крупная женщина. На ней длинное нарядное платье в восточном стиле, кожа отсвечивает апельсином (скорее всего, результат всяческих притираний и солярия), а волосы у нее длинные и белокурые с платиновым отливом — совсем не подходят к раскраске ее лица. Женщина приглашает меня к себе в кабинет, где над столом висит большой обрамленный портрет ее самой, но гораздо более молодой: обычный постановочный снимок, она на нем стройная и красивая, — и я сажусь напротив, скорбя по ее утраченному облику и теряя сочувствие. Изо всех сил гоню из мыслей всякие ассоциации с кукольными зверушками из «Маппет–шоу» и вручаю женщине свое резюме.
— Вы, значит, знаете Долорес, да? — говорит она с едва уловимым акцентом, и я думаю, что она с Ближнего Востока, может, израильтянка.
— Я живу в одном доме с ее приятелем, — призналась я. — Я только что переехала в Лондон, ищу работу референта в приемной.
Женщина спрашивает, что мне больше всего нравится в работе референта, как я справляюсь с трудными посетителями, как поспеваю, когда сразу пять вызовов на связи, и всякое такое. Стараюсь забыть, что лгу, что все это звучит намного труднее корпоративного права, и изо всех сил стараюсь отвечать получше. Женщина листает какие–то бумаги на столе и говорит, что на данный момент у нее ничего нет, но она возьмет меня на учет. Я уже встаю, наполовину огорченная, наполовину успокоенная, когда на столе звонит телефон, женщина, подняв трубку, слушает и хмурится, пальчиком с ярко–розовым ноготочком указывает мне: останьтесь — и говорит в трубку, что перезвонит.
— Вы завтра свободны?
У меня внутри от страха все заходится.
— Да.
— Только что место объявилось, на пару недель, рекламное агентство в Сохо. — Она с сомнением разглядывает меня, останавливая взгляд на шарфике со скелетом. — Полагаю, вы подойдете. У вас есть рекомендации?
У меня готовы две отпечатанные рекомендации, обе от солидных фирм в Манчестере, где я никогда не работала. Исхожу из того, что проверять Ракель не станет, и выдавливаю из себя самую лучезарную улыбку, на какую способна.
Ракель берет трубку:
— Привет, Миранда, да, у меня есть кое–кто на завтра… Да, ее зовут Кэт Браун… Да, верно, Кэт. Восемь сорок пять? Супер… Она придет. Бай–бай, пока.
Ракель сообщает подробности про рекламное агентство «Каррингтон, Свифт, Гордон, Хьюз», входящее в десятку лучших и расположенное на Уордур–стрит в Сохо. Я покидаю ее кабинет, ошарашенная, пораженная тем, до чего ж легко (во всяком случае, с практической точки зрения) это, оказывается, устраивается.
16
У Эмили после того, как они наконец–то сошлись с Беном, на работе все валилось из рук. То он будоражил ей мысли в самое неподходящее время, то она замечала, что улыбается ни с того ни с сего, а то и вовсе в самый разгар важных совещаний, где требовалась сосредоточенность, мысленно уносилась далеко прочь. У нее было такое чувство, будто на нее озарение сошло. Прежде все происходившее в ее жизни виделось словно бы через вуаль, будто немного не в фокусе. Бен сделал жизнь для нее ослепительной и четкой, а от этого повседневные деловые заботы адвоката стали неудобством, помехой. Ей пришлось отговорить его вести переписку в конце рабочего дня, поскольку ее сосредоточенность полностью исчезала, пока она отстукивала остроумнейший ответ, а потом ждала, что он на это скажет, а потом, спустя несколько минут, снова отвечала, после чего минуты три ждала его следующего сообщения, чувствуя, как от возбуждения всем этим у нее в животе желудок делает сальто. Хотя они редко встречались за обедом (Эмили не нравилось выставлять отношения напоказ), она все равно обыкновенно уведомляла его по электронной почте, когда собирается спуститься в столовую, а он, будьте уверены, находил случай пройти мимо, перекинуться парой фраз и улыбнуться своей застенчивой улыбкой — и это придавало ей сил на целый день. В конце концов она, разумеется, успокоилась, вновь обрела способность видеть четко, но уже так и не вернула себе былую страсть к работе, которой отдала когда–то столько сил и трудов.
Несколько месяцев спустя однажды ранним утром в понедельник Бен с Эмили сидели в столовой, пили отвратительный кофе, каким столовая и славилась. Оба чувствовали себя усталыми: в выходные в Пик — Дистрикт[13] они забрались на две самые высокие вершины, а между восхождениями почти не спали, потому как шел дождь, палатка их протекла, а кроме того, восторженность прямо–таки переполняла их. Они удобно устроились за столиком у выхода, у всех на виду: они давно уже перестали притворяться, будто они не парочка, и, по счастью, народ давным–давно перестал подтрунивать над этим, предостерегать их от как бы чего не вышло, ахать по поводу того, как здорово, что они влюбились друг в друга (ха — зевок — ха — зевок — ха). Теперь же их воспринимали как влюбленных, даже звали их Бемили, и они, в общем–то, не возражали: в те дни они были слишком счастливы, чтобы возражать против чего бы то ни было.
Впрочем, сегодня Эмили вновь полнилась смущением, и хотя обычно держала кружку двумя руками, уперев в них подбородок, а локти — в меламиновую поверхность столика, в это утро она упрямо прятала левую руку из виду.
— Ну же, похвастайся, — зашептал Бен. — Давай покончим с этим раз и навсегда.
Она опустила взгляд туда, где колени ей озаряло искристое сияние, и в очередной раз не смогла сдержать пустившееся вскачь сердце. Потом она вспомнила, что не рассказала еще даже своей сестре, может быть, стоит подождать, пока она ей сообщит, а потом уже позволить узнать всем остальным. Она подняла взгляд. Бен все еще смотрел на нее выжидательно, и ей не хотелось, чтобы он подумал, будто она из каприза упирается… в конце концов, Кэролайн можно было позвонить и попозже.
— Почему, скажи, я должна сделать это? — выговорила она наконец. — Это же чертов сексизм какой–то! Я не твоя собственность или еще что. Ты меня не в лотерею выиграл.
— У–ху–ху, маленькая мисс Недотрога, — покачал головой Бен. — Что ж, тогда давай его мне.
И она сняла кольцо, сделала вид, будто швыряется им в него, но он ловко, прямо над чашкой с кофе, поймал, потом насадил себе на мизинец левой руки так туго, что могло и застрять, а Бен вскочил, вприпрыжку пронесся вдоль стойки с завтраками, по–киношному потряхивая широко разведенными руками. Он тогда стал куда менее сдержанным.
— Сядь же ты, идиот несчастный, — зашипела Эмили, лишь наполовину в шутку, но было уже поздно: пара их коллег как раз завтракали и одна из них закричала:
— Это именно то, о чем я думаю?
А потом босс Эмили тоже услышал, он стоял у автомата с тостами… Не успела она опомниться, как вокруг нее с Беном собралась целая толпа из ахавших и охавших по поводу кольца, поздравлявших и обнимавших их, и, хотя Эмили не хотела оказаться в центре внимания, в тот раз она, честно признаться, нисколько не возражала.
17
В первый день на своей новой работе я опять в черном платье: больше ничего подходящего для рекламного агентства у меня нет, и Ангел вновь предлагает мне воспользоваться ее аксессуарами, больше того, говорит, что могу оставить их себе, но я прошу ее не быть такой безрассудной. Встала я рано, но все равно пришлось дожидаться очереди в ванную: Эрика меня опередила. Когда она наконец–то выходит, в ванной стоит пар и из нее несет серой и зубным эликсиром, а я гадаю, такая ли Эрика ядовитая изнутри, какой кажется снаружи. Хотя я стараюсь улыбаться, она все равно бычится на меня, быстро проходит мимо и кутается в коротенькое линялое полотенце, из–под которого видны ее стройные ножки.
Я никак не удосужусь купить шлепанцы, зато начинаю привыкать к тому, как надо вести себя в ванной: стараюсь ни до чего не дотрагиваться, уворачиваться от плесневелой, липнущей к телу занавески в душе, а потом, уже вымытая, стоять на одной ноге, держа ручку душа, чтобы сполоснуть подошву другой ноги, вытираю ее полотенцем, которое заранее вешаю на перекладину душа, так чтобы оно не касалось никаких поверхностей, вдеваю вытертую ногу в поджидающую меня тапочку, потом вторую ногу, стоя наполовину в ванне, наполовину рядом с нею, вытираю и скольжу ею во вторую тапочку. Уверена, в конце концов привыкну ко всему, умерю свои претензии, но пока обхожусь таким способом.
Брэд и Эрика на кухне, он вполне дружелюбен, она — нет. Отчего такой приятный парень связался с такой, как она? Стараюсь не давать ей повода беспокоить меня, я должна бы привыкнуть к такому, вырастая рядом с Кэролайн, сижу себе тихо за столом с мисочкой мюсли и кружкой крепкого сладкого чая, каким когда–то поила меня мама.
Ухожу раньше, чем нужно: опоздать я права не имею, — ехать мне лишь по одной линии до Оксфорд — Серкус, что занимает всего полчаса. Шагаю по Оксфорд–стрит, потом поворачиваю направо на Уордур–стрит и выясняю, что контора находится в сотне метров справа. Время 8.25: я пришла слишком рано. Разглядываю блестящие оконные стекла, за которыми видна мебель в форме внутренних органов, на изысканную вывеску над двойными дверями и осматриваю свое убогое платье, наводящие тоску балетки на ногах и понимаю: вид у меня неважнецкий. Сегодня пятый день, пятница, моей первой недели в Лондоне, а я стою рядом с сияющей данью самолюбию четырех людей и чувствую, что хочу повернуться и бежать… вот только куда? Может, мне следовало бы отправиться к морю, где мне когда–то сильно понравилось. «Возьми себя в руки. Ты уже убежала, это нельзя повторить. Хватит уже». Отгоняю свои воспоминания о более счастливых временах, оглаживаю платье, поправляю шарфик и жду снаружи еще несколько минут, пока не настает пора войти внутрь.
18
Кэролайн в последний раз поправила на Эмили фату, и обе они глянули в зеркало, откуда на них смотрели две очень разные девушки. У невесты было открытое лицо, держалась она естественно, насколько позволяла высокая прическа из темно–русых волос, поднятых над стройной шеей. На ней был белый атласный жакет с вшивными рукавами и крошечными пуговичками впереди. Юбка особого кроя из той же ткани заканчивалась прямо у колен, туфли на высоком каблуке по моде сороковых годов. Короткая фата завершала наряд, и Кэролайн подумала, что никогда не видела свою сестру–близняшку такой чарующей. Эмили волновалась из–за того, что платье ей шьет сестра, честно говоря, она не была уверена, можно ли той доверять, однако Кэролайн, похоже, была охвачена таким рвением, что сказать «нет» было бы грубостью, в конце концов она — дизайнер, а кроме того, могла бы плохо воспринять отказ и всерьез огорчиться. Но волноваться Эмили было незачем: она осталась в восторге от того, что получилось. На Кэролайн был ярко–розовый наряд, дерзко укороченный, к которому не очень подходили яркие темно–рыжие волосы, подстриженные в геометрический пучок с густой бахромой, такой она ходила, когда ей было три годика. Макияж она навела ослепительный. Трудно было сказать, что девушки были сестрами.
В комнату вошла Фрэнсис и увидела обеих своих девочек, стоявших рядом, заметила, какой у обеих счастливый вид, и, да, обе даже похожи, как близняшкам полагается, и у матери появилась надежда, что, может, и станут они наконец–то более пристойной семьей. Даже Эндрю, кажется, в те дни уделял им чуть больше времени, был чуть–чуть менее отрешен. Грех так думать, но, наверное, пребывание Кэролайн в больнице для всех так или иначе обернулось благом. Персонал сотворил чудо, вновь наставив Кэролайн на путь здравомыслия, ну и настойчивость Фрэнсис в том, чтобы дочь переехала на время домой, дала поразительный результат. После изначального шока от громко орущей музыки, свинства в ванной и природной несносности Кэролайн всем как–то полегчало. Впервые за все время вместе оказались только Фрэнсис, Эндрю и Кэролайн. Эмили уже переехала жить в свою крохотную квартирку на другом конце Честера, и Кэролайн больше незачем было чувствовать себя соперницей сестры–близняшки, во всяком случае повседневно, и это стало для нее благом. Она жила у родителей уже больше года: никто и подумать не мог, что это протянется хотя бы близко к этому, — и, по видимости, сделалась мягче, считала Фрэнсис, наконец–то выучилась, как быть полюбезней к людям. Она заняла руководящий пост в доме моды в Манчестере, и, похоже, дела у нее шли хорошо, — Фрэнсис от нее была в восторге. В то время Кэролайн, похоже, даже Эмили ненавидела чуточку меньше, а нынче, вон, какую красавицу из нее сделала. Фрэнсис неожиданно почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза, и взяла себя в руки: как бы ненароком макияж не испортить.
За час до церемонии Бен наряжался в предназначенном для шафера номере, который располагался в глубине гостиницы и был одним из немногих, откуда не открывался вид на морской простор. Его приятно удивляло, что все шло так гладко: ужин вчера вечером прошел без сучка без задоринки, не произошло совершенно ничего предосудительного, — и все же волнение не оставляло, он хорошо понимал, что надеяться на то, что торжественные события в семействе Браунов обойдутся без скандала, не стоило. Он все еще считал Кэролайн колкой, у нее прямо–таки способность была ввергать людей в такое нервное состояние из–за сказанного ими, что они говорили глупости, которые она затем с удовольствием высмеивала. Впрочем, она определенно стала лучше, в частности, ничего из сказанного или сделанного ею в связи со свадьбой никому не доставило огорчений. Она даже пошила свадебное платье Эмили, и это в глубине души вызывало у него тревогу, но Эмили, кажется, оно понравилось, так что нечего было волноваться. Бен не понимал, откуда берется такое волнение. Ведь этот день должен быть счастливейшим в его жизни, они сочетаются браком в самой романтической гостинице на свете, с ее пьянящим расположением и невероятной историей, он знал, что Эмили для него самая невероятно идеальная девушка. В дверь постучали. Отлично, должно быть, это Джек с жилетом, подумал Бен. Открывая дверь, он заканчивал завязывать галстук и заправлять сорочку в брюки.
— Оп. Приветствую, — сказал Бен. Было в Кэролайн что–то такое, что всякий раз вызывало в нем ощущение неловкости, а сейчас, увидев, как вызывающе оперлась она о дверной косяк, он невольно заметался взглядом: от ее поразительно голубых глаз к ярко–розовым губам, вниз по всей длине шелкового платья и гладких обнаженных ног — прямо в пол.
— Прошу, малыш Бенни, — произнесла Кэролайн, протягивая скроенный ею для него пурпурный жилет. — Извини, что припоздала, просто под конец надо было кое–что подправить.
Бену жилет не очень понравился, но он рад был надеть его ради Эмили, коль скоро, по ее мнению, тот отлично смотрится. С неохотой позволил он Кэролайн помочь ему надеть жилет, а потом она настоятельно принялась застегивать на нем все крошечные пуговички, утверждая, что он своими чересчур неуклюжими пальцами пятна на шелке оставит. Казалось, это заняло целую вечность, а когда она все застегнула, то неспешно оглядела его сверху донизу, будто он голый был.
— Ого, а выглядишь ты что надо, — сказала она. — Моя дорогая сестричка точно джекпот сорвала. — Он, смущенный, двинулся было в сторону, но тут она к нему прильнула и прошептала: — Удачи, Бен, надеюсь, вы с Эмили будете счастливы вместе, — и, не успел он ее остановить, поцеловала его — прямо в губы, очень нежно, и на какую–то наносекунду Бен ощутил, как его тело ответило, и тут же отстранился, пробормотал «спасибо», и закрыл за нею дверь. Бен надел новые туфли, те жали немножко, щеки у него пылали, но он был готов. Его шафер, Джек, просунул в дверь голову:
— Почти готов, дружище? Слушай, вид у тебя ужасный, ты в порядке?
— Да, хотя нервничаю напоследок.
— Ну, тогда все классно, регистратор уже тут, я только что видел Фрэнсис с Эндрю, оба нарядные, народ начинает подъезжать. Музыку я гостиничным отдал, все работает. Все пройдет отлично.
— Надеюсь, — проронил Бен.
— О боже! Уж не на попятный ли ты надумал? Надо дать тебе выпить.
— Нет–нет, не в том дело. Что до Эмили, то я убежден, просто в семейке ее не уверен.
— Так радуйся, что так, а не наоборот, — со смехом сказал Джек. — Давай. Нет ничего, что не утряслось бы с пивом. — Он взял Бена за руку, и они вдвоем пошагали к бару.
Эндрю заметил Даниель еще вчера вечером, едва они прибыли. Кэролайн все ныла и ныла, что у нее нет приятеля, кого она могла бы пригласить, как ненавистно ей являться на такие торжества в одиночестве, и всякое такое, так что в конце концов Эмили с Беном попросили ее, если хочет, пригласить кого–либо из подруг. С Даниель она сошлась в Лондоне: как раз Даниель и звонила Фрэнсис в тот вечер, когда у Кэролайн случился «эпизод», как теперь это называлось, если вообще возникала необходимость это поминать.
Даниель по–прежнему жила в Лондоне, но проделала весь путь до Девона и теперь, попав сюда, была рада, что не пожалела сил и времени. Гостиницу она нашла великолепной, эдакая готическая феерия с громадной наполненной цветами террасой, откуда открывался вид, ради которого умереть не жалко. В громадном зале гостиницы даже в летний день было так прохладно, что по обеим его сторонам в чудовищных каминах горел настоящий огонь. Скрипящие кожей кресла «честерфильд» с трех сторон отгораживали место у каждого камелька, тяжелые шторы цвета тины обрамляли окна, сохраняя в помещении уютный полумрак. Широкая лестница вела на хоры, окружавшие поверху весь зал, как раз на них и выходили все 12 гостиничных номеров. Сами опочивальни ни в чем не походили на громадный зал: яркие, солнечные, насыщенные морем, с голубино–серыми стенами и белыми египетского хлопка простынями и наволочками на подушках–валиках, с туалетными комнатами, где чудно пахло какое–то необыкновенное мыло, а тяжелые ванны впивались в пол когтями серебряных ножек–лап. Даниель пребывала в совершенном восторге, тут все были к ней так внимательны, а в случае с Эндрю — малость излишне внимательны, но Даниель привыкла обходиться с такого рода вещами, а потом мужчина он был вполне вкусненький для своего возраста. Она была из тех девушек, кого мужчины находят привлекательными, хотя женщины зачастую этого не находят, была весела и открыта, что, как ей было известно, порой производило неверное впечатление, но такая уж она была — и не видела причин меняться.
Раздались заупокойные звуки «Есть огонь, во веки не гаснущий» в исполнении «Смитов», когда Эмили появилась на дорожке выходящего к морю сада и пошла по проходу, сооруженному между рядами обтянутых кремовой тканью стульев. Фрэнсис сочла выбор музыки странным, но только Эмили с Беном была понятна ее значимость: именно она звучала, когда соединились они в первом робком объятии и испытали счастье. Они решили, что свадьба будет небольшой, всего человек сорок, где все, кого они пригласят, будут рады за них, где не будет досужих пересудов по поводу невестиного платья или о том, что долго этот брак ни за что не протянет. Поначалу Эмили даже подумывала, а стоит ли куда–то убегать и устраивать свадьбу где–то на берегу моря, как она говорила, ей не хотелось расстраивать Кэролайн, но Бен в тот раз все ж проявил твердость. Он напомнил ей о поразительной гостинице на утесе в Девоне, о том, как они говорили, какое это чудесное место для свадьбы, как оба понимали, но еще не смели себе признаться, что говорят о собственной свадьбе. Кэролайн прекрасно к этому отнесется, уверял он, не их вина в том, что до сих пор она никого не встретила, и в любом случае в последнее время она гораздо лучше воспринимает подобные вещи. И ведь пока что Кэролайн вела себя более чем прекрасно: она, похоже, и в самом деле радуется за них, и это прелестно.
Эндрю с Фрэнсис стояли рядом, наблюдая за тем, как их старшая дочь давала брачные клятвы, и это наводило на воспоминания о дне их собственной свадьбы, о том, как давно это было. Искренен ли был Эндрю в своих клятвах тогда, думали они оба, и ни он, ни она не знали ответа, и каждый из них полагал, что теперь это несущественно. Обратившись лицом к морю, нынче неподвижному, как озеро, Фрэнсис позволила своим мыслям унестись к давним временам, к их медовому месяцу, к трудным родам, к изматывающим первым годам жизни их дочерей… к тому, как удивилась она, когда Эндрю не бросил ее, как только близняшки подросли, ведь она все это время знала, что у него была другая. Эндрю думал о том, какой иной могла бы быть его жизнь, женись он на Виктории, если бы он раньше ее встретил, и в тысячный раз ломал голову над тем, почему же он не решился оставить семью — ведь любовь важнее? Теперь уже поздно. Он думал о том, как пытался усидеть на двух стульях — и Викторию удержать, и сохранить семью, Сейчас он понимал, что это делало их всех скорее ущербными, чем счастливыми. Виктория, должно быть, считала, что ею только пользуются, под конец этой истории нервы у нее были на пределе, и он это знал. Когда она наконец совсем порвала с ним, он сделался до того одинок, что ничего другого не оставалось, как завести лишенные души отношения и побираться разовыми ночевками. Тогда он и понял, что Фрэнсис все ж ему нужна, он нуждается в ее постоянстве и покое, нуждается в ней как в той, к кому, несмотря ни на что, возвращаются домой.
А чем Фрэнсис могла оправдаться, что не ушла? Сейчас, находясь рядом с Эндрю, она желала, чтобы он взял ее за руку, зная: невзирая на всю ложь и извороты своего мужа, она все еще любит его. Он во многом человек достойный и до сих пор так хорош собой… а потом, как бы она одна со всем справлялась?
— Итак, объявляю вас мужем и женой, — возгласил регистратор, мягкоголосый валлиец, сумевший придать краткой свадебной службе высокий смысл. Легкий бриз, казалось, подхватывал сказанное им и не спешил уносить прочь. — Можете поцеловать невесту.
Когда Бен склонился и коснулся губ Эмили нежнейшим из поцелуев, Кэролайн заерзала на стуле и зевнула.
Свадебный завтрак подавался на свежем воздухе на разномастных фарфоровых тарелках и состоял из простого обжаренного мяса с кровью и огромного целого лосося с восемью различными салатами и молодой картошкой. Сдвоенный пудинг послужил свадебным тортом, на нем расположено было такое количество пирожных, какого Эмили не видывала; получилось даже лучше, чем она себе представляла. Погода была безупречная, а поскольку стоял июль, она даже не предприняла никаких мер на случай непогоды — настолько была уверена, что солнце будет сиять над нею и Беном, над их счастьем. Эмили только того и хотелось, чтобы все ели прекрасно приготовленную еду, пили шампанское и наслаждались видом на море, а обо всем прочем она не слишком–то и хлопотала. «Люди какие надо, место что надо… как у нас может что–то пойти не так?» — говорила она, и Бен еще больше любил ее за то, что она не была из тех женщин, кто надоедают своими свадебными планами, бьются в истерике из–за цвета ленточек на отпечатанных меню или цветов в букетах для украшения стола.
Кэролайн бродила повсюду со стаканом в руке, виляя бедрами, всем и каждому надоедала разговорами о том, что это она все наряды пошила, раздражала жену Джека непрестанными заигрываниями с ним, отпускала гостям комплименты, звучавшие как оскорбления. Чем ближе день склонялся к вечеру, тем громче звучал ее голос, тем несдержаннее она становилась. А уж когда она вслух объявила, что тоже не прочь подыскать себе красавца–мужа, только не такого тряпку, как Бен, Фрэнсис отвела ее в сторонку и негромко отчитала дочь, сказав, что хватит ей болтать.
— Хватит болтать о чем? — недобро усмехнулась Кэролайн. — О моей сестричке–паиньке или ее тошнотворном муженьке?
— Кэролайн! — прикрикнула на нее мать. — Мы у Эмили на свадьбе. Мне казалось, что ты рада за нее.
— Мам, — лениво протянула Кэролайн, не отрываясь от шампанского, — да рада я за нее, а как же, она ж моя сестра–близняшка, у ней любовь… Только лучше бы она не приставала ко мне с этим, как с ножом к горлу. — Слова Кэролайн теряли связанность, и Фрэнсис поняла, что дочь надо уводить с праздника: гости уже прислушивались, а скандала совсем не хотелось.
Фрэнсис взволнованно оглядывала собравшихся, разыскивая Эндрю… вон он, опять болтает с этой грудастой подружкой Кэролайн, грудь такого размера наверняка не природой дана? Фрэнсис была признательна Даниель за то, что та присмотрела за Кэролайн в ночь, когда ее упекли в психушку, за то, что и потом не теряла с ними связи, когда остальные так называемые друзья–подруги разбежались кто куда, но ей не нравилось смотреть, как эта Даниель хихикает от шуточек Эндрю, они слишком увлеклись разговорами, люди, глядишь, и говорить начнут.
— Эндрю, — позвала она. — Эндрю! — Первую пару раз он ее зов мимо ушей пропускал, пока уже больше не мог притворяться, будто не слышит, а когда наконец оглянулся, то увидел жену с их розово–оранжевой раскрасавицей доченькой, которая, по всему судя, просто повисла на матери: ноги длинные скрючены, глаза остекленевшие, невидящие. Вздохнув, он подумал: что еще на этот раз? Что мешает им всем вместо этого просто хорошо проводить время? А потом, подойдя поближе, уяснил: Кэролайн была ужасающе пьяна. Все так быстро случилось, может, солнце подействовало, только нужно ее увести поскорее, пока она сцену не устроила. Эндрю взял Кэролайн за плечо и с помощью жены попытался ее потверже на ноги поставить, помочь до номера добраться.
— Да не хочу я к себе в номер, мам, мне так здорово, это свадьба моей сестренки–близняшки, я хочу букет поймать, — несвязно бормотала та.
— Пойдем, дорогая, — убеждала Фрэнсис. — Давай уйдем с солнцепека, водички попьем, и все будет с тобой прекрасно.
Ноги Кэролайн заплелись: ее новые высокие каблуки ушли глубоко в газон. Она рванула левый вверх, но он так и остался торчать в земле, зато нога ее выскочила из туфли, и девушка едва не упала. Эндрю вытащил упрямую туфлю из почвы и подхватил ее, потом вновь обхватил Кэролайн за плечи, уже покрепче, а когда прижал дочь покрепче, кинжальный каблук впился той в торчавшие наружу ребра.
— У–у–у-у–у–у. Катись от меня, мудак долбаный, — завопила Кэролайн. — Да оставь ты меня в покое, недотепа, шел бы лучше подружку мою лапать до конца.
На холме стало тихо, едва ли не слышно стало, как плещется море, хотя оно было далеко внизу, волны бесконечно наплывали и откатывались в такт зловещему дыханию земли.
По–разному, но все почувствовали себя униженными. Никто не проронил ни слова.
Молчание в конце концов прервал Бен.
— Поздно становится, — проговорил он как можно спокойнее. — Не перейти ли нам всем в дом? Скоро оркестр заиграет, и там полно шампанского. — Все последовали указанию Бена, с облегчением уходя туда, где можно было не видеть страдальческого выражения на лице новобрачной.
Позже, намного позже, Кэролайн, все еще в своем розовом наряде, угомонилась на односпальной кровати у себя в номере, где стояла кромешная тьма. Другая кровать в номере жалобно скрипела: на ней на спине лежал Эндрю, едва не уткнувшись лицом в груди Даниель, а она ритмично наваливалась на него, пока оба они не кончили, после чего омерзение Эндрю к самому себе просочилось и заколыхалось в нем — тихонько, словно море внизу при смене отлива приливом.
19
Пока я ожидаю возле агентства, по улице танцующей походкой проходит безупречно одетая девушка и впархивает в здание. У нее длинные темные волосы, как на рекламе шампуня, одежда на ней явно на нее пошита: красное мини–платье с золотистыми гладиаторскими сандалиями. Рядом с ней я еще больше чувствую себя старомодной и понимаю, что это, должно быть, Полли, та самая девушка, которую мне предстоит разыскать. Не знаю, отчего я не в своей тарелке, ведь когда–то моя внешность меня весьма радовала, а сегодня же такое чувство, что меня пробуют на роль, а я в нее не вписываюсь. Когда наконец захожу вовнутрь, то спорить готова, что девушка та меня засекла еще там, на улице, и она считает к тому же, что я не тяну на гламур, но — улыбается, предлагает кофе и ведет меня за стойку приемной, чтобы показать, что надо делать. Полли классная, красивая, она из тех девушек, от которых страх берет, я вот с трудом соображаю, о чем с ней говорить, похоже, уже успела забыть, как вести непринужденную беседу. Пока она разъясняет, кто такие партнеры, кому из них что нравится, о том, как с ними связываются, кто с радостью делится номером своего мобильного телефона, из–за чего самые крупные клиенты особенно нервничают, я вглядываюсь в себя и ощущаю, что здесь я еще больше не у места, чем в задрипанном доме северного Лондона. Осознаю, что прежде принимала все это за само собой разумеющееся: кто–то принимает телефонные вызовы, кто–то сообщает, что клиенты в приемной, кто–то заказывает для меня переговорные комнаты, — я понятия не имела, что за этим столь многое кроется. Секретари и референты в моей компании в Манчестере были обычными, похожими на меня, а не выставленными напоказ обретениями, вроде экзотических цветов. Пока Полли просвещает меня, сотрудники потихоньку прибывают на работу, и все они моднючие: тут есть ребята в джинсах самых последних фасонов, смелых футболках и с сумбурными прическами (эти, должно быть, относятся к творческому типу), другие носят очки в массивной оправе, льнущие к ногам брюки и начищенные штиблеты с квадратными мысами, грудь у каждого перехвачена ремнем лоснящегося кожаного портфеля. Девушки ходят на высоких каблуках, одеваются в платья, которые меня и на выход в гости надеть заставлять надо, и все носят огромные сделанные на заказ сумки. Все они выглядят по–разному, но все равно впечатление такое, будто на них униформа. Прибывают они в час по чайной ложке (все с кофе в руках), и ни одна, похоже, не очень–то торопится: сегодня ж пятница в конце концов. В 9.25 мужчина постарше в отлично пошитом костюме и белых парусиновых штиблетах бросает: «Доброе утро, Полли, дорогая», — потом безо всякого интереса смотрит на меня и едва заметно кивает.
Я улыбаюсь в ответ, он садится в лифт, а Полли говорит:
— Это Саймон Гордон, он — БОГ. — Звонит телефон, Полли снимает трубку, слушает и произносит: — Хорошо, дайте мне пару секунд. — Потом куда–то исчезает и оставляет меня за пультом. Коммутатор начинает мигать, а я забываю, что надо делать. Нажимаю мигающую кнопку и говорю:
— Доброе утро. «Каррингтон, Свифт, Гордон, Хьюз», чем могу помочь? — И к тому времени, когда освобождаю рот от забившей его фразы, позвонившая на другом конце телефона теряет терпение.
— Саймон на месте? — произносит исключительно учтивый голос.
— Саймон — кто? — говорю, краем глаза замечая двух Саймонов на ламинированном списке, оставленном мне Полли.
— Саймон Гордон, — говорит она, и в тоне ее так и слышится «дубина ты тупоумная».
— Как вас представить? — спрашиваю я в ответ, и она резко бросает:
— Его жена.
Нахожу добавочный Саймона, 224, набираю, соединение есть, и после пары гудков он снимает трубку, а я говорю:
— Ваша жена на линии, Саймон.
— Ох, — восклицает он и, немного помолчав, говорит: — Благодарю. — Я нажимаю клавишу переключения вызова… у меня в наушниках звучит громкий непрерывный гудок.
Твою мать! У меня под мышками припекать начинает.
Коммутатор снова мигает, и я знаю, кто вызывает, но не знаю, что я не так сделала, а потому слишком перепугана, чтобы снять трубку: а вдруг опять не то сделаю, — и тут уж начинаю паниковать по–настоящему, может, лучше вообще не отвечать, чем еще раз ее прервать. Отчаянно жду, когда перестанет мигать, это кажется зловещим, как сигнал тревоги, и я понимаю: если и на этот раз напортачу, меня, наверное, уволят… тогда–то наконец из–за угла показывается грациозная Полли, я неистово машу ей, она подходит к стойке как раз тогда, когда я отвечаю на вызов:
— Алло, вы жена Саймона? Простите, мне ужасно жаль, — выговариваю самым старательным образом, пытаясь смягчить резкий северный выговор. Снова нажимаю 224 и бросаю беспомощный взгляд на Полли, и как раз когда доносится голос Саймона: «Куда подевалась моя жена?» — Полли словно пантера замирает в прыжке над широкой стеклянной столешницей и кончиком длинного наманикюренного ногтя подключает вызов.
Удивительно, но Полли по–настоящему прелестная девушка. У нас с ней мало общего, и она для меня слишком продвинута в моде, но у нее доброе сердце, и она терпеливо показывает мне, как работает коммутатор, трудного ничего нет, но это труднопостижимо, если тебе никогда о том не рассказывали. Саймон сегодня забыл свой мобильник, так что все его звонки, которые обычно делались напрямую, идут через меня, жене Саймона как–то удается перенаправить его вызовы. У меня пол–утра ушло на то, чтобы сосредоточиться и не отключать звонивших, а также избавлять их от путаницы, сообщая при ответе, что я не Саймон, но через пару часов я уже уловила, что к чему, а Полли дала совет: вовсе не обязательно каждый раз произносить «Каррингтон, Свифт, Гордон, Хьюз», прекрасно можно обойтись КСГХ. По счастью, Саймону происшествие с его женой показалось забавным («Зависит от того, в каком он настрое, Кэт», — пояснила Полли), и это протянуло между нами тонкую ниточку («Ха–ха, рад, что я не единственный, кто сегодня утром разозлил мою жену»), а Полли поясняет: это потому, что впереди у него долгий обед в «Плюще» — и не с клиентами или еще что–то такое же скучное, а наслаждение от долгожданной встречи со своим лучшим другом, который руководит одним из спутниковых телеканалов.
Пятница определенно самый лучший день для того, чтобы приступить к этой работе: всего один день надо перетерпеть перед выходными, к тому же все либо в хорошем настроении, либо у них голова трещит, а потому сегодня они (не считая жены Саймона, само собой) чуть больше склонны прощать, нежели в самом начале рабочей недели. Отличное было решение с точки зрения выбора времени, по крайней мере, пуститься в бега в понедельник, хотя я, разумеется, об этом не раздумывала.
Начать с того, что благодаря этому я встретила Ангел и это дало мне целую неделю, чтобы обустроиться, и пусть я вою, как волчица во тьме, по моему мальчику, по тому, как я его подвела, потеряла его, во всем остальном до странности горжусь своими подвигами. Я сделала это, я устроилась тут, у меня уже есть дом, работа — положено начало тому, чтобы забыть.
20
Дядя Макс взял Ангелу за руку и повел ее через дорогу с оживленным движением. Ангеле он нравился больше, чем любой другой из ее дядей, даже больше, чем ее дядя Тед, только она все равно хотела домой. Если по–честному, то ей такие прогулки не нравились, к тому же она люто ненавидела, когда ее заставляли красиво наряжаться. Они шагают дальше по Нью — Брук–стрит и, потоптавшись немного возле входа, заходят в еще один ювелирный магазин. Дядя Макс просит показать ему кольца, одно с огромным сапфиром, а другое с рубином (размером сапфиру под стать) в окружении миниатюрных бриллиантов, а заодно и всякие более традиционные обручальные кольца. Если Ангеле встать на цыпочки, то она только–только разглядела бы их, сверкающие на стеклянном прилавке, но ей тянуться ни к чему, ей скучно, и она не понимает, зачем ее опять таскают по тому же кругу. Дядя Макс обещал ей купить потом молочный коктейль, если она будет хорошо вести себя, вот она и делает, как ее просили, стоит тихонько и ждет.
Дверь магазина открывается, и входит женщина. Одета она в черные брюки–капри и большую шубу, у нее темные пушистые волосы, черные–черные брови вразлет, она сильно накрашена. Всем своим видом она привлекает к себе внимание, как какая–нибудь кинозвезда. Продавец, занятый с дядей Максом, быстро поднял глаза и коротко кивнул женщине. Другой продавец был уже занят с другим покупателем, так что вошедшая нетерпеливо ждала, распространяя удушливые волны духов, постукивая блестящей туфелькой на высоком каблуке. Ангела отвернулась от нее и стала проявлять больший интерес к кольцам, разложенным перед дядей Максом. Женщина раздражалась все больше, по–видимому, оттого, что заставляли ждать, она принялась фыркать и ходить взад–вперед, меряя магазинчик топающими полушажками. Когда она в третий раз повернулась лицом к основному прилавку, то, казалось, споткнулась. Издала легкий вздох и осела — элегантно — на коленки, голова ее, словно в молитве, ткнулась об пол, шуба распахнулась, словно шкура животного. Служащие магазина взирали на падение с ужасом, но они стояли по ту сторону стеклянных прилавков и не могли сразу же броситься на помощь. Быстрее всех действовал дядя Макс, поспешивший к женщине. Работники магазина завороженно застыли: ничего более волнующего они уже давным–давно не видывали.
Макс сзади склонился над женщиной, подхватил ее руками под мышки. Поднял с пола и помог сесть на стул, наклонил ее голову, чтоб кровь побыстрее прилила обратно, он был уверен, что у женщины простой обморок. К тому времени из недр магазина появилась еще одна продавщица, протянула стакан воды и принялась обмахивать женщину магазинной рекламкой, пока ей не стало лучше. Ангела оставалась стоять там, где ее поставили, у прилавка, и делать то, что ей было велено. Вся сцена длилась несколько секунд, а потом дядя Макс вернулся рассматривать кольца, хотя так ничего и не купил. После магазина он пришел в такое отличное настроение, что повел Ангелу в кино на «Один дома» и даже купил ей попкорн.
21
Ангел предлагает мне пройтись с ней по магазинам за одеждой, но я отказываюсь: невзирая на прорехи своего гардероба, я, правду говоря, не могу себе позволить особых покупок, работаю я всего лишь две недели и не знаю, будет ли другая. Ангел смеется и уверяет, что умеет здорово торговаться, а кроме того, субботняя ночь у нее свободна, а потому она предлагает отправиться попозже днем, а потом зайти куда–нибудь и выпить по рюмочке–другой. Неожиданно для себя говорю «да», в конце концов впереди целых два дня, которые чем–то надо заполнить и на протяжении которых отвлекать себя от раздумий о прошлом. На работу мне только в понедельник, а никаких иных планов у меня нет… только мне претит мысль куда–то пойти, развлекаться, особенно когда подумаю обо всем случившемся. Интересно, думаю, уйдет ли когда–нибудь это чувство вины, настанет ли такой день?
Ангел говорит, что поспит часов до двух, потому как всю ночь работала, а поскольку утро великолепное, то мне, наверное, нелишне будет прогуляться: прогулка поможет убить время, а может, свежий воздух и прочистит мне голову. Я уже скучаю по нашему садику в Чорлтоне, скучаю по возможности покопаться в земле, повозиться с цветами, когда стоит великолепная погода, пропалывать сорняки в цветочных горшках, прищипывать розы, а лучше всего — расстелить одеяло на траве и играть в паровозики с моим малышом.
Прекрати
Брэд рассказывает мне про заброшенную железнодорожную ветку, которую превратили в проселок, что тянется через город, начиная от самого Финсбери — Парк до какого–то миленького местечка, название которого я забыла. Там чудно, уверяет меня Брэд, и оттуда можно попасть в Хэмпстед — Хит[14], о которой я слышала. У Эрики раздраженный вид, будто ее возмущает, что я знаю и что Брэд рассказывает; по–моему, она ничем не любит делиться, даже тем, что ничего не стоит, чем опять напоминает мне мою сестру.
Мне определенно надо поразмяться после вчерашних переживаний: то кого–то отключала, то чьи–то имена путала, тысячу раз КСГХ талдычила, с часов глаз не спускала, пока рабочая неделя к концу не подошла и число вызовов не сократилось. Еще и улыбаться надо! Это воспринималось как особенно тяжкая работа. Впрочем, Саймон, похоже, отнесся ко мне благожелательно, несмотря на мое шаткое положение, и он мне нравится, в нем под той маской, какую он носит, есть что–то славное. Мы с ним только–только познакомились, но есть в нем что–то, от чего создается впечатление, будто он увидел меня насквозь, будто почти прознал, что я наделала, и жалеет, что у него не хватает духу (или трусости, все зависит, с какой стороны на это посмотреть) и свою жизнь тоже послать ко всем чертям. Два других партнера (с Каррингтон я еще не встречалась: имечко у нее — Тигра!) не так харизматичны, Саймон, видимо, — движущая сила агентства, но, мне кажется, устал ото всего этого. Вчера, уходя на свой вожделенный обед, он попросил меня заказать ему попозже машину, чтобы отвезла его куда–то там в Глостершир.
— Едете за город на выходные, Саймон? — спросила я.
— Нет, — ответил он, — я живу там, просто в течение недели остаюсь в городе. — Похоже, сказано это было с такой грустью и настолько без воодушевления, что я подумала, уж не считает ли и он свою жену стервой.
— О, — произнесла я, стараясь быть вежливой. — Прелестно, должно быть, иметь местечко для ночлега в Лондоне и настоящий дом за городом. — И Саймон как–то странно, будто забавляясь, взглянул на меня, а Полли рассказала позже, что он владеет целым домом в Прироуз — Хилл и вообще — упакован. Не могу в толк взять, как он заработал такую кучу денег на идиотских рекламках средств после бритья и чипсов и как такое способно сделать человека таким безрадостным. Даже как–то грустно за него стало.
Парклендский Проселок меня поражает. Хоть я и старалась отыскать его начало, но стоило оказаться на нем, как только и оставалось: шагай прямо по нему, и доберешься куда хочешь, — для меня это идеально, жалею, что и жизнь не может идти так же. Тоненькой зеленой полоской прорезает он северный Лондон, а поскольку на деревьях густая летняя листва, то я едва различаю стены домов, напоминающие мне, что вообще–то я в городе. Время от времени прохожу через сплошь покрытые надписями и рисунками тоннели или миную разросшиеся игровые площадки, которые природа, похоже, возвращает в первобытное состояние, делая чересчур опасными для детишек, которым они предназначались. Пройдя через какие–то железнодорожные арки, поднимаю взгляд и вижу над собой каменное существо, эльф какой–то или фея, по–моему, грозит мне со стены, словно пытается схватить меня — аж мурашки по коже побежали. Догадываюсь: подразумевалось, что это произведение искусства, — только мне оно не нравится, и я спешу дальше.
Странно, но мне едва верится: недели не прошло, а как далеко я зашла, как неестественно легко оказалось начать всю мою жизнь сызнова и как все в конце концов может оказаться хорошо, коль скоро я сделала это. Со мной все будет в порядке, пока я не стану думать о Бене или Чарли, о том, чем могут они быть заняты в данный момент, об их первых выходных в одиночестве, о том, как им вдвоем живется. Стараюсь не признаваться себе, что сделанное мною — сумасшествие, нечто непростительное. Пусть Бен, может, больше и не любит меня, все равно я исчезла, он не знает, где я, как я, жива ли я или мертва.
Отвлекаюсь и всю себя настраиваю на то, чтобы неустанно передвигать ногами, все мысли устремляю на случившееся в эту неделю: стараюсь больше не думать, что было прежде, — и растворяюсь в ритме податливой почвы, пробивающихся к жизни деревьев и своих мерных шагов. Не успеваю опомниться, как оказывается — хожу уже около часа. Я почти дошла до конца этого тоннеля, что помогло мне воссоединиться с землей, помогло снова спуститься на землю. Солнце, должно быть, зашло за облако, краски сменились с бодряще–желтых и ярких свеже–зеленых на вгоняющие в тоску коричневые и тускло–серые. Становится прохладнее. Поворачиваю налево, под ногами слегка потрескивают упавшие гниющие ветки, а я вышагиваю по узкой тропке меж деревьев туда, откуда доносится шум уличного движения.
Стою спиной к озеру и через лужайку пристально оглядываю белое здание Регентства, я и понятия не имела, что Лондон настолько прекрасен. Я пешком прошла весь путь досюда, миль пять, должно быть, и на всем пути умудрилась по большей части не замечать состоятельные семьи с их детьми и собаками, с их непереносимой невинностью. Может быть, я начинаю забывать, что когда–то сама походила на них; наверное, я уже врастаю в свое новое «я», становлюсь Кэт… вот и стою тут, впервые за много месяцев чувствуя, что по–настоящему живу. Снова покалывает там, где некогда у меня было сердце. День жаркий, но приятный, воздух, кажется, свеж и чист, мир представляется таким, что в нем вполне можно спокойно жить. Начинаю думать, что я не только сумею выжить тут, в Лондоне, но, может быть, в один прекрасный день посмею снова быть счастливой. Счастливой, конечно же, на иной лад… всего шесть дней назад мной владело одно желание — просто выжить, сегодня же я любуюсь красотой и безмятежностью и вижу в этом возможность движения вперед (на минутку я забываю про ужасы Дворца на Финсбери — Парк, бахвальство КСГХ). С удивлением оглядываю все вокруг, словно в самый первый раз вижу этот мир, ловлю себя на том, что улыбаюсь, как полоумная, хочется, кувыркаясь, проскочить всю лужайку и таким нелепым способом выразить облегчение и радость оттого, что я выжила, что я тут, что я совершила что–то правильное, в конце концов, что всем нам троим будет — непременно будет! — когда–нибудь хорошо. Только–только я потянулась руками к небу, как замечаю мужчину, внимательно меня разглядывающего. Смотрит он на меня не так, как на безумную чудачку, улыбающуюся невесть чему, а так, как смотрят, когда уверены, что знают вас, и вот он уже идет ко мне, улыбается, готовясь поздороваться, а я в панике: меня захомутали, — разворачиваюсь и бегу. Бегу вдоль ограды возле озера, бегу дальше через мост, бегу в истосковавшийся по солнцу лес, и, пусть я ничего не вижу, пусть спотыкаюсь, все равно бегу и бегу. Я заблудилась. Пустошь огромна, карты нет, и я все вышагиваю, понуро свесив голову и не замечая, куда иду, и не очень из–за этого тревожусь — лишь бы не пришлось еще раз увидеть того мужчину. Наконец выхожу на дорогу, а там на остановке поджидает автобус, куда он идет, я не знаю, но все равно сажусь и недвижимо замираю на сиденье, глядя в окно, взбудораженная, потерянная. В конце концов автобус останавливается около какой–то станции подземки, представления не имею, где это, никогда не слышала про Арчуэй. Обратный путь оттуда до Финсбери — Парк изматывает все нервы и тянется крайне медленно, но, по крайней мере, никого не приходится расспрашивать, куда ехать, я выжата как лимон. В доме шмыгаю вверх по лестнице в свою чистенькую белую комнатку, валюсь на постель лицом вниз и рыдаю — по себе самой, по своему мужу и сыну, по всем нашим пропащим жизням. Я обессилена, истощена, меня от самой себя тошнит. Я совершила отвратительную ошибку, решив, что смогу просто убежать, что это окажется так уж легко, самым большим благом для нас всех. Становится легче, когда рыдания наконец прекращаются — лежишь себе просто, тихо и одиноко.
Уже через несколько часов вздрагиваю от стука в дверь, на пороге Ангел в своем белом пушистом домашнем халате.
— Ой, детка, прости, я тебя разбудила? Ты еще хочешь по магазинам пройтись? Если да, то нам надо скоро выходить…
Она смотрит на меня, а на моем лице будто сошлась вся боль последних трех месяцев, превратив его в подобие маски страдания. Не знаю, что и делать, не могу понять, с чего это тот мужчина на пустоши меня расстроил, но он — расстроил. Он узнал меня. Мне что, и спрятаться уже негде? Ангел садится на край моей кровати, я, поднимаясь, сажусь в постели… и снова принимаюсь всхлипывать, издавая прямо–таки животные звуки, которые разносятся по всему дому, и это тот случай, когда мне безразлично, что могут подумать люди. Подаюсь вперед, складываясь пополам, и с силой сжимаюсь, стараясь унять боль, а Ангел только и может, что сидеть и следить, а когда наконец–то горе немного притупляется, она берет мою руку и держит ее, по–прежнему ничего не говоря. Так сидим мы очень долго, потом я утираю глаза и произношу, насколько только получается бодро:
— Я буду готова через десять минут, тебя это устраивает?
— Само собой, — говорит Ангел, — коль скоро ты решилась, тогда айда на выход, детка. — И меня поражает, что она и не пытается меня утешить, в порядок привести, а просто принимает такой, какая я есть, — жалкой и сентиментальной.
Мы отправляемся, как называет это Ангел, «на запад», это напоминает мне об «истэндцах»[15], я и не знала, что люди и на самом деле так выражаются. Изо всех сил стараюсь привести чувства в норму, быть нормальной, позволить укорениться во мне очевидной нормальности других людей. Идем по Оксфорд–стрит, мимо дисконтных магазинов и ошеломленных туристов (и это Лондон?), мимо сетевых розничных магазинов и лавок, торгующих мобильниками, пока не доходим до «Селфриджез», который намного больше и оживленнее, чем его тезка в Манчестере. Ангел, похоже, тут известны все ходы и выходы, и мы поднимаемся на эскалаторе на второй этаж, где она набирает мне одежды, которую сама я и не подумала бы выбрать. Судит она толково, и, глядя в зеркало, ловлю себя на мыслях: да, пожалуй, Кэт Браун носить такое стала бы, — только все равно мне не по себе, какое–то странное ощущение предательства испытываю от столь легкомысленного занятия, от примерки одежды, и еще гнетет мысль о трате денег, необходимых мне для выживания. Продавщиц мы не интересуем, уже поздно, работа всем им обрыдла, разглядывают свои идеально наманикюренные ногти, дожидаются, когда настанет пора идти домой, поэтому мы по большей части оказываемся предоставленными самим себе. Ангел знай себе таскает кипы нарядов в маленькую кабинку примерочной, укрытую по старой моде за большим, в полный рост зеркалом. Ангел знала, что отыскать, крошечное серое помещеньице выглядит тут неуместным, эдаким возвратом к менее показушным временам, прежде тут располагались роскошные раздевалки с огромными зеркалами в резных рамах и толстенными непроницаемыми занавесями, за которыми копошились множество худющих девиц в дорогом нижнем белье. Ангел знай себе носит и носит всякие наряды мне на примерку, и вскоре примерочная под завязку забита всякой одеждой. Послав мысленно к чертям собачьим былое нежелание, меряю все, что приносит Ангел, как бы дерзко оно ни смотрелось. То, что раньше я порыдала, похоже, сняло тяжесть, может, слезы, наконец–то выплаканные, пошли мне на пользу. А потом откуда ни возьмись вспомнилось, как я в последний раз ходила по магазинам (совсем незадолго до) с мамой, и сделалось больно: боже мой, я ведь и ее бросила. Поверить не могу, что до сих пор даже не думала ни о ней, ни об отце, даже там, в Манчестере, когда бежать готовилась, не думала, каким ударом это и для них явится. До сих пор я только о том и думала, как там Бен с Чарли, а больше всего — о самой себе, конечно. Что, черт возьми, со мной неладно?
Желание покупать пропало, хотя меня и мучает извращенческая мысль, не обижу ли я Ангел, если ничего не куплю, ведь она, похоже, так старается помочь мне. (А как насчет разбитых сердец моих близких, разве это не должно бы мучить меня больше?) Ангел улавливает мое нежелание и предлагает пойти кофе выпить и, может, вернуться попозже, когда у меня будет время решить, что мне действительно нравится, подгонять меня ей не хочется. Так что мы покидаем маленькую примерочную, оставляя разбор всей сваленной в кучу одежды на продавцов (я, правда, попыталась приняться за это, но Ангел велела мне не глупить, продавщицам, говорит, хоть будет чем заняться), и двигаем в обратный путь на эскалатор, мимо кожизделий, мимо парфюмерии, выходим на Оксфорд–стрит, и, несмотря на толчею народа, я немного успокаиваюсь: движение, похоже, как–то помогает.
Ангел плывет через толпу, и я снова отмечаю, как хрупка она на вид, как чересчур крохотна и чиста, чтобы быть крупье, слишком невинна, чтобы орудовать в ночном подпольном мире надежд, беспомощности и утрат. Она меня поражает.
Находим неподалеку бар, я как–то счет времени потеряла, для кофе уже слишком поздно, слишком поздно возвращаться сегодня в «Селфриджез», и, чувствую, меня волнует, что я надену в понедельник, как будто это имеет какое–то значение. Мне незачем спрашивать Ангел, что она будет пить: заказываю две водки с тоником, и напитки приносят в длинных охлажденных стаканах со льдом и лаймом. Бар, должно быть, новый, дорогое убранство в нем, и внутренний интерьер всячески это подчеркивает, словно бы чересчур стараясь, — вроде меня. Мы сидим в глубине зала у стены с разрисованными обоями на одинаковых блестящих стульях, слушаем невнятную музыку, наверное, где–то утвержденную дирекцией, и я оплакиваю настоящие кофейни: с покоробленными рекламками «Мартини», разнокалиберными столами со стульями и даже, может, со свечками под бутылочными колпаками, — увы, нынче не модные. Отчего мир стал таким дезинфицированным, обезличенным, скучным? Куда ни попади: в Лондон, в Манчестер, в Прагу, — бары везде и всюду одни и те же. «Тебе следовало бы быть в Манчестере», — произносит голос, и я впиваюсь в соломину, яростно опустошая стакан до дна.
Ангел, похоже, довольная собой, копается в своей вместительной сумке от «Милберри» (дорогущая! — неужели настоящая?), которая делает ее похожей на куколку, уменьшает ее еще больше, чем есть на самом деле, и сует мне под столом простой пластиковый пакет. На ощупь он какой–то чудной, будто металлический, а когда я заглядываю внутрь, то вижу оранжевое шелковое платье и джинсовую свободную юбку выше колена (их я спала и видела, но купить слишком остерегалась), а еще голубой топ, расшитый блестками, и серебристое платье–рубашку, которое мне очень приглянулось, но было отвергнуто как чересчур дорогое, чересчур откровенное. Не сразу доходит до меня, что ценники все еще на вещах, потом я поднимаю взгляд, гляжу ей в лицо, с трудом скрывая отвращение.
Ангел мило улыбается.
— Ой, детка, не тревожься, они могут себе это позволить, в таких местах на это специально деньги выделяются.
— Не в том дело, — шепчу я, сую одежду обратно в выложенный фольгой пакет и отпихиваю его под столом. У Ангел обиженный вид.
— Я только помочь старалась, — говорит она, насупившись, словно дитя малое.
Обижать Ангел я не хочу, уже прониклась к ней бездумной нежностью, а потому берем еще по одной водке с тоником, говорю ей «спасибо», что я вообще–то тронута, зато внутри меня всю трясет. Я никогда ничего не крала, даже не знала никого, кто этим занимался, — не считая Кэролайн, — от кого такого можно было бы ожидать. Ангел понимает, что ее суждения обо мне неверны, и, похоже, ей стыдно. Что ж, решаюсь оставить одежду у себя… а что еще мне с ней делать, в чем еще идти на работу в понедельник?
Когда мы потянули по третьему стаканчику водки, в бар, где все еще пусто, заходит выводок мужчин, Ангел улыбается им, хихикает с ними, и я глазом не успеваю моргнуть, как они шлют нам шампанское. Болтать с ними мне не хочется, они много старше нас, в дорогих рубашках, с редеющими волосами и выражающими нетерпение взглядами, как будто шампанское — это сделка и теперь мы им что–то должны. Хочу уйти, но Ангел радуется жизни, глаза у нее блестят от водки и адреналина. Один из мужчин, отнюдь не урод, явно положил глаз на Ангел, и я сижу с кислым видом, пока они флиртуют друг с другом, а поскольку никак не могу придумать, о чем говорить, остальные ставят на мне крест и уходят к стойке. Может, мне следовало бы пойти домой, предоставив подругу самой себе. Ангел запрокидывает голову, открывая свою длинную белую шею, по которой волна катится, когда она пьет, и на какой–то миг я ловлю во взгляде мужчины желание, отражение которого появляется и в моем. Выпив, Ангел ставит бокал для шампанского на темный деревянный стол, ставит с силой (по–моему, силу она не рассчитала, мы обе уже совсем хороши), но стекло, хоть и задребезжало, но не разбилось.
— Оп–па, — произносит Ангел. — Спасибки, ребятки, приятно было с вами познакомиться.
Одним движением она соскальзывает со стула, берет меня за руку, поднимает и мы, слегка покачиваясь, движемся по пустому залу к двери. Я оглядываюсь: у ухажера Ангел на лице на мгновение появляется раздраженное выражение, будто его провели, но Ангел заигрывающе делает ему ручкой, и мужчина улыбается незлобиво и даже нежно, а потом возвращается к своим друзьям и заказывает выпивку.
Ангел предлагает наведаться в знакомый ей бар в Сохо. Я устала, чувствую себя препаршиво, хочу домой, хотя и знаю, что она расстроится, ведь это у нее, говорит, первый свободный субботний вечер за много недель.
— Пожалуйста, иди без меня, со мной все будет хорошо, — говорю, хотя Ангел настойчиво уверяет, что вернется со мной домой: она явно беспокоится за меня, — но тут ее телефон звонит дважды, и, смею утверждать, кто–то правда хочет, чтоб она еще погуляла. Теперь мне делается кисло. Пусть мы и стали так скоро такими добрыми подружками (это ведь Ангел надо больше всего благодарить за то, что я как–то устроилась и в доме этом, и в жизни), только здесь, в Вест — Энде, это воспринимается по–другому. Меня все еще бесит происшествие в магазине, бесит ворованная дорогая одежда, упрятанная в ее сумке. Да, должна признаться, что она уже успела поведать мне всю ту безумную чушь про свои наглые проделки с бандитом — приятелем ее матери, про то, как когда–то таскала с сияющих прилавков бриллиантовые кольца, пока все взгляды были устремлены на ее мать, только я думала, что это осталось в далеком прошлом, когда она была всего лишь маленькой девочкой. Чувствую, заносит меня во что–то неведомое рядом с человеком, повидавшим жизнь и пожившим ею, а ведь, несмотря на все случившееся, еще несколько дней назад я была всего лишь скучным адвокатом из Честера. Неожиданно ощущаю, что события минувшей недели, минувших месяцев выжали меня как лимон, одолевает слабость, желание отдохнуть.
— Пойдем, детка, — говорит Ангел. — Давай только зайдем выпьем по маленькой, посмотрим, как ты себя будешь чувствовать. Время мы хорошо проведем, я обещаю. — Она берет меня за руку и улыбается так, что отказать ей я не в силах.
Мы проходим всю Оксфорд–стрит (как только Ангел ходит на таких каблуках?), а потом, перейдя дорогу, попадаем на мою улицу, где я работаю. Я указываю на агентство, и Ангел восклицает:
— Да ты что! Ну, это шикарненько, а?
А потом мы проходим Уордур–стрит, пересекаем Олд — Комптон–стрит, у меня уже ноги гудят, а желание отправиться домой (домой — куда?) одолевает целиком и полностью.
Ангел уже, по сути, тащит меня за руку, мы спускаемся по каким–то узким ступенькам, которые я никогда и не заметила бы, все это кажется чем–то немного сомнительным, но, когда мы проходим входную дверь, за нею открывается огромный бар — с высокими потолками, голыми кирпичными стенами и роскошными люстрами. Всю заднюю стену занимает экран, на котором крутят крутое порно. Увеличенные кадры не сопровождаются звуком, слава богу, так, долбит что–то механическое, это, что ли, зовут техномузыкой? Бар полон красивыми модными людьми, мне делается неловко за свои джинсы и унылую рубаху. Не знаю, куда взгляд отвести: в жизни не видела такого громадного пениса и того, что он им вытворяет, — вот и стою с Ангел у стойки, дожидаясь, пока кто–то из неистово занятой, но холодно отрешенной обслуги бара меня заметит. Убеждаюсь, что и все другие на экран не смотрят, будто его и нет вовсе. Гаргантюанский акт полового соития… а вместо него вполне могли бы показывать какого–нибудь причитающего чудака с плакатом, настолько старательно народ не обращает внимания на экран. Зачем он здесь: из любви к искусству или к моде? — а потом начинаю думать, какое мне до этого дело. Дожидаясь возможности заказать две водки с тоником, сквозь музыку слышу, как кто–то вопит показушно певучим голосом: «Ангел, до–ро–гая! У тебя получилось», — оборачиваюсь и вижу безукоризненно сложенного чернокожего в бананово–желтой футболке, которой тесно на скульптурной лепки груди, он обнимает Ангел, прижимая ее к себе, словно малого ребенка, только–только извлеченного из ванны. Ангел ухмыляется, бросает вверх завлекающий взгляд, хотя даже мне ясно, что чернокожий — гей. Я потеряла свою очередь (странная у них тут система), стою в ожидании опять, теперь уже совсем убежденная, что внимания на меня не обращают нарочно. Когда наконец–то ко мне подходит красавица–девица с колечками, продетыми в бровях, заказываю три двойных: дружок Ангел слишком далеко, чтобы спрашивать, чего он хочет, а пробираться обратно лицом к экрану мне невмоготу. Цену мне называют несусветную, я понятия не имела, что три выпивки могут стоить так дорого. Когда добираюсь сквозь толпу до Ангел, она говорит:
— Дэйн, познакомься с моей классной новой соседкой Кэт, я ее в кустах нашла. — И она прыскает.
— Здрасьте, — говорю, застенчиво улыбаясь. — Боюсь, не знала, чего вам захочется, потому принесла водку.
— О-ой! — взвизгивает Дэйн и говорит: — Сам я предпочитаю мохито, не беспокойтесь, дорогая, Рикардо мне уже несет.
Оглядываюсь и вижу, как к нам приближается еще один божественный мужчина: идеального сложения, смуглый и миниатюрный — с двумя запотевшими стаканами зеленого напитка, узорами отсвечивающего в его наманикюренных руках. Ангел берет свою выпивку, и мне достаются две двойных водки.
Выпиваю первый стакан как можно скорее, в основном только бы стакан поставить, и вскоре чувствую, как по телу разливается ласковое тепло. Пробую предложить оставшуюся водку Ангел, но та, покрутив головой, говорит:
— Пей сама, детка.
Минут за пятнадцать я приканчиваю их оба. Чувствую, как кружится голова, будто я все не тут, но держусь изо всех сил, стараясь не терять нить разговора, перекрывающего музыку, что дерганой болью отдается в голове, и не обращать внимания на невообразимые гениталии, стараясь забыть, насколько неуместной я себя чувствую.
Представления не имею, сколько уже времени. Я стою на столе (я где–то в другом месте?) одетая в серебристое платье–рубашку, которое в тот день пораньше Ангел стащила для меня в магазине. Ноги мои босы, понимаю это потому, что они липнут к мокрой столешнице. Ангел рядом со мной, сексуально танцует, тогда как я пьяно раскачиваюсь, длинные мои ноги сгибаются под музыку, подошвы твердо впечатались в стол. Еще хватает ума сообразить, до чего смехотворно я выгляжу, а потом вновь подхватывает эйфория свободы, избавления и спиртного, я запрокидываю голову, гикаю, ухаю, больше не заботясь, кто и что об этом подумает, продолжаю танцевать, плохо попадая в такт музыке.
— Выпьем еще! — ору я Ангел, перекрывая шум, потом изображаю скачок со стола, как в кино «Грязные танцы», и… ноги отказываются мне служить. Кто–то (Дэйн?) помогает встать с пола, потом рядом оказывается Ангел и тащит меня в туалет, потому как ноги мои, похоже, не действуют. Наваливаюсь на Ангел, и мы ухитряемся втиснуться в кабинку, я во всей одежде усаживаюсь на сиденье, свесив голову ниже колен, меня даже не тошнит ни от грязи, ни от зловония — одно сплошное истощение, силы ушли совсем. Одно лишь желание — улечься спать: сегодня формально уже закончилось. Ангел шлепает меня по щекам, трясет меня, приговаривая:
— Ну же, детка, очнись!
Не скоро, но наконец я встряхиваюсь, сажусь, выпрямляясь, невидяще гляжу на нее, а потом в голову лезет этот жуткий образ и я снова захожусь в истерических рыданиях, словно вовсе и не собираюсь их прекращать. Ангел гладит меня по волосам и говорит:
— Перестань, детка, я за тобой пригляжу, все будет как надо. — Потом становится рядом и принимается что–то делать на бачке за моей спиной. — Попробуй вот это, детка, это точно поможет, честно.