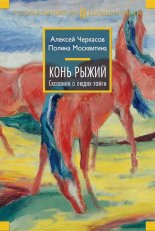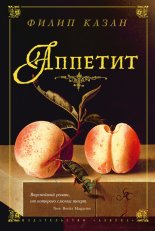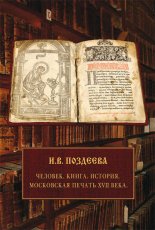Шаг за край Сескис Тина

— Оп, — вырвалось у него.
— Можно войти? — спросила Кэролайн. — Мне, может, не стоило приходить, но я еще вчера вечером пыталась тебя застать, мне просто надо было повидать тебя, выразить сочувствие.
— Сочувствие — в связи с чем? — спросил Бен, понимая, что грубит.
— Прошу тебя, Бен, позволь мне войти. Ты не единственный, кто страдает, может, у нас получится помочь друг другу.
— Не думаю, — бросил он, однако отступил и дал ей войти.
Бен проследовал за ней в гостиную, и, пока она снимала пальто, вновь зазвонил звонок, на этот раз доставили карри, но у Бена руки все еще дрожали, когда он расплачивался с курьером. На кухне он разделил еду на две тарелки: как обычно, заказал слишком много. Достал себе пива и тут засомневался: может быть, не стоит ему пить у Кэролайн на глазах, не будет ли это похоже на дразнилку, — а потом, мысленно выругавшись, махнул рукой и налил ей апельсинового сока.
Он как раз ставил все на подносы, когда появилась Кэролайн, пошатываясь на своих каблуках, и попросила достать бокалы для вина, а из своей сумки достала бутылку белого вина в красной обертке, бутылка даже запотела, до того была холодной. Должно быть, только что купила в винном магазинчике в конце их улицы, однако он ничего не сказал: сказывалась усталость и неловкость, ему и в самом деле было не до ссоры. Они ели в молчании перед телевизором, а на экране какой–то мужик глотал шарики для гольфа, а старушка танцевала со своим пуделем, меж тем юбка Кэролайн задиралась все выше. К следующему перерыву на рекламу она успела опорожнить выбранный ею весьма внушительный бокал и попросила Бена налить ей еще вина.
Что–то в тот момент внутри Бена надтреснуло, и, вскочив, он вихрем маханул на кухню, рванул дверцу холодильника, выхватил еще одну банку пива, откупорил ее и принялся жадно заглатывать пиво прямо из банки, а голову сверлила мысль: а почему бы, собственно, блин, и нет? В нем столько взрывоопасной злобы накопилось, что нужно было избавиться от этого чувства, в куски его разнести, и, глотая спиртное, он понял, что даже не злится на нее больше, он зол был на весь этот ужасный мир.
52
Много позже уже стемнело, а мы так и не двинулись с дивана. Вполглаза посмотрели два фильма, прослушали бессчетное число дисков, я уже стала рисовать себе в воображении (так, по мелочи) новую жизнь с этим новым Беном, может, в один прекрасный день мы и поженимся, я стану миссис… как ее?
— Робби, а как твоя фамилия? — бормочу я ему в плечо.
Поначалу, похоже, ему как–то неловко. Потом говорит:
— Хм… я… кхе… Браун.
Я сажусь и удивленно взираю на него.
— Это моя фамилия, — говорю. — Надо же, это судьба. — И я смеюсь.
— Я проголодался, — быстро произносит он. — Ты как насчет заказать с доставкой на дом?
— Тут в округе должно быть полно всяких местечек. Может, выберемся поесть чего–нибудь?
— Я бы лучше с тобой остался, — говорит он. — На улице дождь, у меня шампанское есть, можем охладить… плюс не надо будет голову ломать, какие туфли надеть под этот наряд. — Он оглядывает меня: в его слишком больших для меня джинсах и рубашке, — и в его словах есть смысл.
— О’кей, — говорю. — Я не против, даже предпочитаю остаться.
— Карри подойдет?
— Идеально, — отвечаю, в желудке начинет крутить: как раз карри Бен всегда и заказывал. — На твой вкус, мне все подойдет.
Он роется в ящике, отыскивая рекламку, а когда заказывает, то строчит быстро–быстро, как пулемет, голос его звучит странно, визгливо почему–то.
Он исчезает на некоторое время и возвращается с бутылкой шампанского и двумя высокими бокалами. Вид их порождает тоскливые мысли о розовой шелковой косметичке Ангел, и тут у меня ноги подкашиваются: доходит, что косметичку–то я ей так и не вернула. Рисую себя вчерашним вечером в туалете у «Граучо»… как же быстро, думаю, нарушила я обещание моему мальчику, а потом думаю о том, как я все–таки смогла отвернуться от него, когда нужна была ему больше всего, а потому… что изменится, если время от времени склонять голову перед одной маленькой полоской порошка?
Хотя сейчас потребность во мне раздается, заползает во всякую щелку моего взбаламученного мозга, меня тревожит Робби и его мнение, вполне уверена, что такое не для него. Мне ненавистна мысль, что я упаду в его глазах, а потому гоню мысль о маленькой косметичке ко всем чертям и еще куда подальше. «Если ее нет у меня в сумке, все сейчас было бы прекрасно. Просто сделай вид, что ее там нет». Робби наполняет наши рюмки шампанским и предлагает выпить за нас, за последние 24 часа, опять целует меня… и всякая мысль о наркотике никнет и туманом уходит прочь.
Когда звонят в входную дверь, Робби вскакивает и говорит:
— Я сию минуту вернусь, сможешь взять заказ? — и сует мне в руку 50-фунтовую купюру, направляясь в туалет. Нажимаю кнопку домофона, на экране которого улыбающееся мужское лицо, впускаю курьера, и он приносит ароматную еду в красивых картонных коробках, которую я раскладываю по белым квадратным тарелкам на сияющей кухне. Вновь появляется Робби, мы берем еду с собой в гостиную, опять садимся и уминаем ее в приступе голода, а пока едим, смотрим шоу «И Британия находит таланты», ощущение до того изумительное, настоящий субботний вечер, какие были когда–то у нас с моим мужем. Убеждаюсь, что мы смеемся одним шуткам, отпускаем сходные замечания, и, стоит мне только взглянуть на этого самозваного Бена, как у меня сводит живот и пульс становится бешеным, пока я взгляд от него не отведу.
Робби открывает еще одну бутылку, мы укладываемся и пьем, и теперь уже вино оказывает действие, так что в конце концов он поднимает меня на ноги и ведет в спальню. И на этот раз мы не просто лежим и обнимаемся, мы готовы, такое чувство, будто мы знали друг друга вечно — и это упоительно. И потом, когда это кончилось, до меня доходит, что я наделала, я фактически прелюбодейка, и, чтобы заглушить панику, уже не обращаю внимания на то, что он говорит, просто вслух предлагаю наркотик. Робби долго смотрит на меня, а потом, к моему удивлению, говорит «да», не знаю почему, но с ним в этом нет никакой грязи, в его шикарной квартире в Мэрилебоне, от этого охватывает восторг, это чарует, сносит голову.
Несколько часов спустя мы засыпаем, а когда я просыпаюсь, рассвет уже проглядывает сквозь полуоткрытые шторки жалюзи, я лежу, скованная чувством вины, а Робби лежит мертвый.
53
Когда Бен возвращался из кухни, он все еще был совершенно вне себя, но злился уже на Эмили за то, что та ушла, почти так же, как на Кэролайн за то, что та пришла. Казалось совершенно невыносимым именно в такое время сидеть лицом к лицу с той, что так походила на Эмили, говорила голосом, похожим на ее, и все же не была ею. «Все–таки не должна была она убегать, это ж до чего эгоистично?» Он уже был до того пьян, что воспринимал отсутствие жены как бы телесной пустотой, будто у него живот куда–то провалился, а на его месте ничего не было, кроме зияющей дыры там, где должны бы внутренности находиться. Положил ладонь на диафрагму: нет, все по–прежнему на месте, под покровом ночи его не взрезали. Он насупленно смотрел, как раскинулась на его диване Кэролайн в своей слишком коротенькой юбочке, волосы у нее еще больше отросли, ему хотелось, чтоб она попросту отвалила, черт ее дери, что ей вообще–то надо. Он подошел к креслу–качалке, в которое поклялся не садиться с той самой первой волшебной ночи в квартире Эмили (с тех пор годы прошли), оно такое обшарпанное, и в нем так неудобно сидеть, им, если честно, следовало бы от него избавиться. Нет, «ему» следует от него избавиться, никакого «им» больше не существует. Ему опять захотелось, чтобы Кэролайн просто поняла намек и ушла, однако он не решался прямо попросить ее удалиться на тот случай, чтоб она какую–нибудь свою сцену не устроила: такого в тот вечер ему было не вынести.
— Ты где был? — спросила Кэролайн, и голос ее прозвучал невнятно.
— На кухне, — произнес Бен и смутно подивился, как Кэролайн тоже набралась, ведь он только принес ей второй бокал вина… но тут заметил на полу пустую бутылку, еще недавно наполовину заполненную виски.
Телевизор продолжал штурмовать их чувства своей фальшью. Они смотрели, как маленькая девочка с сильным голосом коверкала песню Уитни, а затем группа взрослых мужчин в комбинезонах плясала с тачками, пока Бен не решил, что на самом деле не в силах больше переносить этого, ему надо отправляться в постель. Повинуясь порыву, он нажал кнопку пульта, и экран почернел. Тишина оглушала. Кэролайн раздраженно завозилась, и, когда повернулась, чтобы пронзить его взглядом, он понял, что у нее опять нездоровый вид: лицо бледное и тонкое под слоем косметики.
— О чем ты со мной хотела поговорить? — сказал он наконец; может, она и уйдет, если дать ей выговориться.
Кэролайн склонила голову набок и переплела пальцы.
— Я хотела сказать, что сожалею, — сказала она.
— О чем это сожалеешь? — настаивал Бен.
Кэролайн пришла в замешательство и сказала:
— О том, что случилось. Обо всем сожалею.
— Не настолько, как я, — ответил Бен, но произнес это без жалости — одна только бездонная печаль.
— Думаешь, она вернется? — спросила Кэролайн. Она ждала, а он не отвечал так долго, что она решила, что он не расслышал.
— Нет, сейчас нет, — произнес он, и то был первый раз, когда он признал сам факт исчезновения Эмили. Это ударило по нему сокрушительно, он поднялся, желая выйти из комнаты: не мог он плакать ни перед кем, а уж тем более перед Кэролайн, — но споткнулся о пустую бутылку из–под виски и неловко упал, почти на гостью. Диван был низким, пружинистым и мягким, Бен попробовал выбраться из его топкой глуби, но, как вдруг оказалось, на это требовалось слишком много сил, а потому он распластался там, пьяный и побежденный.
Кэролайн перевернулась, обвила его руками и тихо держала, пока он рыдал — от всей души, истерзанной пивом, горем и одиночеством. Ее объятия действовали на него странно успокаивающе: хотя Кэролайн по темпераменту и очень отличалась от своей сестры–близняшки, касаться ее было все равно что касаться Эмили, она даже пахла как Эмили, не говоря уж о том, что была на нее похожа. Бен уже так долго не обнимал никого, кроме бедняги Чарли, что терялся, эти объятия напоминали ему о более счастливых временах, так что, когда она стала гладить его по голове, приговаривая: ну будет, будет, это было то, что нужно, ему даже в опьянении своем показалось, что, может, это и была Эмили. Когда же она склонилась, чтобы поцеловать его, он позволил, более того, сам ответил на поцелуй — и все сделалось таким по–животному необходимым, что он и не замечал уже, что не свою жену обнимал, а ее испорченную злонравную сестру–близняшку, пока не стало поздно. Уже после он осознал, что натворил, и заорал на нее, чтоб убиралась, чтоб оставила его в покое, а потом вышел, шатаясь, из комнаты и побежал наверх, с силой захлопнув за собою дверь.
54
У красавца Робби кровь запеклась в носу, постель под ним простыла, а кожа посинела. Нет никакого сомнения: он мертв. Я не ору, а спрыгиваю с постели и бегу к окну — голая, тяжело дышащая, как загнанная собака. Ужасаюсь до того, что думать связно не могу. Не могу, я не могу опять взглянуть на него, образ застрял в сознании, и я понимаю: вот и еще раз заглянула в преисподнюю, чего вовек не забуду, еще одна жизнь погублена мною — и ради чего? На этой мысли давлюсь, но справляюсь и удерживаю рвоту во рту, успеваю добежать до мусорного ведра, а там отплевываюсь блевотиной куда попало и падаю на пол. Во второй раз за два дня я оказываюсь в собственной блевотине и жалею, что жизнь не пронеслась поскорее и прямо сейчас не закончилась. Когда встаю, ноги меня плохо держат, грудь вздымается и опадает чаще, чем, мне казалось, она на такое способна, дышу все чаще и чаще, пока не понимаю: легкие я проветриваю с избытком, но, похоже, не могу остановиться. Что мне делать? Кто поможет Робби? (Никто, слишком поздно.) Кто мне поможет? (То же самое.) Я не могу позвонить Ангел, Саймону, даже маме с папой не могу: мой мобильник сдох, а я не помню ни одного из их номеров. Всего два номера застряли в памяти, по которым можно получить помощь: моего старого дома в Чарлтоне и 999. Мне отчаянно нужен мой муж, Бен нужен, он знает, что следует делать, а потому я, почти не раздумывая, набираю манчестерский номер… А что, помилуйте, я скажу? И на третьем гудке я вешаю трубку. Руки у меня дрожат, я едва справляюсь, чтобы вызвать 999, и уже через несколько секунд по линии доносится уверенный голос дежурной.
— Пожар, полиция или «Скорая»? — спрашивает она.
«Я не знаю. Он мертвый — это я знаю, какая тогда польза от «Скорой»?»
— Алло? — переспрашивает дежурная. — Вам нужна пожарная команда, полиция или «Скорая помощь»?
Я вдыхаю и говорю одновременно:
— Тут человек какой–то мертвый.
— Вы уверены? Он еще дышит?
— Он холодный и посинел. По–моему, это значит, что он мертвый. — И принимаюсь навзрыд рыдать в трубку — по Робби, по его несчастной утраченной жизни. Это жутко.
— Какой у вас адрес, милая? Скажите мне свой адрес.
— Я не знаю. Я где–то в Мэриленбон.
— Ладно, мы определим по номеру. Не вешай трубку, лапочка, постарайся успокоиться. Как зовут усопшего?
— Робби. Робби Браун.
— А ваше имя?
— Кэтрин Браун.
— Вы его жена?
— Нет, — вою я. — Я только с ним познакомилась. — Комната пошла кругом, решаю, что я теряю сознание, а потом понимаю, что это на улице мигают синие огни и полиция уже здесь.
«Слава богу». И тут вспоминаю, что я все еще голая, рвотой перепачкана и бегу в ванную, мигом в душ и из душа, прежде чем вода стала горячей, только успеваю закутаться в полотенце–простыню Робби, как в дверь забарабанила полиция.
Открываю, аккурат когда полицейские собрались выламывать дверь, они проносятся мимо меня, а один направляется в спальню. Через пару секунд доносится его вопль:
— Иисусе Христе, пойди–ка взгляни на это, Пит.
Полисмен, которого зовут Пит, идет к спальне, но столбом замирает на пороге, когда видит мертвого беднягу Робби, всяческие лекарства на прикроватной тумбочке. Пит испускает вопль ужаса, а потом поворачивается и смотрит на меня: глаза его горят ненавистью.
55
Ночью, может, кто–то пришел и развалил голову Бена надвое, и тогда он вспомнил, как появилась Кэролайн, сколько он выпил, что натворил с сестрой–близняшкой своей пропавшей жены. Он был сам себе противен, отвратителен, только уже не было времени бежать в ванную, и он бесконечно долго блевал в мусорную корзину, пока не осталось ничего, кроме отдающей перцем желчи в горле. Слава Господу, Кэролайн не пошла за ним наверх в спальню, будем надеяться, что она уже ушла: наверняка не стала бы здесь околачиваться, особенно после того, как он, будто спятивший, напоследок сбежал. Нет, больше он ее никогда не увидит, что бы там ни случилось в будущем.
Часы шли и шли, а Бен все лежал в оцепенении, а когда наконец поднялся, было время обеда и Кэролайн определенно ушла, слава богу. Он сделал душ горячее, чем способно было выдержать его тело, и нещадно оттирал себя, но все равно чувствовал, что грязен, что кожа как чужая, что он побежден: теперь Эмили не вернется к нему никогда. Он не знал, что с собой поделать. Только и хватало ума, чтобы очиститься, постараться избавиться от всего (до последней молекулы!) уличающего, обратить это в нечто несуществующее. Он выбросил застывшие остатки заказанной еды, сложил тарелки и бокалы в посудомойку и включил ее на самый высокий режим, хотя она была полупустой. Продезинфицировал кофейный столик, достал пылесос и вычистил ковер, взбил на диване подушки, оказавшиеся покрытыми пятнами позора. Бросил пивные банки и бутылки из–под вина и виски в баки для переработки, а когда наконец–то покончил с этим, сварил себе крепкий черный кофе, сел и включил новости. Когда стал названивать домашний телефон, он не обращал на него внимания (на тот случай, если звонила Кэролайн), но потом передумал: а вдруг это была она, — но звонок прекратился до того, как он взял трубку. Он все еще был не в ладу с головой, а потому, когда увидел лицо Кэролайн, смотревшее на него с телеэкрана, то подумал, что ошибся, что померещилось даже. Потом, когда понял, что это точно была она, никак не мог вникнуть ни в изображения, ни в слова, а потому лишь гадал, что произошло, что она на сей раз сотворила. Так и казалось, что в сознание попало слишком много информации, и Бэн не в состоянии был ее переварить, мозг отказывался ее воспринять. И только когда в третий раз была упомянута Кэтрин Браун, а не Кэролайн Браун, он понял, что наконец–то отыскал свою жену.
56
Пит и его коллега не знали, что делать со мной, все еще закутанной в банное полотенце, и после нескольких тревожных совещаний и призывов дать задний ход они наконец объявили мне, что арестуют меня по подозрению в убийстве. Слова эти для меня не имели ни малейшего смысла, так что я кивнула и позволила им сделать мне полагающееся предупреждение, меня меньше всего волновало, что они теперь со мной станут делать. «Бедняжка, бедняжка Робби, такой молодой, так полон жизни, что же я такого натворила?» Я опять принялась всхлипывать.
Прибывает сотрудник полиции — женщина, по–моему, ее специально вызвали, она ведет меня в ванную обыскивать, я сбрасываю полотенце, и единственное, что предстает ее взору, это мое голое тело да ужас в моих глазах. Понадобилось всего десять секунд, и потом она говорит, что я могу одеваться, но после дальнейших споров шепотом сообщает, что мне придется надеть чистую одежду из гардероба Робби: мы не должны ни до чего дотрагиваться, связанного с местом преступления. Она так это называет: место преступления, потому что было совершено убийство — мною, очевидно.
Наконец женщина–полицейский, мужеподобная, в нескладных ботинках и с практичной короткой стрижкой, заковывает мне в наручники вытянутые вперед руки, похоже, едва ли не извиняясь при этом: она же понимает, что я ни сопротивляться, ни убегать не собираюсь, — металл холодит запястья, от него неудобно и больно, и все же это меня успокаивает. Когда меня наконец–то выводят из квартиры босую, ведут вниз по шикарным, покрытым ковровой дорожкой ступеням, а потом и на утреннюю улицу, я кажусь маленькой и хрупкой рядом с полицейскими, будто за ночь я съежилась или усохла на несколько дюймов. Пока тот, кого зовут Питом, ведет меня к полицейскому фургону, замечаю поджидающих фотографов и догадываюсь: должно быть, пойдет сюжетом в новостях. Теперь меня обнаружат, семья моя узнает, где я, выяснит, что я сделала, понимаю, что еще одну жизнь погубила. Меня, должно быть, повезут в полицейский участок, и от этой мысли мне делается дурно.
В фургоне меня сажают в клетку, как животное. Сижу я так низко, что улавливаю запах выхлопов дизеля, чую, что дорога очень близко, под вялым движением фургонной подвески, и меня опять начинает тошнить. Я до того подавлена, что неловко откидываю голову, прислоняясь к кузову фургона, а тот на каждой кочке бьет жестко, до металлического лязга, который отдается в голове тупой болью, хотя, казалось бы, должно как током бить, — и я понимаю: я этого заслуживаю. Смутно догадываюсь об остановках на светофорах, о смене полос движения, поворотах за угол, но во мне появляется ощущение какой–то странной внетелесности, словно бы я смотрю на себя со стороны, будто в кино, где я главный злодей. Минут, может, через десять фургон набирает скорость и, бухая совершенно как молот, делает резкий поворот влево, оставаясь какое–то время на двух колесах (во всяком случае, так кажется), а теперь крутит вправо, и потом пускаются в ход тормоза, фургон с лязгом застывает, и я слышу через окошко, как кто–то переговаривается, а вот мы опять тронулись, на этот раз медленнее, проехав же еще несколько ярдов, останавливаемся, задние двери открываются, и майский солнечный свет, игольчато острый, свежий после субботнего дождя, потоком заливает фургон, впивается мне в глаза, и я мигом закрываю их: для яркости во мне нет места.
Мне велят вылезать из фургона; пока я делаю это, шатаясь и задевая за дверь, сажаю черные масляные пятна на джинсы Робби. Почему–то меня это беспокоит, и я говорю: прости, не очень–то понимая кому, я пытаюсь оттереть отметины, а женщина–полицейский говорит (без недоброжелательства): «Пойдемте, мадам», — берет меня за скованные руки и заводит в громоздкое здание. Мы заходим в приемную (если это так называется в полицейском участке), повсюду сотрудники полиции, глазеют на меня, почему–то я, похоже, тут едва ли не знаменитость. Меня сразу проводят дальше в какую–то мерзкую комнатушку, пропахшую страданиями, посылают за врачом и задают мне все эти вопросы про здоровье, про душевное здоровье, не занималась ли я когда–нибудь членовредительством, нет ли у меня сейчас тяги к самоубийству. Это гнетет. Говорю им, все зависит от того, что они понимают под членовредительством, но они только поворачивают на меня свои равнодушные лица, каменные морды, а когда я отказываюсь дальше рассуждать, нет ли у меня намерений покончить с собой, что–то помечают в своих блокнотах и дальше спрашивают, есть ли кто–нибудь, кого я хотела бы уведомить о своем аресте. Это мне кажется почти забавным: полагаю, теперь уже вся страна знает, судя по всем тем фотографам, что толпились возле квартиры Робби (потихоньку про себя думаю, как это они так быстро туда сбежались). Когда меня спрашивают, нужен ли мне защитник, то я уже слишком устала, чтобы думать, по мне, лучше сказать «нет». Так что меня отводят в камеру, и когда наконец–то оставляют одну, то, оказывается, мне не до чувств и не до забот, я где–то глубоко в себе, где мне покойно и тепло, где ничто не может пойти не так, потому что и так уже все наперекосяк.
57
Ангел настолько увлеклась разговором со своим новым приятелем Филиппом, что не заметила, что Кэт нет рядом. Она решила, что Кэт с Саймоном, а потому, заметив его беседующим с какой–то гибкой, как ива, женщиной, черные волосы которой были будто обрублены прямо по лбу, Ангел подошла и спросила, где Кэт. Саймон тоже не замечал, чтобы она уходила, в баре было полно народу, и он ожидал, пока его обслужат. Когда же к половине второго Кэт так и не вернулась, Ангел попробовала дозвониться ей, однако телефон подруги просто переключался на голосовую почту.
«Ну и ладно», — подумала Ангел, полагая, что увидится с Кэт дома. Однако ее немного удивило, что Кэт ушла, не попрощавшись, тем более что она забрала с собой ее розовую шелковую косметичку: Ангел сама чувствовала себя слегка на взводе, а уверенности, к кому тут можно бы безбоязненно обратиться, у нее не было. Кончилось тем, что она вновь составила компанию Саймону, выпила еще шампанского, и это отвлекло ее от косметички. Когда же Саймон спросил, не согласится ли она пойти выпить по рюмочке на сон грядущий в его номере гостиницы, которая прямо за углом, она подумала: почему бы и нет, мужчина он привлекательный, к тому же и деньги на такси можно сэкономить. Так что ушли они вместе, и позже Ангел надеялась, что Кэт возражать не стала бы.
58
Много часов спустя сижу на краешке скамьи в камере полицейского участка Паддингтон — Грин и все еще пытаюсь переварить тот факт, что меня считают убийцей. А я убийца? О чем я напрочь забыла от ужаса пробуждения рядом с трупом, так это о последствиях того, что мы вытворяли вместе, как делились наркотиками Ангел, что именно я и дала ему их. Что это я вызвала его смерть.
Дрожь пробирает неудержимая, тут холодно, мои выданные полицией белая кофта и брюки куда как легки, и я начинаю понимать, что моя трогательная попытка убежать от прошлого, начать новую жизнь провалилась с треском и привела лишь к еще большим страданиям. Меня еще раз раздели и обыскали (на сей раз это проделали двое полицейских), и пусть это унизительно, какая мне до этого забота, если в ноздрях у меня навечно застрял гнусный запах смерти. По крайней мере, сейчас я могу поставить на себе крест, я на самом деле ушла от борьбы за выживание, только ирония в том, что, по–моему, неуверенные ответы на вопросы врачей вынудили установить за мной постоянное наблюдение как за потенциальной самоубийцей, каждые пятнадцать минут кто–то смотрит за мной через глазок. Толстомордый полицейский в очередной раз заглядывает полюбоваться на меня, и я тупо смотрю на него некоторое время, непонимающе, как какая–нибудь горилла в зоопарке, а потом поворачиваюсь лицом к стене.
59
Когда в субботу к обеду Ангел вернулась и стало ясно, что Кэт домой все еще не приходила, Ангел встревожилась по–настоящему. Ей, положим, никогда не нравилось расспрашивать (она полагала, что Кэт сама расскажет, когда созреет), она всегда ощущала у своей подруги какую–то непонятную печаль, а после вчерашней драмы все гадала, какова же правда и что Кэт теперь учудила, все ли с ней ладно… или надо в полицию звонить?
«Не психуй», — подумала Ангел. Она Кэт не мать, может, та просто разок с кем–то домой пошла. Беспокойство, однако, не проходило, и, уходя в субботу вечером на работу, Ангел оставила Кэт записку с просьбой позвонить ей, как только та придет домой, а на тот случай, если Кэт потеряла мобильник, записала номер своего рабочего телефона на обороте счета за газ, оставив его на столике у входной двери.
Только от одного из игроков за столом, где резались в «двадцать одно», Ангел впервые услышала поразительную новость о том, что умер Роберто Монтейро. Едва закончилась ее смена, она вышла на мобильном на сайт Би–би–си, чтоб узнать, что случилось, и так выяснила, что ее лучшая подруга арестована за убийство.
60
Сейчас я тихонько хнычу, будто наконец–то за осознанием последовал удар. Я жалею обо всем, что делала в эти два минувших дня, обо всем до последнего. Если б только я вела себя здраво, как это было когда–то, взяла бы отгул на работе, просидела бы по–тихому дома. Если бы только мне хватило смелости самой пройти через все это. Если б только я не пошла обедать с Саймоном… что за бредовая идея, будто мне уж и нельзя самой порадоваться. Если б только прописанное врачом лекарство не обратило меня в маньячку, безумную. Если б только я весь вечер провела в постели, вместо того чтобы снова из дому выбраться… о чем, черт возьми, я думала: ужин с награждением — это ж последнее дело! Если б я только не пошла на эту вечеринку, не встретила Робби, не было бы у меня с собой косметички Ангел. Если б только, если бы только, если бы только. А теперь из–за меня одна из ярчайших молодых звезд страны лежит мертвый и посиневший в морге.
Когда в полиции сказали, что это был Роберто Монтейро, все наконец обрело смысл: почему люди пялились на меня, когда мы пошли ловить такси; почему он так хотел, чтоб мы остались дома, а не пошли куда–нибудь, где его узнали бы; почему он, казалось, так увлекся мною, понятия не имевшей, кто он такой, считая, что мне он, должно быть, понравился сам по себе; почему он был так богат, хотя и так молод. По мне, впрочем, он и не походил на футболиста: я полагала, что футболисты живут в загородных домах, похожих на помещичьи усадьбы, а не в квартирах в центре Лондона, и, пусть это и выглядит предубеждением, но он казался человеком куда большей культуры, в нем чувствовался джентльмен. Его сестра была, очевидно, моделью и, похоже, приятельницей модельера, поэтому он и оказался в клубе. Он был травмирован, восстанавливался после операции на колене, а потому и получил позволение выйти на люди в вечер пятницы. Знаю я об этом только потому, что слышала, как полицейский по имени Пит разговаривал с кем–то возле моей камеры и при этом едва не плакал, должно быть, болел за «Челси».
Я, конечно же, слышала о Роберто Монтейро, о нем все слышали, но футбол меня никогда не занимал и, как то ни глупо звучит, оказавшись на грани нервного срыва, я попросту не смогла сообразить, что это такое. Я едва не смеялась, впадала в истерику, в безумие, с ума сходила от своей глупости. Что такого Робби увидел во мне, хотела бы я знать? Что, все из–за того, что я просто не знала, кто он, или то было нечто большее? А что я в нем увидела? Только и всего, что он напомнил мне моего мужа? Полагаю, я никогда этого не пойму, и тут наворачиваются слезы, крупные, обильные слезы — по Робби, по его юности, по его будущности и его красоте, которым уже никогда не осуществиться, а это заставляет меня прокрутить в мыслях все остальное произошедшее. Сворачиваюсь в клубочек на мерзких нарах и желаю, чтоб весь мир отвалил от меня и катился себе куда подальше.
61
Соблазнив мужа своей сестры–близняшки, Кэролайн преисполнилась ощущением своего рода триумфа. Его она считала законной добычей, ведь что ни говори, а Эмили его бросила, а то, что Бен воспламенился желанием обладать ею, Кэролайн, столько бурно и всепоглощающе… что ж, в момент обоюдного для них экстаза это дало ей почувствовать себя могущественной, великолепной, испытать полнейшее торжество в растянувшемся на всю жизнь состязании с сестрицей. Сразу после этого, впрочем, он грубо ее отпихнул, вскочил и, прежде чем выбежать из комнаты, глянул на нее с таким отвращением, что она поняла, как глубоко его презрение: их соитие было актом ненависти, а не любви, и она ничего не добилась. Сердце ее сжималось, когда она наливала себе еще выпить, она понять не могла, отчего никто никогда ее не любил. Что в ней не так?
Кэролайн всю ночь пролежала на диване Бена и все напивалась, а утром на цыпочках поднялась к его комнате и долго смотрела на захлопнутую дверь, мысленно веля ему выйти. В споре с собой она решала, а не открыть ли самой, однако дверная ручка болталась так, будто того и гляди отвалится… В конце концов, осмыслив ситуацию получше, Кэролайн решила, что Бен и впрямь вчера ночью сильно перепугался, а потому развернулась на каблуках и, пошатываясь, вышла на улицу. Пройдя сотни полторы шагов до конца дороги, встала у винного магазинчика, плотно закрытые зеленые стальные шторки которого напоминали стиснутые зубы, и стала ждать у бровки, пока промчится мимо автобус. В конце концов, когда в движении на дороге появился разрыв, она перешла улицу и пошла по боковому проулку на противоположной стороне, не зная, что делать и куда идти. Уселась на ограду садика и, зарывшись лицом в жакет, зарыдала — громко, по–театральному, и так просидела минут, может, пять, пока проходившие мимо два парня в футболках болельщиков «Манчестер юнайтед» не бросили:
— Не куксись, милашка, а то ты на фанатку «Челси» смахиваешь. — А когда она недоуменно глянула на них, рассмеялись: — Что, не слышала? Роберто Монтейро умер.
62
Я часами сидела одна в своей камере, один на один с травящими душу мыслями, и вид скучающего полицейского каждые 15 минут отвлекал меня. В конце концов, думается, я задремала и пробудилась, только когда в окошко пропихнули еду. Мой тюремщик говорит, что доказательства все еще собираются, а потому какое–то время допрашивать меня не будут. Я виду не подаю, что слышала, что он говорит, не хочу казаться грубой, только мне наплевать, будут меня допрашивать или нет, мне без разницы, если я вообще больше никогда их этой камеры не выйду.
Еда, которую мне дают, супермаркетный полуфабрикат, лазанья, которую, должно быть, вынули из упаковки и разгрели в микроволновке. Я не ела со вчерашнего вечера, когда карри заказали, и, хотя больше не заинтересована в дальнейшем существовании, желудок по–прежнему требует свое, он урчит, а потому я ем несколько кусочков, которые оказываются вполне вкусными, и кончаю тем, что съедаю все, что слегка меня удивляет.
Мне выдали одну только пластиковую ложку, я явно не заслуживаю доверия для ножа с вилкой, а когда я заканчиваю есть, служащий в форме требует, чтобы вернула ему ложку, будто драгоценность какая, и я сую ее ему в окошко. Я опять ложусь, и в течение долгих часов ничего не происходит, если не считать, что в какой–то момент снаружи донеслись крики и ругань, послышалась какая–то тяжелая возня, а потом слышу, как хлопает дверь другой камеры и раздается чье–то жалостное визгливое завыванье, воет, должно быть, кто–то другой, не тот, кто прежде орал грозным басом, хотя я даже не представляю, на каком языке тот орал. Становится темно, я пользуюсь туалетом в углу камеры и даже в полутьме вижу, какой он заляпанный дерьмом и мерзкий, а потом опять укладываюсь и засыпаю.
Когда просыпаюсь, уже светло и разогретый в микроволновке завтрак мне пропихнули в окошко, я почти гадаю, а не спросить ли, что происходит и что дальше произойдет, но у меня такая вялость, такая апатия, что просто нет сил беспокоиться. Вместо этого сажусь и, пользуясь своим неподходящим орудием, проталкиваю еду в глотку, как младенец. Я еще не доела, как дверь открывается и молодой человек в очень чистых джинсах и отглаженной сорочке просит меня встать: меня готовы допрашивать. Должно быть, сегодня утро понедельника, мне бы на работе надо быть, там уже все собрались, говорят обо мне, ничто и никого, должно быть, так не обсуждали, как меня. Встаю и костями чувствую, что постарела. Полицейский просит следовать за ним и идет впереди меня по коридору, мимо других несчастных заключенных, кто–то причитает, кто–то ругается, молит выпустить на волю, говорит, мол, ему собаку покормить нужно. Мне жалко собаку: тоскует где–то, голодная, — и я от этого плачу.
Мысль о допросе в полиции через год после произошедшего — сущая мука, на самом деле, и я чувствую себя настолько виноватой (на этот раз перед Робби) и опустошенной, что с трудом ноги передвигаю, но изо всех сил стараюсь держаться, и мы проходим через какие–то двойные двери, идем по другому унылому коридору и входим в комнатушку без окон, где стоит стол, три стула из оранжевого пластика и большая старомодная пишущая машинка. Следователь велит мне сесть и сам садится на один из стульев за стол напротив меня, вид у него чересчур невинный, чересчур уж свежевыстиранный для такой обстановки.
Откидываюсь на спинку стула и вновь всматриваюсь в себя, словно все еще слежу за игрой актера, и такое восприятие лишает мои чувства страсти, я делаюсь отрешенно спокойной. Мы ждем. Долго? Может, с полминуты. Потом входит еще один служитель Фемиды в гражданском, на этот раз женщина, она садится — и начинается допрос. Хотя меня опять спрашивают, не нужен ли мне защитник, я (будь что будет) отвечаю «нет», сойдет и так, спасибо.
Отвечаю на все вопросы, которыми они расстреливают меня: про то, как я познакомилась с покойным, как попала в его квартиру, что мы делали в последние 36 часов. На мой взгляд, звучит это непристойно, грязно, и я хочу убедить их, что на самом деле все было совсем не так, было романтично, необыкновенно и ничуть не менее приятно, чем любое времяпрепровождение, в конце которого тебе суждено умереть. (Тут я начинаю хлюпать носом, и им приходится прервать допрос на несколько минут.) Когда я затихаю, меня спрашивают про наркотики, и я говорю, что они моей подруги и что мы их всего чуть–чуть попробовали, в этом месте меня останавливают и спрашивают: «Вы имеете в виду сообщить мне, что этим веществом мистера Монтейро снабдили вы?» И я отвечаю: да, получается, что так.
Хотя я и не желаю думать ни о чем об этом: какой смысл, этим его не вернешь, — они продолжают задавать мне вопросы: про то, кто такая эта моя подруга, как я с ней познакомилась, чем она на жизнь зарабатывает, каково ее полное имя и адрес, всякое такое. Слишком поздно я соображаю, что надо было бы сказать, что наркотики мои, но они на меня так давят, что я просто не соображаю, что еще сказать, а потому говорю им правду… и тут же огорчаюсь оттого, что теперь еще и на Ангел навлекла беду, втянула ее в эту сомнительную историю. Наконец допрос прекращается и меня ведут обратно в камеру. Мне не сообщают, что дальше будет, просто запирают дверь и оставляют в камере, так что я ложусь, на этот раз на спину, уставившись в потолок, пытаюсь разобраться в своих мыслях. Неужели они и впрямь думают, что я убила его? Неужели я убила его? Человек он взрослый, за наркотики взялся с охотой, так ведь было? Может, с наркотиком было что–то неладно? Наркотик ли убил его? Если так, то почему не умерла я? Теперь я расстраиваюсь из–за себя, из–за своей семьи, из–за позора, который вот–вот навлеку на родных, только больше всего я расстраиваюсь из–за Робби: он мертв, еще одна жизнь пошла прахом. Еще я горюю из–за того, что на этот раз жизнь моя и вправду кончена: из такого пути назад нет.
Даже не представляю, сколько сейчас времени. Один из служителей в форме открывает дверь камеры и вежливо просит пройти с ним, как будто мы в гостинице и он показывает мне мой номер, — должно быть, его только назначили, есть такое ощущение, приятное, если честно. Соскальзываю с грязных нар, сажусь на краешек, сильно свесив голову, словно могу запросто стряхнуть с себя мерзость и позор. Служитель терпеливо ждет и, когда я наконец встаю, ведет меня из камеры, потом по длинным холодным коридорам в еще одно помещение, возможно, в то, куда меня доставили первоначально, хотя для меня оно точно такое же, серое и зловещее. Тут меня дожидается еще один служащий в гражданском, который возглашает:
— Кэтрин Эмили Браун, настоящим я предъявляю вам обвинение в обладании наркотиком класса «А», а именно кокаином. Вы отпускаетесь под залог для участия в судебном разбирательстве магистрата и должны вернуться в день, когда вас вызовут.
Я недоуменно смотрю на него. Где же в его обвинении слово «убийство»? Что он имел в виду, говоря «отпускаетесь под залог»? У меня левая щека начинает дергаться, чего никогда раньше не было. Челюсть отвисает, я сознаю, что в своей тоненькой белой пижамке, с дергающимся лицом и угрюмым взглядом, отягощенным страданием, вид у меня такой, будто я просто ничего не поняла. А потому служащий делает еще одну попытку:
— Мисс Браун, я говорю вам о том, что вы свободны и можете идти.
Есть проблема: во что мне одеться. Мое великолепное зеленое платье пропало: его взяли в качестве вещественного доказательства и теперь, похоже, никто не знает, куда оно подевалось, хотя меня и уверяют, что рано или поздно оно объявится, — не то, чтобы это меня беспокоило, зато, по крайней мере, мне вернули мои туфли. Я не хочу уходить в выданной мне полицией пижаме, не хочу выглядеть как совершившая побег преступница, даже если и чувствую себя таковой, однако одежда, которую мне предлагают из отдела потерянных принадлежностей, пахнет отвратительно. В конце концов решаю, что белый наряд все же лучше всего — в сочетании с моими шпильками, поскольку я могу вызвать такси, приходится просить об этом в приемном отделении. Кнопку нажимают, звучит зуммер — и готово, меня выпускают. Я возвращаюсь по другую сторону барьера, на свободную сторону. Толпятся люди, вокруг оживленно, кто–то фотографирует меня. Я вздрагиваю, не от вспышки, а оттого, что там, в углу, постаревший и похудевший, бесконечно печальный, сидит мой муж.
Часть третья
63
Мир за окнами такси выглядит излишне ярким, излишне занятым, излишне оживленным, чтобы мой разум мог его вместить. Сижу сгорбившись, привалившись к окну, лицом к салону, перемещаюсь вместе с машиной и моим мужем из западного Лондона в северный.
Вид у меня неважнецкий, хотя на первый взгляд это не совсем так. Я всего лишь очередная отпущенная под залог молодая женщина, в белом полицейском облачении и в туфлях на шпильках. Вчера меня арестовали по подозрению в убийстве, однако, хотя в настоящее время я на свободе, я понимаю, что нахожусь в силках, как никогда. Такси вызывает унылое и зловещее чувство, невзирая на свежесть дня, солнечный свет за окошками, на очередное славное майское утро, как сказали бы по радио.
Забавно, до чего же легко (когда другого выбора нет) скользнуть обратно в былое свое существо, в старое свое имя. Бен по–прежнему называет меня Эмили, и я не забочусь поправлять его: какой резон пытаться быть Кэт Браун теперь, когда меня отыскали, теперь, когда меня принудили обратиться лицом к лицу с моим прошлым? Я не хотела уезжать вместе с Беном, но в то же время, если честно, отчаянно хотела этого. Когда увидела его ожидающим там, в полицейском участке, сердце у меня екнуло и провалилось в одно и то же время: екнуло — может, он все еще любит меня, провалилось — как ему простить меня за все, что я натворила?
Сижу тихонько в машине и жалею, что не могу испариться, улетучиться, как тающий призрак или возносящаяся душа, что приходится выдерживать разочарование и утрату во взгляде Бена, окончательную смерть последней частицы его любви ко мне. Бен сидит прямо, ничего не говорит, если не считать слов, произнесенных им в участке: «Здравствуй, Эмили, думаю, тебе лучше поехать со мной», — после чего он взял меня под локоток и осторожно, но уверенно провел через толпу поджидавших журналистов и усадил в такси. Когда рука его коснулась тонкого хлопка моей блузки, у меня все тело содрогнулось, будто мне всадили укол адреналина, будто жизнь моя, может, сызнова началась. Это странное иллюзорное ощущение, появившееся у меня со времени ареста, пропало, и я увидела себя четко и нелицеприятно впервые за эти дни, со времени накануне годовщины 6 мая, и увидела я под пеленой горя крохотный кусочек надежды.
Бен везет меня в маленькую гостиницу в Хэмпстеде, где он остановился прошлым вечером после того, как подбросил Чарли своим донельзя возмущенным, осуждающим родителям и первым же поездом, на который успевал, отправился в столицу найти меня, пока я снова не пропала.
Гостиница чистенькая и простенькая, с исправной обслугой, но создает впечатление слишком обыденной, чересчур бесхарактерной, чтобы служить фоном для нашего финала. Мне, конечно же, легче, что он не привез с собой Чарли, для щенка это было чересчур, однако, чувствую, мне до боли хочется увидеть его, взять на руки, потискать, сказать, как я сожалею, — и чем скорее, тем лучше.
Номер, куда мы поднимаемся, опрятно безлик, пуст, лишен нашей истории и, возможно, в общем–то не такое уж плохое это место. Бен предлагает мне принять душ, и я проделываю, что мне велено, а когда раздеваюсь, то осознаю, до чего же я грязная, от меня даже вонью несет. Душ будто стальными иглами впивается, я его включила на обжигающе горячий, секуще сильный, — этого я и заслуживаю. Из ванной выхожу распаренно–красная, застенчиво кутаясь в полотенце, впрочем, ничего другого прикрыться у меня нет. Бен, глядя мне в глаза, говорит, что сбегает в город и подберет мне что–нибудь, если я пообещаю лечь в нетронуто–белую постель и отдыхать, телевизор смотреть или еще что — делать что угодно, только не убегать, пока его нет. Я тоже смотрю ему прямо в глаза и даю слово, он какое–то время неловко возится возле двери, словно не знает, может ли на меня положиться, и наконец произносит тихо:
— Скоро увидимся, Эмили.
Малюсенький кусочек времени я все–таки прикидываю, не удрать ли мне, воспользовавшись шансом, но потом ложусь в постель, и сон уносит мое намерение.
Слышу твердый щелчок замка от вставленной карточки, тяжелая дверь раскрывается: Бен вернулся, хотя и кажется, что он только что ушел. Он принес кое–какую одежду, она подходит не Кэт, а Эмили, но мне как–то без разницы. Снова оборачиваюсь в полотенце (я все еще во власти глупой застенчивости) и иду в ванную, где Бен разложил все мои причиндалы, и когда выхожу оттуда, то выгляжу невинной и обновленной в темно–синих джинсах и белой хлопчатобумажной рубашке, хотя, по правде, джинсы немного тесноваты: я уже не такая тощая, как тогда, когда он видел меня в последний раз. Неловко присаживаюсь на кровать и смотрю на свои руки, на свои ногти, грязь из–под которых не вымылась даже под душем, смотрю на место, где было когда–то кольцо. Бен сидит за столом, и мы не знаем, что делать, как относиться к этому дальше. Есть столько всего сказать, только откуда нам знать, с чего начать? После продолжительных минут молчания, мучительной разобщенности Бен заводит разговор. И сразу берет быка за рога: тут не место болтовне вокруг да около.
— Эмили, тебе придется рассказать мне, что случилось в тот день. Я не хотел быть навязчивым, полагал, что ты сама расскажешь, когда время придет, но потом ты убежала и оставила меня. Расскажи об этом, тебе следует это сделать ради нас обоих, даже если тебе никогда больше не придется иметь дела со мной.
Гляжу на Бена и понимаю, что он прав: пусть меня и арестовали недавно по подозрению в убийстве, да еще человека знаменитого, тем не менее именно об этом нужно рассказать, уж слишком долго я держала это в себе. Я вижу в его глазах любовь, это придает мне храбрости, так что после еще нескольких тягостных минут зияющего молчания я наконец раскрываю рот и начинаю говорить.
64
15 месяцами ранее
Выбор в курином ряду был такой, что у Кэролайн глаза разбегались. Грудки, грудки без кожи, грудки на котлеты, бедрышки, крылышки, куриные ножки, белое мясо кубиками, куры пастбищные, куры, откормленные кукурузой, натуральные, целые тушки, четвертушки, молодые петушки, что бы под этим ни имелось в виду. Кэролайн в дрожь бросало, пока она ходила взад–вперед по проходу, мимо бледного мяса, сверкающего под блестящей упаковкой и щедрым освещением, — до самых касс и обратно. Теперь ей в точности было не вспомнить, что за рецепт предполагался, она просто записала: «Куры — 300 грамм», — сразу под луком и над сметаной. Под конец остановилась на грудках — без кожи, пастбищных, но не натуральных (у тех цены просто грабительские). Кэролайн методично следовала списку: молоко, сыр чеддер, козий сыр, йогурт.
Выбор был так громаден, что требовалась вечность, чтобы сообразить, чего ей надо, убедиться, что она взяла то, что требовалось, столько, сколько требовалось, и по самой выгодной цене (той, что значилась в рекламке) — все это выглядело словно охота за сокровищами. Она перебралась с тележкой в следующий ряд (томаты в банках, фасоль, кетчуп, приправы, макароны) и, сама себе удивляясь, нашла, что ей это доставляет удовольствие: толкать тележку, обходить за рядом ряд, сверяясь со списком, доказывая наконец–то, что при настоящих отношениях она — настоящая, а не опечаленная покупательница готовых блюд на одного едока или, того хуже, безнадежная анорексичка, не покупающая ничего, кроме фруктов, диетической кока–колы и жевательной резинки.
Часа через полтора она почти закончила. Добралась до последнего ряда, отдела напитков, и взяла упаковку пива для Билла и три бутылочки тоника для себя, радуясь, что сумела устоять перед рядами спиртного, к которому в последнее время так сильно пристрастилась. Теперь ее тележка была почти полна, она быстренько прикинула, во что это обойдется; впрочем, по правде говоря, это значения не имело, просто ей нравилось быть взрослой — и она сама себе нравилась такой. Дойдя до касс, она еще раз просмотрела список, проверяя, все ли взяла.
Сметана! Она забыла про сметану.
Черт, ругнулась она про себя, это ж обратно в самое начало переть, а сметана нужна для блюда из курицы. Острая колючка раздражения терзала ей основание шеи, где собиралась у нее вся напряженность, однако понемногу Кэролайн оправилась, пока прокатила тележку на длину двух футбольных полей, сохраняя на лице блаженную полуулыбку. Она вновь вернулась в тот отдел магазина, где температура стояла на несколько градусов ниже, и вновь ее била дрожь — и не только от холода. Когда не получилось отыскать вообще ничего даже близко похожего на сметану (одни сплошные шеренги йогурта, молока и сыров всех видов, над которыми она раньше намучилась), в шею еще глубже врезался осколок вспыльчивости, на этот раз войдя до самых лопаток. Наверняка ведь сметана должна быть где–то здесь? «Где же она?» Супермаркет настолько громаден, настолько полон всякой всячиной, какая только может понадобиться, но сейчас он подавлял, не доставляя больше удовольствия. Наклонившись к тележке, она высматривала кого–нибудь, у кого можно было спросить. Гусиная кожа отчетливо видна была на руках: надо выбираться из этого холодильного ряда, просто нелепо, в каком холоде здесь все содержится. Кэролайн водила взглядом по всей длине (как в соборе!) прохода: никого, — и тогда она оставила тележку и, повернув за угол, протопала мимо пирогов и пирожков до конца полок к мясному отделу.
Мужчина в толстой флисовой блузе сидел на низенькой табуретке и раскладывал упакованные куски ярко–красного мяса, до того яркого, что оно все еще казалось живым.
— Простите, — произнесла Кэролайн, не в силах сдержать в голосе нетерпения. Мужчина продолжал заниматься раскладкой.
— Простите, — выговорила она, уже громче.
Продавец поднял взгляд. Был он лыс, моложе, чем ей показалось, с темной козлиной бородкой, которая почти терялась среди мясистых щек, и маленьким ртом бантиком («на влагалище похож», — злобно подумала она).
— Не подскажете, где сметану найти?
— Ряд тридцать два, — буркнул мужчина, вновь переведя взор на свои куски мяса.
— А где ряд тридцать два?
Мужчина мотнул головой в сторону, откуда она только что пришла, и продолжал раскладку.
— Там я уже смотрела, — сказала Кэролайн. — Не будете ли вы любезны показать мне?
Продавец взглянул на нее, и на этот раз лицо его выражало открытую неприязнь, она даже подумала поначалу, что он ей откажет. Опершись о нижнюю полку, продавец оторвал свое жирное тело от табуретки, встал на ноги и неуклюже затопал за угол, как проснувшийся от спячки медведь. Махнул рукой куда–то в сторону и направился обратно к своим отборным филеям.
— Там я уже смотрела, — повторила Кэролайн и на этот раз уже не смогла сдержаться. — Почему б вам не перестать быть такой грубой и ленивой задницей и не помочь мне? Разве это не ваша работа?
Мужчина остановился:
— Мадам, если вы будет говорить со мной в таком тоне, я доложу своему начальству: к служащим нашего магазина требуется обращаться уважительно.
— Прекрасно, — завопила Кэролайн. — Иди и тащи сюда свое глупое начальство — я расскажу ему, какой ты ленивый невежественный мудак.
Она увидела, что другие покупатели, остановив свои тележки, глазеют на них обоих.
Мужчина ушел, направившись к кассам, и Кэролайн осталась со своей доверху груженной тележкой, но по–прежнему без сметаны, а все стояли и пялились на нее. Черт, и как она только позволила какой–то дряни вывести ее из себя? А ну как явится охранник и попросит ее удалиться? Как смел он ей угрожать?
Когда остальные покупатели снова пришли в движение, старательно держась от нее подальше, Кэролайн решилась. Бросив свою тележку прямо там, посреди ряда тридцать два, она проскочила мимо кассира, мимо касс со стороны выхода и выбежала наружу, в согревающее тепло раннего летнего дня. Дошла до машины и выехала со стоянки с таким бешеным ревом, что какая–то мамаша от греха подальше подхватила своего малыша на руки. Рыдая, вела она машину по шоссе обратно на север к Лидсу, бешено вжимая в пол то педаль газа, то педаль тормоза, а если проскакивала какой–то светофор, то вопила и молотила кулаком по дверце, пока не становилось больно.
Добравшись до дому, легла на диван и плакала, уткнувшись в дешевую черную кожу, пока в конце концов не перестала и не включила телевизор с «Обратным отсчетом», чтоб помог ей успокоиться до того, как домой придет Билл.
В тот вечер Кэролайн заказала доставку еды. Биллу она сказала, мол, извини, но дел оказалось слишком много и она не успела сгонять в супермаркет, как собиралась. Билл ответил, да ерунда, ему и китайская еда в радость.
Больше Кэролайн не ходила в крупные магазины. Отыскала супермаркет средних размеров в миленьком квартале Лидса всего в 15 минутах езды на машине от дома и покупала там. Выбор был не так разнообразен, что, по ее мнению, было хорошо: продукты, имевшиеся в наличии, были превосходны, обойти все ряды можно было за четверть времени, что надобилось бы в магазине покрупнее, и никогда не бывало так холодно, как там. Она поняла, что, замерзая, начинала нервничать, это напомнило ей, как она себя в 15 лет чувствовала, когда весила меньше шести стоунов[26] и никак не могла согреться. Может, именно из–за этого она в тот день и завелась в молочном отделе. Случайность, всего один разок, уверяла она себя.
В те дни Кэролайн, уже разлюбившая делать покупки, тем не менее готовила с удовольствием. Купила несколько поваренных книг и приходила в неожиданный восторг, когда к возвращению Билла с работы успевала сделать чай. Выходило так, будто ее успехи с едой воздавались им обоим, и она все больше и больше любила готовить самые роскошные блюда — чем сытнее, тем лучше. Билл иногда спрашивал ее, отчего себе она кладет совсем мало или почему не притрагивается к шоколадным профитролям, над которыми корпела, как раба, но она тут же уходила в защиту, так что в конце концов он перестал спрашивать.
В пятницу накануне дня рождения Билла она с утра наведалась за еженедельными закупками в магазин и готовила бефстроганов, на десерт к чаю — баноффи, пирог из песочного теста с бананами и вареной сгущенкой. Она обожала приготовить в пятницу что–нибудь особенное: Билл обычно приходил домой часам к четырем, можно было поесть пораньше, угнездиться на диване и посмотреть какой–нибудь фильм. Порой ей самой не верилось, до чего круто изменилась ее жизнь, как на смену хаосу с кризисами и драмами пришла более размеренная жизнь, исполненная домоседства. То правда, что нынешний ее дружок не был таким модным и броским, как ее прежние, а в красоте он далеко уступал ее почти жениху Доминику, зато он был добрым надежным мужчиной, который любил ее, а в наше время этого вполне достаточно. Она покончила с мелодрамой, была счастлива в крохотной каморке, где они вместе жили, с ее заново отделанной кухней, соединенными воедино комнатами и газовой горелкой под настоящий камин. Она была занята неполный рабочий день в магазине дизайнерской одежды в центре города, ладно, что говорить, деньги были небольшие, совсем не такие, как когда–то, работа не давала даже того, что было у нее в Манчестере, но пока — хватало. Их с Биллом, прямо скажем, к зажиточным не причислишь, но они могли себе позволить выбраться куда–нибудь из дому, стоило только захотеть, а время от времени и отправиться куда–нибудь в поездку на выходные.
И уж во всяком случае такой более спокойный образ жизни давал ей большую возможность забеременеть, правда, она пока еще не нашла времени посвятить Билла в свои планы. Кэролайн улыбнулась про себя.
Звяканье ключа и хлопанье входной двери она услышала, когда, растянувшись на диване, смотрела телешоу «По рукам или нет?» (Она пугающе пристрастилась к этой телевизионной игре. По–видимому, у нее всегда была потребность пристраститься к чему бы то ни было, и если теперь она страстно отдавалась приготовлению обремененных калориями блюд в духе семидесятых годов и просмотру бессмысленно ерундовых игровых шоу, то уж, разумеется, это было лучше ее прежних пороков.) Она убавила немного звук в телевизоре, услышала двойной стук сброшенных им ботинок, шуршание его куртки и шаги его ног по ступенькам, долгий плещущий звук в ванной, спуск воды в унитазе, включение насоса, подававшего воду в краны.
Обычно он просовывал голову в дверь, чтобы послать ей поцелуй, но, должно быть, в туалет не терпелось. От, чтоб тебя! Только что игрок не выбрал «По рукам» и упустил куш в 38 000 фунтов, а теперь он лишился приза в 25 000 фунтов. Вот придурок, подумала она, теперь почти наверняка в убытке останется, не понимает, что ли, что это чистая игра случая? Она повернула голову и улыбнулась наконец–то появившемуся в комнате Биллу.
— Привет, милый, — сказала она
— Здравствуй, — произнес Билл и нагнулся чмокнуть ее. Рука Кэролайн змеей обвилась вокруг его шеи, но Билл выпрямился, говоря: — Я устал, милая. Как день прошел?
— Прекрасно, — ответила Кэролайн. — Потратила 76,38 фунта в супермаркете, понемногу все лучше управляюсь с финансами. Ужин будет готов в пять… у нас будет кое–что из твоего любимого.
Билл уселся в большое удобное кресло, хотя обычно садился в конце дивана, чтоб Кэролайн могла положить ему ноги на колени, пока они вместе досматривали последние минуты телеигры. Он устал, подумала она, неделя была долгой. Билл взялся за газету.
— Ты разве не смотришь? Так прямо и захватывает.
— Не-а, говоря по совести, немного поднаскучило.
Кэролайн пожала плечами.
— Утром Эмили звонила. Пригласила нас на крестины, на 6 июня, сказала, мол, лучше с этим управиться до того, как у него голос прорежется. — И она засмеялась.
— О’кей, — кивнул Билл и продолжил чтение.
Глядя на него, Кэролайн опять подумала, как же здорово, что ей есть кого взять с собой на крещение племянника, того, кто надежен и прост в общении, кто не устроит никаких сцен. Да и в костюме он выглядит вполне прилично… хотя она успела заметить, что он малость в талии раздался, наверное, она его перекармливает. Билл был мужчина почти симпатичный: обычные черты, все на своем месте, внушительная фигура, — вот только волосы немного редеют да голова чуть–чуть великовата для его тела. Зато он умел носить одежду, понимал в ней толк: через то они и познакомились, он наведывался в магазин, где работала Кэролайн. Его открытость в любовании ею, жалкая поначалу, вскоре стала лестной, и когда в конце концов он пригласил ее выпить чего–нибудь вместе, она вдруг услышала, как говорит в ответ: да, можно и вместе. Тот первый вечер был скорее приятным, нежели увлекательным, но она согласилась еще на один (во всяком случае, никого другого на ее горизонте видно не было), а скоро они уже спали вместе, и, к ее удивлению, в этом отношении он был потрясающим. Она все чаще и чаще оставалась у него дома, который он заново отделал своими руками, а вскоре и вовсе купила себе новую зубную щетку, перенесла кое–что из одежды и почти совсем не наведывалась домой. Ее последний терапевт советовал ей принимать людей такими, каковы они есть, и этот совет она приняла, как приняла далекую от совершенства внешность Билла, его рьяную любовь к ней и их совместную жизнь. В кои–то веки она впервые была по–настоящему, ощутимо счастлива — тут она была совершенно уверена.
— Десять фунтов… вот полная разиня! Мог бы тридцать восемь штук получить! — выкрикнула она.
Билл посмотрел на Кэролайн и сказал:
— Не пойму, зачем ты эту фигню смотришь.
— Это часть моей повседневной жизни, — отозвалась она, все еще не поворачивая к нему головы и удивляясь себе самой. — Знаю, что толку в этом нет, но просто не могу с собой ничего поделать. Иду рис готовить — ужин будет через десять минут.
Под взглядом Билла она перекинула свои бесконечно длинные ноги с дивана. Потом он выключил телевизор и закрыл глаза.
Кэролайн уже накрыла на стол: серые продолговатые подстилки с круглыми, серебристыми, сверху, столовые приборы в тех же тонах. Она собралась было свечу зажечь, но что–то остановило ее: Билл, кажется, не в том настроении, а кроме того, вечера теперь стояли светлые и в комнате было совсем не темно. Кэролайн налила Биллу пива и себе тоника со льдом и лимоном. Тогда она пила тоник в огромном количестве, воспринимала его почти как настоящую выпивку — и, похоже, помогало, так или иначе. Билл сел за стол, и она подала ему бефстроганов.
— Спасибо, на вид — обалденно.
Пока они ели, молчание за столом выдавало какую–то неловкость, Кэролайн, что было ей вовсе не свойственно, никак не могла придумать, о чем еще поговорить. Она встала, включила радио, и они слушали в исполнении плохонького оркестра какую–то простенькую песенку и еще незнакомую балладу Майкла Джексона. Билл, встав, чтобы очистить тарелку, сказал:
— Между прочим, я обещал вечерком заглянуть к Терри и Сью, чего–то у них до сих пор с бойлером не ладится.
— Я думала, ты уже наладил его, нет?
— Контрольная лампочка все время отключается, вот им и приходится то и дело ее снова включать, а это хлопотно. Я ненадолго.
— Ладно, тебе какое кино хочется посмотреть потом?
— Все равно — подбери что–нибудь. Уж лучше мне наладить этот бойлер, чтоб под ногами не путался и отдыхать не мешал. Мы еще увидимся. — Он небрежно тиснул ее идеальную попку и ушел.
Сью с Терри жили по соседству. Сью громка и весела донельзя и всегда носит одно и то же: легинсы со свободной кружевной блузкой, в вырезе которой видна ее непомерная грудь, — девка, да и только. Волосы у нее стрижены коротко, фигура лишена пропорций: туловище массивное, а ноги и голова — ужасно крохотные. Терри тоже здорово продвинулся по пути к ожирению, зато оба их мальчишки росли крепкими, а не толстыми и были всецело помешаны на футболе, Терри всегда провожал их на тренировочные матчи; как уверял Билл, он был пробивным папашей. Прежде Кэролайн такие, как Сью, не попадались: громкие, с излишками веса, с нехваткой образования, — она едва здоровалась с нею, когда встречала на улице, и полагала, что Сью пустила слух про то, какая она, Кэролайн, задавака, поскольку никто из соседей по–дружески к ней не относился. Когда появлялись проблески мыслей о том, что она делает здесь, живя с таким человеком, как Билл, и имея соседями Сью с Терри, Кэролайн решительно гнала их прочь. Она здорово умела жить наперекор.
Она была счастлива.
Кэролайн, обеспокоенная, лежала в постели, Билл легонько похрапывал рядом. Было пять часов утра, а ей не спалось. В полусвете разглядывала она бледные унылые стены, занавески с полосками поперек, которые, она знала, при дневном свете были темно–голубыми и цвета морской волны (просто изнанка кричащей пестроты), деревенский гардероб и в который уже раз недоумевала, как это она оказалась здесь, в этом доме, в этой жизни. Она перекатилась на живот, но от этого ребрам стало больно, невзирая на мягкость матраса, а потому она села, включила лампочку на тумбочке у кровати, отведя свет подальше от глаз Билла, и тот, хоть и поворочался немного, но не проснулся. Она смотрела на него, спящего, на его широкую волосатую грудь, что вздымалась и опадала, словно сбитое с ног самостоятельное животное, никак не связанное с его симпатичным квадратным лицом… а потом отвернулась, потянувшись за упавшей с постели книгой. Вот уже больше шести месяцев она открыто жила с Биллом, и ей было хорошо, он вызвал в ней самое лучшее, что в ней только было, успокоил ее. В остальной ее жизни все тоже было о’кей: работа ей нравилась, у нее появились новые друзья, — и все же что–то тяготило ее, и она никак не могла понять, что именно. Поддается ли она этой жизни потому, что Билл был именно тем, в ком она по–настоящему нуждалась, или потому, что оказалась там, где ей оказаться надлежало, или потому, что она почувствовала: пришло время угомониться, — а он тут как раз и подвернулся? Собственное страстное желание иметь ребенка удивило ее — как и ее ничем не омраченная любовь к своему единственному племяннику, там, за Пеннинами, в Манчестере.
Положим, Кэролайн понимала, что вела себя как последняя сучка, когда Эмили ходила беременной, но удивительное дело: вся ее горечь, вся зависть разом исчезли, стоило только родиться ребенку, — он был чист, совершенно безгрешен и очарователен. Этому дитя удалось внушить ей чувство большей близости к своей сестре–близняшке, большей тяги к тому, чем обладала Эмили, он подвиг ее, Кэролайн, ощутить, что жизнь способна стать нормальной и она, наверное, могла бы жить такой же обыкновенной радостной жизнью, какой живут другие люди. Теперь она даже стала температуру в табличку записывать, хотя еще не очень–то откровенничала с Биллом, и всегда стремилась быть более всего желанной точно в нужное время. Порой ее беспокоило, что Билл как–то сник: в последнее время он, казалось, с меньшим пылом относился к сексу, возможно, у мужчин есть встроенный радар, улавливающий скрытые внутренние мотивы. Они вели разговоры о том, чтобы сделаться семьей, подбадривала себя Кэролайн, по сути, именно Билл и предлагал это, но сейчас, лежа в постели, она припомнила, что он уже давненько ни о чем таком не заговаривал. Кэролайн была уверена, стоит этому случиться, он возражать не станет, стоит только внутри ее начать расти ребенку — не станет.
Билл по–прежнему спал, и она снова принялась разглядывать его, заметила ямочку у него на подбородке, длинную и резкую тень, отброшенную сведенным в узкий луч светом миниатюрной лампы, доброту вокруг глаз. Ну и что, что он храпит, — к этому она привыкла. Она потянулась к нему, обернулась телом вокруг его дарующего утешение торса и, хотя он забурчал и наполовину столкнул ее, все же удержалась на нем, пока сама не задремала.
Звонок в дверь раздался сразу после того, как Билл ушел на работу, а Кэролайн была уже на ногах и пила вторую чашку кофе. Наверное, почтальон, подумала она (кто же еще может прийти в такую рань?) и, когда открыла дверь, удивилась, увидев своего соседа Терри.
— Да? — выговорила она.
— Могу я войти?
— Билла нет дома.
— Знаю, я с вами хочу поговорить.
Кэролайн ощутила беспокойство. Терри выглядел ужасно, что могло бы случиться, чтоб ему захотелось о чем–то с нею поговорить? Пришло раздражение: ей надо голову помыть, а потом целую вечность волосы феном сушить, они уже такими длинными отросли.
— Что ж, заходите, — сказала она и повела его прямо на кухню. Выпить не предлагала: не хотела затягивать его визит, говорить же им друг с другом было не о чем.
Терри подтянул стул, уселся на него своим громадным задом наискосок от стола, выглядел он как–то подозрительно, словно бы собирался какую–то тайну открыть. Он буравил ее глазами, но она так ничего и не поняла.
— Ну?
— Вам известно, что ваш Билл шашни крутит с моей женой? — выговорил он наконец.
Кэролайн взглянула по пожухший кактус на подоконнике позади широко распростершегося силуэта Терри. Растению нужна вода, подумала она, оно гибнет. А вслух спросила:
— Что вы имеете в виду?
— В точности то, что сказал. Ваш Билл и моя Сью — у них роман.
Кэролайн настолько опешила, что силилась отыскать хоть какие–то чувства. Первым, какое нагрянуло, было отвращение. Как мог он спать с этим китом в обличье женщины, при ее–то толстенных слоях жира, свисающих, словно украшения из плоти, вокруг ее шеи и с запястий, при ее жуткой ходуном ходящей груди? Вторым возникло чувство неполноценности: что, если она со своим худющим телом и грудью супермодели всего лишь противоположность тому, чем обладала Сью? Третьим — замешательство: как, когда, где?
И тут она припомнила про бойлер, про подтекающий кран и неисправную духовку и впервые сообразила, что всегда это случалось вечерами по пятницам, после того, как они ужинали, но перед тем, как вместе смотрели кино и — в зависимости от показаний ее таблицы — даже сами сексом занимались.
— Кэролайн? — всполошился Терри. — С вами все в порядке? Вот, присядьте–ка.
— Где вы проводите вечера по пятницам? Где вы и где дети?
— Мы на футбольных тренировках, раньше восьми не возвращаемся. Тогда–то оно и происходило, а иногда еще и по утрам, если верить Сью.
Все казалось таким очевидным теперь, да только у Кэролайн никогда и тени сомнения не возникало, потому как она и представить не могла, чтоб хоть кто–то счел Сью привлекательной, не говоря уж о Билле. Теперь ей припомнились искристые глаза Сью, ее миловидное толстое лицо, ее заразительный смех — и она пришла в ярость. Билл знал, что она никогда не разговаривала с соседями, если могла без того обойтись, ей и в голову не приходило никогда спросить у Терри, как у него бойлер работает, будто это ее заботило. Ему все сходило с рук — прямо по соседству, прямо у нее под идеально вздернутым носиком.
Слушать дальше для Кэролайн было невыносимо. Она пошла к двери. Терри поднялся и пошагал за нею, будто их невидимой нитью связало, до самого выхода.
— Вам сейчас лучше уйти, — выговорила она громким резким голосом.