Проклятие королей Грегори Филиппа
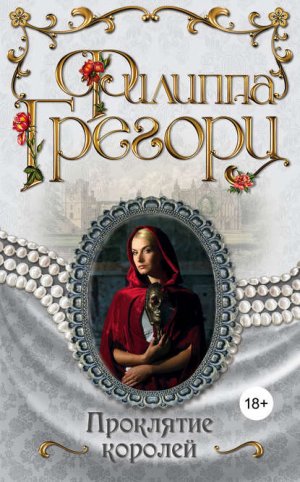
– Джеффри говорил с Джоном Стоуксли, епископом Лондонским, только вчера. Кромвель спросил его, может ли король на законных основаниях оставить Болейн.
– Оставить ее на законных основаниях? – повторяю я. – Что это вообще значит? И что ответил епископ?
Монтегю издает смешок.
– Он не дурак. Он хотел бы падения Болейнов, но сказал, что сообщит свое мнение только королю лично и только если будет уверен, что именно тот хочет услышать.
– А кто-нибудь из нас знает, что он хочет услышать?
Монтегю качает головой:
– Свидетельства противоречивы. С одной стороны, он созвал парламент и заседание совета. И Кромвель явно строит козни против Болейнов. Но король заставил испанского посла поклониться ей, как королеве, впервые за все это время, так что нет, мы не знаем.
– Тогда подождем до тех пор, пока узнаем.
Я задумчиво стягиваю перчатки для верховой езды и вешаю их на подлокотник кресла. Протягиваю руки к огню.
– Так чего от нас хочет Кромвель? За ним ведь сейчас должок, мой приорат, и я не испытываю к нему теплых чувств.
– Он хочет, чтобы мы пообещали, что Реджинальд не станет писать против него и побуждать Папу к действиям против короля.
Я хмурюсь.
– С чего это его так заботит доброе мнение Реджинальда?
– Реджинальд говорит от имени Папы.
– А Кромвель живет в ужасе, и король живет в ужасе, что Папа отлучит их обоих, и никто не станет повиноваться их приказам.
– Кромвелю нужно, чтобы мы его поддержали, для его же безопасности, – продолжает Монтегю. – Король говорит за завтраком одно, а за обедом сам себе противоречит. Кромвель не хочет, чтобы с ним сталось то же, что с Уолси. Если он добьется падения Анны, как Уолси добился падения Катерины, то хочет быть уверен, что все скажут королю, что это богоугодное дело.
– Если он добьется падения Анны и спасет нашу принцессу, мы его поддержим, – неохотно говорю я. – Но он должен посоветовать королю вернуться под руку Рима. Он должен восстановить церковь. Мы не можем жить в Англии без монастырей.
– Когда не будет Анны, король заключит союз с Испанией и вернет церковь под начало Рима, – предсказывает Монтегю.
– И Кромвель ему это посоветует? – недоверчиво спрашиваю я. – Он вдруг сделался преданным папистом?
– Он не хочет, чтобы обнародовали Буллу об отлучении, – тихо говорит Монтегю. – Он знает, что это погубит короля. Хочет, чтобы мы молчали и проложили дорогу, которой король вернется к Риму.
На мгновение меня охватывает радость, которую испытываешь, получив наконец какую-то ставку в игре, какую-то силу. С тех пор как Томас Кромвель стал советником короля и подсказал ему предать нашу королеву и отнять все у нашей принцессы, мы пытались перекричать бурю. Теперь, похоже, погода меняется.
– Ему нужна наша дружба, чтобы противостоять Болейнам, – говорит Монтегю. – А Сеймуры хотят, чтобы мы поддержали Джейн.
– Она – новая возлюбленная короля? – спрашиваю я. – Они действительно думают, что он на ней женится?
– После Анны она, должно быть, точно бальзам, – замечает Монтегю.
– И что, он снова влюблен?
Монтегю кивает:
– Он от нее без ума. Думает, что она тихая деревенская девушка, застенчивая, ничего не знающая. Считает, что ее не интересует то, чем заняты мужчины. Смотрит на ее семью и думает, что она окажется плодовитой.
Молодая женщина, у которой пятеро братьев.
– Но он же не может думать, что она – лучшая женщина при дворе, – возражаю я. – Он всегда хотел все самое лучшее. Он не может считать, что Джейн затмевает всех прочих.
– Нет, он переменился. Она не лучшая, далеко нет, но она восхищается им больше прочих, – говорит Монтегю. – Это его новая точка отсчета. Ему нравится, как она на него смотрит.
– А как она на него смотрит?
– Благоговейно.
Я обдумываю услышанное. Понятно, что королю, который только что был поражен мыслью о своей смертности, когда пролежал несколько часов без сознания, который столкнулся с тем, что может умереть, не оставив наследника мужского пола, это обожание со стороны чистой деревенской девочки может принести некоторое облегчение.
– И что же?
– Сегодня я обедаю с Кромвелем и Генри Куртене. Мне сказать ему, что мы с ним против Анны?
Я вспоминаю об огромной недавно обретенной власти Болейнов и богатстве Говардов и думаю, что, несмотря на это, мы сможем их одолеть.
– Да, – говорю я. – Но скажи ему, что за это мы хотим восстановления прав принцессы и аббатств. Мы сохраним отлучение в тайне, но король должен вернуться к Риму.
Монтегю возвращается с обеда с Кромвелем на заплетающихся ногах, он так пьян, что едва стоит. Я уже легла, и он стучится ко мне и просит позволения войти, а когда я открываю дверь, останавливается на пороге и говорит, что не хочет навязываться.
– Сын! – с улыбкой говорю я. – Ты пьян, как конюх.
– У Томаса Кромвеля голова железная, – с сожалением отвечает он.
– Надеюсь, ты не сказал ничего, кроме того, о чем мы договорились.
Монтегю прислоняется к косяку и тяжело вздыхает. В лицо мне ударяет теплый запах эля, вина и, по-моему, бренди, поскольку у Кромвеля необычные вкусы.
– Иди ложись, – говорю я. – Утром тебя будет тошнить, как щенка.
Он удивленно качает головой.
– Голова у него железная, – повторяет он. – Железная голова и сердце, как наковальня. Знаешь, что он затеял?
– Нет.
– Он подрядил ее собственного дядю, ее дядю, Томаса Говарда, собирать свидетельства против нее. Томас Говард будет искать свидетельства против этого брака. Он будет опрашивать свидетелей против собственной племянницы.
– Железные люди, каменные сердца. А что с принцессой Марией?
Монтегю бестолково кивает.
– Я не забыл о вашей любви к ней, я никогда не забываю, леди матушка. Я сразу об этом сказал. Я ему сразу напомнил.
– И что он ответил? – спрашиваю я, борясь с желанием окунуть своего пьяного сына головой в ведро ледяной воды.
– Сказал, что у нее будет подобающий двор и свита и ее будут чтить в новом доме. Ее объявят законной. Ей все вернут. Она будет при дворе. Королева Джейн будет ее другом.
Я едва не закашливаюсь, услышав новое имя.
– Королева Джейн?
Он кивает:
– Невероятно, да?
– Ты уверен?
– Кромвель уверен.
Я тянусь к нему, забыв про запах вина, бренди и пряного эля. Глажу по щеке, а он мне улыбается.
– Молодец. Хорошо, – говорю я. – Может быть, все это кончится хорошо. И это ведь не просто Кромвель отпускает хлеб по водам? Это воля короля?
– Кромвель ничего и не делает, кроме как по воле короля, – уверенно произносит Монтегю. – В этом можешь не сомневаться. И сейчас король хочет, чтобы принцессе все вернули, а этой Болейн не было.
– Аминь, – говорю я, бережно выталкивая Монтегю за дверь своих личных покоев, где дожидаются его люди. – Уложите его, – велю я. – И дайте проспаться.
С этой тайной в сердце, внезапно исполнившись надежды, я еду навестить кузину Гертруду Куртене в ее лондонском доме, в Паунтни. Ее муж Генри при дворе, готовится к турниру в честь Майского праздника, Монтегю тоже должен остаться при дворе. После турнира все отправятся на пышный праздник, который устраивает во Франции король Франциск. Что бы ни замышлял Кромвель против Болейн, он не торопится, и нет способа приблизить дружбу с Испанией или возвращение к Риму. Поскольку Томасу Кромвелю я верю не больше, чем любому наемнику, что шляется по борделям Патни, я думаю, что он очень даже может играть за обе стороны сразу, за Болейн и Францию против моей принцессы Марии и Испании, пока не поймет точно, кто выигрывает.
Кузину Гертруду разрывает от желания посплетничать. Она вцепляется в меня, едва я спешиваюсь и захожу в холл.
– Идем, – говорит она. – Идем в сад, я хочу поговорить с тобой там, где нас не подслушают.
Я со смехом следую за ней.
– Что такого срочного?
Как только она поворачивается, чтобы заговорить, мой смех иссякает, такое у нее серьезное лицо.
– Гертруда?
– Король говорил с моим мужем с глазу на глаз, – говорит она. – Я не посмела тебе об этом писать. Говорил после того, как его наложница потеряла ребенка. Сказал, что теперь понимает, что Господь не даст ему от нее сына.
– Я знаю, – отвечаю я. – Я тоже об этом слышала. Даже в деревне я об этом слышала. Все при дворе, наверное, знают, а раз все знают, то не иначе король и Кромвель хотят, чтобы все знали.
– А вот чего ты не слышала: он говорит, что она соблазнила его колдовством, что поэтому у них и не будет сына.
Я поражена.
– Колдовством?
Я понижаю голос, повторяя это опасное слово. Обвинить женщину в колдовстве все равно что приговорить ее к смерти – какая женщина сможет доказать, что несчастье не ее рук дело? Если кто-то скажет, что его сглазили или заколдовали, как доказать, что этого не было? Если король говорит, что его околдовали, кто ему скажет, что он ошибается?
– Помилуй ее Господи! Что ответил кузен Генри?
– Ничего. От изумления не мог говорить. К тому же что ему было говорить? Мы все думали, что она свела его с ума, все считали, что она всех вокруг сводит с ума, он был не в себе, как помешанный, так кто скажет, что это не было колдовством?
– Мы видели, что она вертит им как хочет, – раздраженно отвечаю я. – Никакой тайны в этом не было, никакого волшебства. Ты не понимаешь, что Джейн Сеймур подталкивают к той же игре? Шаг вперед, шаг назад, почти соблазнилась – и тут же отпрянула? Мы разве не видели, как король сходил с ума по десятку женщин? Это не волшебство, это то, как ведет себя любая потаскуха, если у нее есть капля ума. Разница в том, что Болейн была смышленее прочих, за ней стояла семья, – а королева, Господь ее благослови, старела и не могла больше иметь детей.
– Да, – одумывается Гертруда. – Да, ты права. Но все же, если король думает, что его околдовали, если король считает ее ведьмой и полагает, что этим объясняются ее выкидыши, – это все, что имеет значение.
– И что еще имеет значение, так это как он собирается в связи с этим поступить, – говорю я.
– Он ее оставит, – с торжеством произносит Гертруда. – Обвинит ее во всем и оставит. А мы, и Кромвель, и все, кто к нам близок, поможем ему это сделать.
– Как? – спрашиваю я. – Именно над этим Монтегю сейчас трудится с Кромвелем, Кэрью и Сеймуром.
Она улыбается.
– Не они одни, – замечает она. – Десятки других людей. И нам даже не придется действовать самим. Этот дьявол Кромвель все за нас сделает.
Я остаюсь отобедать с Гертрудой и осталась бы еще на дольше, но днем за мной является один из людей Монтегю и просит меня вернуться в Л’Эрбер.
– Что случилось?
Гертруда выходит со мной во двор конюшни, где стоит под седлом моя лошадь, готовая к отъезду.
– Не знаю, – отвечаю я.
– Но ведь нам ничто не угрожает? – осведомляется она, вспоминая наш тайный тост за обедом: за падение Анны и за то, чтобы король пришел в себя и назвал принцессу Марию своей единственной истинной наследницей.
– Не думаю, – говорю я. – Монтегю бы меня предупредил. – Думаю, у него для меня есть работа. Возможно, мы наконец-то начали брать верх.
Монтегю меряет шагами нашу личную часовню, словно хочет бежать на побережье, к услужливому шкиперу в Грейз и уплыть к брату Реджинальду.
– Он сошел с ума, – шепотом произносит Монтегю. – Думаю, теперь он на самом деле сошел с ума. Все в опасности, никто не знает, что он сделает в следующее мгновение.
Меня поражает эта внезапная перемена. Я откладываю плащ и беру сына за руки.
– Успокойся. Рассказывай.
– Ты ничего не слышала на улицах?
– Ничего. Некоторые меня приветствовали, когда я ехала, но по большей части было тихо…
– Потому что в это поверить невозможно! Он!.. – Монтегю прижимает ладонь к губам и оглядывается.
В часовне нет никого, кроме нас, пламя свечей то подрастает, то опадает, никто тихонько не открывал и не закрывал дверь, пламя не трепещет. Мы одни.
Монтегю поворачивается и опускается рядом со мной на колени. Я вижу, как он бледен, как дрожит, как подавлен.
– Он велел арестовать Анну Болейн за прелюбодеяние, – выдыхает он. – И мужчин из ее свиты, за то, что хранили ее тайны. Мы не знаем скольких. Мы так и не узнали кого.
– «Скольких»? – не в силах поверить я. – Ты о чем это, «скольких»?
Он вскидывает руки.
– Знаю! Зачем ему обвинять больше одного, даже если у нее в постели побывали десятки? Зачем допускать, чтобы о таком узнали? И зачем ему выдумывать такую невероятную ложь, если он может просто оставить ее, не говоря ни слова! Арестовали Томаса Уайетта, Генри Норриса, а еще мальчишку, который поет у нее в покоях, и ее собственного брата.
Он смотрит на меня.
– Ты его знаешь! Что у него на уме? Зачем он это делает?
– Погоди, – говорю я. – Я не понимаю.
Я пододвигаю стул священника и опускаюсь на него, потому что у меня подкашиваются ноги. Я думаю, что слишком стара для этого, мне уже не так легко даются подозрения и выводы. Король Генрих меня опережает, чего никогда не случалось с принцем Генрихом. Потому что принц Генрих был смышлен и умен, но король Генрих скор и хитер, как безумец; его решимость неудержима.
Монтегю медленно повторяет имена, упоминая еще нескольких мужчин, которых недосчитались при дворе.
– Кромвель говорит, что она родила чудовище, – продолжает мой сын. – Словно это все подтверждает.
– Чудовище? – глупо повторяю я.
– Не мертвого ребенка. Какое-то пресмыкающееся.
Я смотрю на сына в немом ужасе.
– Господи, как же Томас Кромвель находит грех и содомию всюду, куда бы ни посмотрел! В моем приорате, в спальне королевы. Что у него за ум. Что за голоса он слышит в молитвах?
– Важнее ум короля. – Монтегю кладет руки мне на колени и смотрит на меня снизу вверх, словно я по-прежнему его всемогущая мама и могу все исправить. – Кромвель делает лишь то, что скажет вслух король. Он будет судить ее за прелюбодеяние.
– Судить за прелюбодеяние? Свою собственную жену?
– И, Боже помоги мне, я – один из присяжных.
– Ты присяжный?
– Мы договорились! – Он вскакивает на ноги и ревет. – Все, кто встречался с Кромвелем, кто сказал, что поможет ему признать брак недействительным, призваны на суд. Мы думали, что речь об освобождении короля от недействительного брачного обета. Думали, что рассмотрим законность этого брака и признаем его недействительным. А не об этом! Не об этом!
– Он судит свой брак? Он его признает недействительным? – спрашиваю я. – Как попытался сделать с королевой?
– Нет, нет, нет! Ты меня не слышишь? Суд не по поводу брака, он судит эту женщину. Он собирается судить ее за прелюбодеяние. И ее брата, и еще несколько человек, Бог знает кого, Бог знает, сколько их. Бог знает, может быть, среди них наши друзья и родственники. И уж точно только Богу ведомо, зачем!
– Кто-нибудь из наших? – поспешно спрашиваю я. – Среди них нет членов нашей семьи или тех, кто с нами? Сторонников принцессы?
– Нет. Насколько я знаю. Никого еще не арестовали. Это и странно. Все, кого недосчитались, из партии Болейнов, они целый день вьются в ее покоях.
Монтегю строит гримаску.
– Ты их знаешь. Норрис, Бреретон…
– Те, кого не любит Кромвель, – замечаю я. – Но мальчика-лютниста зачем?
– Не знаю! – Монтегю трет лицо ладонями. – Его взяли первым. Может быть, потому, что Кромвель может его пытать, пока он не сознается? Пока не назовет других? Не произнесет имена, которые нужны Кромвелю?
– Пытать? – повторяю я. – Пытать его? Король прибегает к пыткам? Пытать мальчика? Маленького музыканта?
Монтегю смотрит на меня, словно страна, которую мы знали и любили, наше наследие, прямо из-под наших ног валится в ад.
– А я согласился стать присяжным, – говорит он.
Не только мой сын Монтегю, но еще двадцать пять пэров королевства вынуждены присутствовать на суде над женщиной, которую называли королевой. Председательствует в суде ее дядя, с мрачным лицом наблюдающий за падением той, кого подтолкнул к трону и она стала ненавистной ему королевой. Возле него ее бывший любовник, Генри Перси, трясущийся от старости, бормочущий, что слишком болен для присутствия в суде, что его нельзя было заставлять являться на суд.
Все лорды моей семьи здесь. Добрая четверть присяжных – наши сторонники или союзники, они поддерживают принцессу Марию, они ненавидели Болейн с тех пор, как она захватила трон. Для нас, – пусть свидетельства о поцелуях и соблазнении довольно тяжело выслушивать, – обвинение в том, что она отравила королеву и пыталась отравить принцессу, становятся горьким подтверждением худших наших страхов. Остальные присяжные – люди Генриха, которые будут любить и ненавидеть, кого он прикажет. Анна не приобрела друзей, пока была королевой, никто не произносит ни слова в ее защиту. Правосудия для нее нет, суд изучает свидетельства, которые так убедительно подготовил Томас Кромвель.
Елизавету Сомерсет, графиню Вустерскую, бывшую со мной на похоронах королевы в Петерборо, обратили против ее подруги Анны, она докладывает о флирте и о кое-чем похуже в спальне королевы. Кто-то рассказывает о чем-то, что кто-то произнес на смертном одре. Сплетни мешаются с ужасающей клеветой.
Монтегю приходит домой с мрачным и злым лицом.
– Какой стыд, – коротко говорит он. – Король сказал, что, по его мнению, ее поимела чуть не сотня мужчин. Позор.
Я протягиваю ему бокал пряного эля и смотрю на него.
– Ты сказал: «Виновна»? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает он. – Свидетельства были бесспорны. Лорд Кромвель знал все подробности, о которых можно было спросить. По какой-то причине, я ее не постигаю, он позволил Джорджу Болейну самому признать перед судом, что король не мог зачать наследника мужского пола. Он, можно сказать, объявил о несостоятельности короля.
– Доказано, что она убила нашу королеву?
– Ее в этом обвинили. Кажется, этого достаточно.
– Он ее заточит? Или отправит в монастырь?
Монтегю поворачивается ко мне, и лицо его исполнено мрачной жалости:
– Нет. Он собирается ее убить.
Я уезжаю из Лондона, мне невыносимы разговоры и сплетни, постоянное пересказывание непристойных подробностей суда, бесконечные гадания о том, что будет дальше. Даже те, кто ненавидел Болейн, не понимают, почему король не объявит свой брак недействительным, не признает свою дочь Елизавету незаконной и не отошлет ее мать в какой-нибудь отдаленный холодный замок, где она может умереть по недосмотру.
Кое-что из этого сделано: брак аннулирован, Елизавета объявлена бастардом. Но эту женщину по-прежнему держат в Тауэре и собираются казнить.
Я рада, что уехала из города, но не могу выбросить из головы женщину, сидящую в Тауэре. В закрытом и заброшенном приорате я захожу в холодную часовню и опускаюсь на колени на полу, лицом на восток, хотя красивое распятие и серебряную утварь с алтаря забрали. Неожиданно для самой себя я начинаю молиться перед пустым алтарем о женщине, которую ненавидела, чьи люди украли мое святое убранство.
В Англии прежде не казнили королев. Невозможно обезглавить королеву. Ни одна женщина никогда не выходила из Тауэра на маленькую лужайку перед часовней, чтобы принять смерть. Я не могу себе этого представить. Мне невыносимо об этом думать. И я не могу поверить, что Генрих Тюдор, принц, которого я знала, мог так перемениться к женщине, которую любил. Его учтивые ухаживания вошли при дворе в поговорку. Он не может быть грубым; с Генрихом речь всегда о любви, о настоящей любви. Он ведь не может приговорить свою жену, мать своего ребенка, к смерти.
Я помню, что он отвернулся от нашей доброй королевы, отослал ее прочь и пренебрег ею. Но это совсем другое дело; уехать от женщины, в которой разочаровался, и забыть ее – или перемениться в одночасье и приговорить возлюбленную к смерти.
Я молюсь за Анну, но чувствую, что мысли мои снова и снова обращаются к королю. Я думаю, что он, должно быть, впал в яростное буйство ревности, ему стыдно слушать, что говорят о нем люди, как злословят о нем Болейны; он ощущает свой возраст, ощущает, что его юношеская красота размылась, когда расплылось его лицо. Он, должно быть, каждый день смотрит в зеркало и видит, как исчезает за одутловатым лицом короля-посмешища прекрасный молодой принц, как золотое дитя превращается в Рытика. Все обожали Генриха, когда он был молодым королем, он не понимает, как его двор и жена, которую он возвысил из ничего, могли так отвернуться от него и, что хуже, смеялись над ним, выставляя его жирным старым рогоносцем.
Но я ошибаюсь. Я думаю о чувствительном человеке, сжимающемся от стыда, гневающемся из-за потери женщины, ради которой он столько всего разрушил, а Генрих тем временем лечит свою гордость, ухаживая за девушкой из семьи Сеймуров. Он не смотрит в зеркало, оплакивая свою юность. Он каждый вечер отправляется на барке вверх по течению, под музыку лютнистов, чтобы отобедать с нею. Он шлет ей подарки и строит планы на будущее, будто они – невеста и жених, обручившиеся в мае. Он не оплакивает юность, он ее требует назад; и всего через несколько дней после того, как пушечный выстрел из Тауэра сообщает о том, что король совершил одно из самых тяжких преступлений, на какое может пойти мужчина, – убил жену, – король снова женится, и у нас новая королева: Джейн.
– Испанский посол сказал мне, что Джейн призовет принцессу ко двору и позаботится о том, чтобы ей были оказаны должные почести, – говорит мне Джеффри.
Мы гуляем по полям, глядя на зеленеющий урожай. Где-то в изгороди, среди белых цветов боярышника поет черный дрозд, вопреки всему миру; стройная песня, полная надежды.
– В самом деле?
Джеффри широко улыбается:
– Наш враг мертв, а мы выжили. Король сам призвал к себе Генри Фитцроя, обнял его и сказал, что Болейн убила бы его и нашу принцессу и что ему повезло, что они оба по-прежнему с ним.
– Он пошлет за принцессой?
– Как только Джейн провозгласят королевой и она обустроится при дворе. Наша принцесса будет жить со своей новой матерью-королевой очень скоро.
Я беру своего любимого сына под руку и ненадолго кладу ему голову на плечо.
– Знаешь, в жизни столько внезапных поворотов, что меня почти удивляет то, что я еще здесь. Я очень удивлена тем, что вижу, как все возвращается на круги своя.
Он похлопывает меня по руке:
– Кто знает? Может быть, ты еще увидишь, как коронуют твою любимую принцессу.
– Тсс, – говорю я, хотя поля пусты, только вдалеке работник раскапывает обвалившуюся канаву.
Теперь даже говорить о смерти короля – измена. Кромвель каждый день сочиняет новые законы, чтобы защитить доброе имя короля.
Я слышу на дороге стук копыт, и мы поворачиваем обратно к дому. Над изгородями бьется стяг Монтегю, и когда мы заходим во двор конюшен, он как раз спешивается. Он спешит к нам, улыбаясь, падает на колено под мое благословение, а потом встает.
– У меня новости из Гринвича, – говорит он. – Добрая весть.
– Принцессе велят вернуться ко двору? – догадывается Джеффри. – Я же говорил!
– Даже лучше, – отвечает Монтегю, поворачиваясь ко мне: – Это вас приглашают ко двору. Леди матушка, я привез личное приглашение от короля. Изгнание окончено, вы должны вернуться.
Я не знаю, что сказать. Я смотрю в его улыбающееся лицо и ищу слова.
– Меня возвращают?
– Всех возвращают. Все будет как прежде. Принцесса в своем дворце, а вы рядом с ней.
– Хвала Господу! – восклицает Джеффри. – Ты снова будешь управлять домом принцессы Марии, как прежде. Будешь там, где твое место, где место всем нам. При дворе, и к тебе снова потекут владения и деньги, ко всем нам.
– Ты в долгах, Джеффри? – спрашивает Монтегю, насмешливо улыбаясь.
– Сомневаюсь, что ты бы справился при таком маленьком поместье, да еще постоянно судясь с соседями, – раздраженно отвечает Джеффри. – Все, чего я хочу, – это чтобы у нас снова было то, что наше по праву. Наша леди матушка должна стоять во главе двора, и мы тоже должны быть там. Мы Плантагенеты, мы рождены править, самое меньшее, что нам пристало, – быть советниками.
– А я буду заботиться о принцессе, – повторяю я.
Это единственное, что имеет для меня значение.
– Ты снова леди-воспитательница принцессы, – Монтегю берет меня за руку и улыбается. – Поздравляю.
Я возвращаюсь в Лондон с Монтегю, перед нами скачет его знаменосец, над моей головой реет белая роза, красиво одетая стража Монтегю сидит на красивых конях вокруг меня, и почти сразу, как мы въезжаем в город, направляясь к нашей барке, стоящей на реке, я вижу, что люди указывают на нас, бегут к нам и приветственно кричат. Когда мы добираемся до реки, тысячи вышедших на улицы выкрикивают мое имя, благословения, осведомляются о принцессе и, наконец, возглашают: «Уорик! Уорик!»
– Довольно, – Монтегю кивает одному из стражей, и тот вклинивается в толпу, тесня людей большим конем, вынимает меч и плашмя бьет по голове юного лоялиста.
– Монтегю! – пораженно говорю я. – Он ведь только приветствовал нас.
– Нельзя, – мрачно отвечает Монтегю. – Вы вернулись ко двору, леди матушка, нас восстановили в правах, но здесь все не так, как прежде. Король изменился. Думаю, он никогда не будет прежним.
– Я думала, он очень счастлив с Джейн Сеймур, – говорю я. – Думала, она – единственная женщина, которую он когда-либо любил.
Монтегю, услышав, как я язвлю, прячет мрачную улыбку.
– Он с нею счастлив, – осторожно говорит он. – Но он не настолько влюблен, чтобы вынести хоть слово осуждения или сомнения. А когда кто-то выкрикивает твое имя, или имя принцессы, или что-то про церковь – это как раз то осуждение, которое ему невыносимо слушать.
Комнаты у меня при дворе те же, что и раньше, давным-давно, когда я была придворной дамой Катерины, а она была королевой всего двадцати трех лет от роду, спасенной от нищеты и отчаяния семнадцатилетним королем, и мы думали, что теперь все всегда будет хорошо.
Я отправляюсь выказать уважение новой королеве, приседаю перед Джейн Сеймур, девушкой, которую я впервые увидела, когда она была застенчивой и не вполне умелой девицей в свите Катерины. По ее набеленному высокомерию я понимаю, что она помнит, как я ругала ее за неуклюжесть, и я опускаюсь в старательном глубоком реверансе, из которого поднимаюсь лишь по ее приглашению.
Я забочусь о том, чтобы она не заметила ни тени веселого изумления, с которым я осматриваю комнату и ее дам. Все деревянные выступы, на которых красовался сокол или большое «А», обточены и ошкурены, и теперь там «Д» или взлетающий феникс. Ее медоточивый девиз, «Клянусь повиноваться и служить», как раз сейчас вышивают по зеленому стягу Тюдоров ее дамы. Они любезно меня приветствуют. С некоторыми я в давней дружбе. Элизабет Даррелл служила Катерине вместе со мной, единоутробная сестра Фрэнсис Грей, Мария Брэндон, тоже здесь, как и, что удивительно, Джейн Болейн, вдова Джорджа Болейна, которая дала роковые показания против собственного мужа и своей невестки Анны. Кажется, она с похвальной быстротой оправилась от собственного горя и несчастья в семье и очень вежливо передо мной приседает.
Королева Джейн меня поражает. Взять Джейн Болейн в придворные дамы – значит осознанно приветить шпиона, который пойдет на любую низость. Она ведь должна знать, что Джейн Болейн отправила мужа и невестку на виселицу, она едва ли дрогнет, заманивая в ловушку чужого человека. Но потом я понимаю. Этих дам выбрала не Джейн, это женщины, которых сюда поместили их родственники, чтобы грести милости и доходы, чтобы попадаться королю на глаза, это порочные приспособленки, которых сюда впихнули ради наживы. Это не двор королевы Англии, не в том смысле, в каком я бы поняла. Это крысиное гнездо.
Мне позволено написать принцессе, хотя навестить ее пока нельзя. Я терпеливо сношу запрет, я уверена, что король призовет ее ко двору. Королева Джейн говорит о ней тепло, она просит моего совета по поводу новой одежды, которую хочет послать принцессе, и плаща для верховой езды. Мы вместе выбираем новое платье и несколько рукавов глубокого красного цвета, которые, я знаю, ей будут к лицу, и отправляем все это с королевским гонцом на север, всего за тридцать миль, в Хансдон, где принцесса готовится к возвращению ко двору.
В письме я спрашиваю о ее здоровье, о том, счастлива ли она. Рассказываю ей, что мы скоро увидимся, что мы снова будем счастливы вместе, что я надеюсь, что король позволит мне управлять ее домом и все будет как раньше. Я пишу, что двор снова спокоен и весел, что она найдет в Джейн королеву и друга. Я не упоминаю, что у них много общего, поскольку разница в возрасте у них – всего восемь лет, только Мария, конечно, рождена и воспитана как принцесса, а Джейн – ничем не отличившаяся дочь сельского рыцаря; и жду ответа.
Дорогая моя леди Маргарет,
мне так жаль, мне так грустно, что я не смогу вернуться ко двору и снова быть с вами. Я, к несчастью, оскорбила своего отца короля, и, хотя я сделала бы все, чтобы быть ему послушной и почтительной дочерью, я не могу ослушаться и не чтить свою праведницу-мать и Господа своего. Молитесь за меня.
Мария.
Я ничего не понимаю, поэтому тут же иду в покои короля, чтобы найти Монтегю. Он играет в карты с одним из братьев Сеймуров, которые теперь выбились в люди, и я жду, пока игра закончится, посмеиваясь над тщательно продуманными проигрышами Монтегю. Генри Сеймур сгребает свой выигрыш, кланяется мне и уходит прочь по галерее.
– Что случилось с принцессой? – напряженно спрашиваю я, сжимая в руке письмо, спрятанное поглубже в карман.
– Король не допустит ее ко двору, пока она не примет присягу, – коротко отвечает Монтегю. – Он послал к ней Норфолка, который обругал ее в лицо и назвал изменницей.
Я растерянно качаю головой:
– Зачем? Зачем королю настаивать, чтобы она теперь приняла присягу? Королева Катерина умерла, Анна мертва, Елизавета объявлена незаконной, у него новая королева, и она – Господи, прошу Тебя – родит ему сына и наследника. Зачем ему настаивать, чтобы принцесса приняла присягу? В чем смысл?
Монтегю отворачивается от моего встревоженного лица и делает несколько шагов.
– Не знаю, – просто отвечает он. – Смысла никакого. Я думал, что, когда Болейн умрет, все наши беды кончатся. Думал, что король помирится с Римом. Я не понимаю, почему он настаивает. Особенно я не понимаю, почему он по-прежнему против своей дочери. С собакой так не говорят, как с нею говорил Норфолк.
Я прижимаю руку к губам, чтобы не вскрикнуть.
– Он ей угрожал?






