Проклятие королей Грегори Филиппа
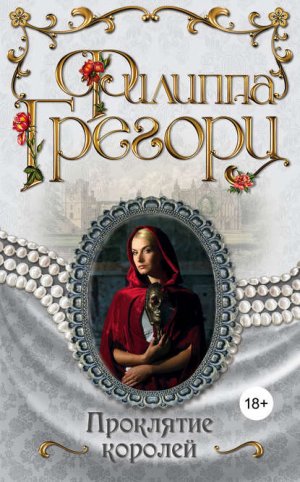
– Исчезают один за другим. Мы лишились Бишемского приората, – отвечаю я. – Люди Кромвеля проверили его, сочли, что он негоден, и передали приору, который прежде там не бывал; он поставлен там, чтобы объявить приорат развращенным и отдать его Кромвелю.
– Не может же быть, чтобы так много домов Божьих и вправду согрешило против веры, – говорит Мария. – Бишем был добрым домом молитв, я знаю.
– Не было ни одного честного расследования, это просто способ убедить аббатису или приора отказаться от места и уйти. Слуги Кромвеля побывали почти во всех мелких монастырях. Думаю, и в большие тоже придут. Они обвиняют монастыри в чудовищных преступлениях, а потом находят против них свидетельства. Кое-где торговали реликвиями – знаете какими, – а кое-где жили чересчур вольготно для спасения души, но это не реформация, хотя так ее стремятся представить, это разрушение.
– Ради наживы?
– Да, только ради наживы, – отвечаю я. – Бог знает сколько сокровищ отправилось с алтарей в казну, а богатые фермы и постройки куплены соседями. Кромвелю пришлось создать новый суд, чтобы управлять этим богатством. Если вы когда-нибудь станете наследницей, дорогая, вы не узнаете свое королевство, его ободрали как липку.
– Если я стану наследницей, я все исправлю, – очень тихо говорит она. – Клянусь. Я все исправлю.
Двор едет в Дувр, осмотреть новые укрепления, а потом новобрачные отправляются на охоту. Попавшие под подозрение придворные выпущены из Тауэра, мой родственник Генри Куртене возвращается ко двору, но в Тайном совете пока не восстановлен.
– Вы доказали свою невиновность? – очень тихо спрашиваю его я, когда мы садимся на коней, готовясь выезжать.
– Ничего не было ни доказано, ни опровергнуто, – отвечает он, помогая мне сесть в седло, и смотрит на меня снизу вверх, щурясь от яркого солнца. – Думаю, дело было не в том, чтобы проверить, какая на нас вина, а в том, чтобы привести нас в смятение. И, – добавляет он с кривой улыбкой, – это, безусловно, удалось.
Это время года всегда было для короля самым счастливым, но нынешним летом все не так. Он смотрит за завтраком на тарелку Джейн, словно хочет, чтобы королеву тошнило, он наблюдает за ней, – слегка склонив голову набок, – когда она танцует с дамами, словно предпочел бы, чтобы она была усталой. Я не единственная, кто думает, что он ищет, что не так, гадает, почему она не беременна, размышляет о том, нет ли в ней изъяна, который делает ее недостойной носить наследника Тюдоров или даже быть коронованной. Они поженились меньше восьми недель назад, но король быстро подмечает недостатки в других. Ему нужно совершенство, и на этой женщине он женился, потому что был уверен, что она – полная противоположность Анне Болейн.
В Ситтингбурне множество гостиниц, выстроенных вдоль Уотлинг-стрит, дороги, идущей из Дувра в Лондон, главном пути паломников к святилищу Бекета в Кентербери. Мы останавливаемся во «Льве», их обеденный зал достаточно велик, а комнат так много, что здесь может разместиться большая часть двора, и только прихлебателям и младшим слугам приходится поселиться в близлежащих гостиницах.
Впервые в жизни я вижу, что паломники, хоть и откидывают капюшоны, чтобы обнажить головы перед королевским знаменем, отворачиваются от короля. На большее они не отваживаются, но они не благословляют его и не улыбаются, когда он проезжает мимо. Они винят его в том, что закрыты небольшие монастыри, и боятся, что он не остановится и разрушит те, что покрупнее. Это люди набожные, привыкшие молиться в церкви аббатства в своих городках, и теперь они обнаруживают, что аббатство закрыто, а какой-то новый тюдоровский лорд снимает с крыши свинец и выставляет стекла из окон.
Эти люди верят в святых, стоящих на алтарях вдоль дорог, их отцов и дедов спасали от чистилища семейные пожертвования и памятные приделы, а теперь их разрушают. Кто отслужит для них мессу? Эти люди были воспитаны в почтении к местным церквям, они брали в работу земли у монастырей, они шли лечиться в больницу к монахиням, когда заболевали, и отправлялись на кухню аббатства, когда наступали голодные времена. Когда король распорядился о посещении и закрытии небольших монастырей, он вырвал сердце из маленькой общины и отдал ее сокровища чужим людям.
И теперь эти паломники идут в святилище служителя церкви, которого убил король, другой Генрих. Они верят, что Томас Бекет встал за церковь против короля и что в его почитаемом святилище постоянно происходят чудеса, что доказывает, что служитель церкви был прав, а король нет. Когда королевская стража въезжает в деревню, спешивается со своих больших коней и выстраивается вдоль улицы, паломники шепчут о Джоне Фишере, который умер за свою веру на королевской плахе, о Томасе Море, который не смог заставить себя сказать, что король – полноправный глава церкви, и положил жизнь, но не подписал бумагу. Когда въезжает королевская кавалькада, кивая направо и налево с всегдашним очарованием Тюдоров, в ответ никто не улыбается и не кричит от восторга. Вместо этого все отворачиваются или опускают глаза, слышится беспокойный ропот, словно от потока на дне ущелья.
Генрих слышит это, поднимает голову и холодно оглядывает паломников, стоящих в дверях гостиниц или высунувшихся из окон, чтобы посмотреть на человека, который разрушает их церковь. Йомены стражи тоже это слышат и неловко смотрят по сторонам, чувствуя, как даже в их рядах слабеет верность.
Многие, очень многие, зная, что я – воспитательница принцессы и глава ее двора, кричат мне:
– Господь ее благослови! Господь благослови! – боясь даже назвать ее подлинное имя и титул, поскольку поклялись отречься от нее; но все-таки желая выразить любовь и верность.
Генрих, который обычно переезжает из одного богатого дворца в другой в основном по воде и всегда в сопровождении многочисленной стражи, прежде этого не слышал; не слышал, как рокочет шепот тысячи осуждающих. Он похож на дальний гром, низкий, но зловещий. Генрих смотрит вокруг, но не видит никого, кто сказал бы хоть слово против него. Он разражается резким смехом без причины, словно пытается показать, что его не волнует этот угрюмый прием, тяжело спрыгивает с коня, бросает повод груму и встает неподвижно, подбоченившись, не человек, а толстая колода, словно проверяет, хватит ли у кого-нибудь смелости высказаться против него. Он не видит никого, кому мог бы бросить вызов. Ни нахмуренных лиц в толпе, ни желающих стать мучениками. Если бы Генрих увидел врага, он бы сразил его на месте, отваги ему хватало всегда. Но против него никто не выходит. Только этот глухой, неизвестно откуда идущий шепот неудовольствия. Людям больше не нравится король, они не доверяют ему свою церковь, они не верят, что его воля внушена Богом, им не хватает королевы Катерины, они в ужасе от историй о преступлении и смерти Анны Болейн. Как подобную женщину мог избрать богобоязненный король? Он выбрал ее, чтобы доказать, что он лучший, что может жениться на лучшей. А теперь все увидели, что она была худшей, – что это говорит о короле?
Они ничего не знают о королеве Джейн, но слышали, что она танцевала в вечер казни и вышла за короля одиннадцать дней спустя после того, как он обезглавил свою бывшую жену, ее госпожу. Они думают, что у такой женщины, должно быть, совсем нет жалости. Для них король больше не принц, чье восшествие на престол все исправит, он больше не юноша, чьи дурачества и развлечения стали притчей во языцех из-за веселых излишеств. Их любовь к королю исполнилась сомнений, она исполнилась страха – по правде говоря, их любовь к нему иссякла.
Генрих осматривает по сторонам, вскидывает подбородок, словно презирает этот городок и опустивших головы паломников. На мгновение он напоминает мне своего отца, то, как он смотрел на окружающих: точно думал, что все они глупцы, что он получил трон и королевство благодаря собственному быстрому и хитрому уму и презирает нас всех за то, что мы позволили ему это сделать. Генрих бросает взгляд на Джейн, стоящую рядом; она ждет, чтобы войти в широко открытые двери гостиницы. Его лицо не смягчается при взгляде на ее склоненную светлую голову. Он смотрит на нее как на еще одну дурочку, которая сделает все, как он пожелает, даже если это будет стоить ей жизни.
Мы рабски следуем за ними, когда народ вдалеке начинает волноваться: подъехавший по дороге всадник пытается пробраться сквозь толпу. Я вижу, как оглядывается на шум Монтегю, идущий за королем. Всадник – слуга Генри Фитцроя, лошадь его едва стоит на ногах, похоже, он гнал во весь опор от самого Сент-Джеймского дворца, лондонского дома молодого герцога.
Легким кивком Монтегю, заходящий в темный холл гостиницы, подсказывает мне, что нужно остаться снаружи и узнать, какие новости заставили слугу Фитцроя так мчаться. Он проталкивается сквозь толпу, его грум ждет сзади, держа лошадь.
Его тут же окружают люди, шумно требующие новостей, но я стою в стороне и слушаю. Он качает головой, что-то тихо говорит. Я ясно разбираю, что ничего нельзя было сделать, бедный молодой человек, ничего нельзя было сделать.
Я захожу в гостиницу; королевский зал аудиенций полон придворных, они разговаривают и гадают, что случилось. Джейн сидит на троне, стараясь скрыть озабоченность, и беседует с дамами. Дверь в личные покои короля закрыта, возле нее стоит Монтегю.
– Он затворился там с гонцом, – тихо говорит мне Монтегю. – Выгнал всех. Что случилось?
– Думаю, Фитцрой мог умереть.
Глаза Монтегю расширяются, он ахает, но он теперь стал таким опытным заговорщиком, что по нему мало что можно сказать.
– Несчастный случай?
– Не знаю.
Из-за закрытой двери слышится крик, страшный рев, как ревет бык, когда мастифф вцепится ему в глотку и он падает на колени. Это вопль смертельно раненного.
– Нет! Нет! Нет!
Джейн оборачивается на крик, вскакивает и покачивается, не зная, что делать. Двор замолкает и смотрит, как она снова садится на трон, а потом опять встает. Подходит ее брат, быстро говорит ей что-то, и она послушно идет к дверям личных покоев, но потом отступает и жестом запрещает стражам открывать дверь.
– Я не могу, – произносит она.
Она смотрит на меня, и я подхожу к ней.
– Что мне делать? – спрашивает Джейн.
Из комнаты слышится громкий всхлип. Джейн, похоже, в ужасе.
– Я должна к нему пойти? Томас говорит, что должна. Что происходит?
Прежде чем я успеваю ответить, Томас Сеймур оказывается рядом с сестрой, кладет ей руку на поясницу и буквально толкает к закрытой двери.
– Заходи, – сквозь зубы цедит он.
Она упирается, косит взглядом в мою сторону.
– Разве не лорд Кромвель должен войти? – шепчет она.
– Даже он не воскресит мертвого! – огрызается Томас. – Тебе придется войти.
– Идемте со мной, – Джейн хватает меня за руку.
Стражник открывает дверь. Гонец, спотыкаясь, выходит из комнаты, и Томас Сеймур вталкивает нас обеих внутрь и захлопывает за нами дверь.
Генрих стоит на полу на коленях, он сгорбился над богато обитой скамеечкой для ног, уткнувшись лицом в плотную вышивку. Он судорожно всхлипывает, как дитя, и голос у него хриплый, словно горе вырывает ему сердце.
– Нет! – говорит он, вдыхая, и страшно стонет.
Джейн с опаской, словно к раненому зверю, подходит к Генриху. На мгновение замирает, потом склоняется, ее рука застывает над его вздрагивающими плечами. Джейн смотрит на меня, я киваю, и она, едва касаясь, поглаживает его по спине, так что он этого даже не чувствует сквозь стеганый дублет.
Он трется лицом о золотые узелки и блестки на скамеечке, бьет по ней стиснутым кулаком, потом бьет по доскам пола.
– Нет! Нет! Нет!
Джейн отшатывается от этого неистовства и смотрит на меня. Генрих вскрикивает от горя, отталкивает скамеечку, падает ничком на пол и начинает кататься по душистым травам и соломе.
– Мой сын! Мой сын! Единственный мой сын!
Джейн сжимается, отстраняясь от его молотящих все вокруг рук и ног, но я подхожу и опускаюсь на колени у его головы.
– Господь благослови и прими его, и даруй ему жизнь вечную, – тихо произношу я.
– Нет! – Генрих поднимает голову; в его волосах запутались травинки и соломинки, он кричит мне в лицо: – Нет! Не жизнь вечную! Это же мой мальчик! Он мой наследник! Он нужен мне здесь.
В этом бесплодном буйстве, с багровым лицом, он страшен, но потом я вижу, что он исцарапал лицо об обивку скамеечки, рассадил себе веки и по его лицу струится кровь со слезами, я вижу ребенка в отчаянии, таким он был, когда умер его брат, когда всего год спустя умерла его мать. Я вижу малыша Генриха, которого защищали от жизни, а теперь она ворвалась в детскую, в его мир. Ребенка, которому редко отказывали в чем-то, а теперь отняли все, что он любил.
– Ох, Гарри… – произношу я, и голос мой полон жалости.
Он скулит и утыкается мне в колени. Обхватывает мою талию и стискивает, словно хочет меня раздавить.
– Не могу… – говорит он. – Не могу…
– Знаю, – отвечаю я.
Я вспоминаю, сколько раз мне пришлось приходить к этому молодому человеку и говорить, что его сын умер, а теперь ему столько же, сколько было тогда мне, и мне снова нужно сказать ему, что он потерял сына.
– Мой мальчик!
Я обнимаю его так же крепко, как он меня, укачиваю его, и мы вместе раскачиваемся, словно он большой младенец, рыдающий у матери на коленях от детского горя.
– Он был моим наследником, – стонет Генрих. – Моим наследником. Он был вылитый я. Так все говорили.
– Был, – мягко говорю я.
– Он был таким же красивым, как я!
– Был.
– Казалось, я никогда не умру…
– Знаю.
Он снова разражается всхлипами, я обнимаю его, пока он безутешно плачет. Поверх его вздымающихся плеч я смотрю на Джейн. Она застыла в ужасе. Она смотрит на короля, скорчившегося на полу, плачущего как дитя, словно перед ней какое-то непонятное чудище из сказки, словно оно с ней никак не связано. Она переводит взгляд на дверь, она хочет быть далеко-далеко от всего этого.
– Это проклятие, – внезапно говорит Генрих.
Он садится и пристально смотрит мне в лицо. Его веки покраснели и опухли, лицо исцарапано и запятнано, волосы стоят дыбом, шляпа в золе.
– На мне, должно быть, проклятие. Иначе почему я теряю всех, кого люблю? Иначе почему я несчастен? Как может король быть несчастнейшим человеком на земле?
Даже теперь, когда ко мне жмется этот убитый горем отец, я ничего не скажу.
– Как же Бесси Блаунт согрешила против Господа, что Он так меня наказывает? – спрашивает Генрих. – Что Ричмонд сделал не так? Почему Господь забрал его у меня, если они не прокляты?
– Он был болен? – тихо спрашиваю я.
– Так быстро, – шепчет Генрих. – Я знал, что он нездоров, но ничего серьезного. Я послал к нему своего врача, я сделал все, что должен был сделать отец… – он переводит дух и всхлипывает. – Я ни в чем не ошибся, – уже тверже произносит он. – Дело не в том, что сделал я. Должно быть, это Божья воля, то, что его у меня забрали. Должно быть, Бесси как-то согрешила. Должен быть какой-то грех.
Он прерывается, берет меня за руку и прикладывает мою ладонь к своей ободранной горящей щеке.
– Я этого не вынесу, – просто говорит он. – Я не могу в это поверить. Скажите, что это не так.
По моему лицу тоже струятся слезы. Я молча качаю головой.
– Я не хочу это слышать, – говорит Генрих. – Скажите, что это не так.
– Я не могу отрицать, – твердо отвечаю я. – Мне жаль. Мне так жаль, Генрих. Так жаль. Но его больше нет.
Его рот разевается, с губ капает слюна, глаза воспалены и полны слез. Он едва может говорить.
– Это невыносимо, – шепчет он. – Но как же я?
Я встаю с пола, сажусь на скамеечку и протягиваю ему руку, словно он снова маленький мальчик в детской. Он подползает ко мне, кладет голову мне на колени и сдается слезам. Я глажу его редеющие волосы, вытираю ободранные щеки полотняным рукавом своего платья; я даю ему выплакаться, пока комната становится золотой на закате, а потом серой в сумерки. А Джейн Сеймур сидит как статуя в другом конце комнаты, застыв от ужаса.
Когда сумерки сгущаются и наступает ночь, рыдания короля понемногу сменяются всхлипами, а потом дрожью, пока наконец мне не кажется, что он уснул, но тут он снова шевелится, и его плечи вздрагивают. Когда приходит время обедать, он не двигается, и Джейн продолжает свое странное тихое бдение со мной, мы вдвоем созерцаем его горе. Потом городские колокола звонят к вечерне, дверь приоткрывается, в комнату проскальзывает Томас Кромвель и сразу понимает все, окинув нас быстрым проницательным взором.
– Ох, – облегченно восклицает Джейн, поднимается на ноги и слегка взмахивает руками, словно хочет показать лорду-секретарю, что король сокрушен горем и лучше лорду-секретарю этим заняться.
– Не желаете ли пойти к обеду, Ваша Светлость? – с поклоном спрашивает Кромвель у Джейн. – Можете сказать двору, что король отобедает один, у себя в покоях.
Джейн, тихо мяукнув в знак согласия, выскальзывает из комнаты, а Кромвель поворачивается ко мне, держащей короля в объятиях, словно я – куда более сложная задача.
– Графиня, – кланяясь, произносит он.
Я наклоняю голову, но молчу. Я словно держу спящего ребенка и не хочу его разбудить.
– Мне позвать камердинеров, чтобы они его уложили? – спрашивает Кромвель.
– И врача со снотворной настойкой? – шепотом предлагаю я.
Приходит врач, король поднимает голову и послушно принимает лекарство. Он не открывает глаза, словно не может вынести взгляды – любопытствующие, сочувствующие или, что хуже всего, позабавленные – слуг, которые расстилают постель, а потом встают у изголовья и изножья, ожидая приказаний.
– Уложите Его Величество в постель, – говорит Кромвель.
Я слегка вздрагиваю от этого нового титула. Теперь, когда король остался единственным правителем в Англии, а Папа стал всего лишь римским наместником, он повадился заявлять, что ничем не хуже императора. Генриха больше нельзя называть «Ваша Светлость», как герцога, хотя такое обращение устраивало его отца, первого Тюдора, и всю мою семью. Теперь у него императорский титул, он – «Величество».
Сейчас это свежее величество так скошено горем, что нам, его покорным подданным, приходится поднимать его и укладывать в кровать, и мы боимся к нему прикасаться.
Слуги мешкают, они не знают, как подойти к королю.
– Да Бога ради, – раздраженно произносит Кромвель.
Поднимать его с пола приходится вшестером, его голова болтается, из закрытых глаз бегут слезы. Я приказываю слугам стянуть с него красивые сапоги для верховой езды, а Кромвель велит снять тяжелый дублет, но мы все равно оставляем его спать полуодетым, как пьяницу. Один слуга будет ночевать на тюфяке на полу, мы видим, как они бросают монетки, чтобы выяснить, кому не повезет остаться. Никто не хочет быть рядом с Генрихом ночью, пока он будет храпеть, портить воздух и плакать. У дверей стоят двое стражей-йоменов.
– Он поспит, – говорит Кромвель. – Но когда проснется… как думаете, леди Маргарет? Его сердце разбито?
– Это ужасная потеря, – соглашаюсь я. – Терять ребенка всегда страшно, но потерять его, когда он пережил детские болезни и вся жизнь у него была впереди…
– Потерять наследника, – замечает Кромвель.
Я молчу. Я не собираюсь высказывать свое мнение о наследниках короля.
Кромвель кивает.
– Но с вашей точки зрения – это к лучшему?
Вопрос настолько бессердечен, что я не знаю, что сказать, и смотрю на Кромвеля, словно не уверена, что правильно его расслышала.
– Мария остается единственной наследницей, – замечает он. – Или вы говорите «принцесса»?
– Я о ней вообще не говорю. И я говорю «леди Мария». Я подписала присягу и я знаю, что вы провели в парламенте закон, по которому король сам изберет наследника.
Я приказываю, чтобы еду принесли в мои личные покои, я не в силах сидеть с двором – галдящим, судачащим и строящим домыслы. Монтегю приносит фрукты и сладости, наливает мне бокал вина и садится напротив.
– Он в полном упадке? – холодно спрашивает Монтегю.
– Да, – отвечаю я.
– С ним было то же, когда Болейн потеряла ребенка, – говорит Монтегю. – Он плакал, буйствовал и не говорил. А потом, закончив скорбеть, стал отрицать, что вообще что-то произошло. И нам пришлось хоронить младенца тайком.
– Для него это страшная потеря, – замечаю я. – Он сказал, что собирался сделать Фитцроя наследником.
– А теперь у него нет наследников мужского пола, как и предсказано в проклятии.
– Я не знаю, – говорю я.
Утром король появляется опухшим и угрюмым, глаза у него красные и отекшие, лицо скорбное. Он даже не смотрит в мою сторону, будто меня и нет за завтраком, и не было с ним прошлым вечером. Он очень много ест, снова и снова велит принести еще мяса, еще эля, вина, свежего хлеба, пирогов – точно хочет поглотить весь мир, а потом снова идет в часовню. Я сижу с королевой и ее дамами в наших светлых комнатах, выходящих на главную улицу, и мы видим, как прибывают и отбывают гонцы в ливрее Норфолков, но о смерти молодого герцога двору не сообщают, и никто не знает, надевать нам траур или нет.
Три дня мы проводим в Ситтингборне, а король так ничего и не говорит о Фитцрое, хотя все больше и больше людей узнает, что он умер. На четвертый день двор едет дальше, в сторону Дувра, но никто по-прежнему не объявил, что герцог скончался, и двор не облачился в траур, и о погребальной церемонии ни слова.
Все словно подвешено во времени, застыло, как водопад зимой, когда в одно мгновение вода все еще льется каскадом вниз, а в следующее уже останавливается. Король ничего не говорит, двор все знает, но послушно делает вид, что ни о чем не подозревает. Фитцрой не приезжает к нам из Лондона, он больше никогда не приедет, а мы вынуждены притворяться, что ждем его.
– Это безумие, – говорит мне Монтегю.
– Я не знаю, что мне делать, – жалуется брату королева. – Это ведь меня никак не касается. Я заказала траурное платье. Но не знаю, надевать ли его.
– Говорить должен Говард, – решает Томас Сеймур. – Фитцрой был его зятем. У нас нет причин устраивать бастарду достойные похороны. Нет причин, чтобы призывать короля к ответу.
Томас Говард подходит к трону, когда Генрих сидит в зале аудиенций, перед обедом, и очень тихо, так что его слышат лишь те, кто стоит совсем рядом, спрашивает, можно ли ему покинуть двор, чтобы отправиться домой и похоронить зятя.
Он осмотрительно не называет Фитцроя по имени. Король манит его к себе, шепчет ему на ухо, а потом машет, чтобы он ушел. Томас Говард, не сказав никому ни слова, покидает двор и уезжает в Норфолк. Позднее мы узнаем, что он хоронит зятя и свои надежды в Тетфордском приорате, на похоронах присутствуют лишь двое, гроб самый простой, деревянный, а службу проводят тайно.
– Почему? – спрашивает меня Монтегю. – Почему все замалчивается?
– Потому что Генриху невыносимо терять еще одного сына, – отвечаю я. – И потому что теперь двор у него такой послушный и все мы такие дураки, что если он не хочет о чем-то думать, никто из нас об этом не заговорит. Если он теряет сына и не может справиться с горем, то мальчика хоронят подальше от глаз. И в следующий раз, когда король захочет сделать что-то не по-людски, мы увидим, что он стал еще сильнее. Он может отрицать правду, и никто с ним не станет спорить.
Я остаюсь дома, пока двор продолжает разъезды, гуляю по своим полям и смотрю, как пшеница становится золотой. В первый день жатвы я выхожу в поле со жнецами и смотрю, как они рядком идут по полю, срезая серпами колышущийся урожай, как зайцы и кролики бросаются прочь, пока мальчишки не спустили на них лающих терьеров.
За мужчинами следуют женщины, захватывая большие скирды и одним ловким движением связывая их; их платья подоткнуты, чтобы легче было шагать, рукава высоко закатаны, обнажая загорелые руки. У многих за спиной привязан младенец, за большинством идет пара детей, вместе со стариками они подбирают упавшие колоски, чтобы ни зернышка не пропало.
Меня наполняет неистовая радость скряги, когда я смотрю, как это золото сыплется в сокровищницу. Я предпочла бы хороший урожай всей утвари, которую могла бы отобрать у аббатства. Я сижу на коне, смотрю, как работают мои крестьяне, улыбаясь им, когда они окликают меня и говорят, что год был хороший, хороший для всех нас.
Вернувшись домой, я замечаю на конюшне чужую лошадь и мужчину, пьющего эль у дверей кухни. Он поднимает голову, когда я въезжаю во двор, и снимает шляпу. Странная шляпа, по итальянской, кажется, моде; я спешиваюсь и жду, чтобы он ко мне подошел.
– У меня послание от вашего сына, графиня, – говорит он. – Он здоров и шлет вам добрые пожелания.
– Рада получить от него весточку, – отвечаю я, стараясь не выдать волнения.
Мы все ждем, мы ждем уже много месяцев, чтобы Реджинальд закончил отчет о требовании короля признать его верховным главой английской церкви. Реджинальд обещал, что скоро закончит работу и что поддержит взгляды короля. Как он выберется из лабиринта, где сгинул Томас Мор, как избежит ловушек, которые, щелкнув, поймали Джона Фишера, я не знаю. Но во всем христианском мире нет более ученого человека, чем мой сын Реджинальд. Если есть в долгой истории церкви нечто подобное притязаниям нашего короля, он это отыщет и, возможно, отыщет еще и способ восстановить в правах принцессу Марию.
– Я прочитаю и напишу ответ, – говорю я.
Гонец кланяется.
– Я буду готов отвезти его завтра, – говорит он.
– Управляющий найдет, где вас сегодня поселить и накормить.
Я иду во внутренний садик, сажусь на скамью под розами и ломаю печать на письме Реджинальда ко мне.
Он в Венеции, я кладу письмо на колени и пытаюсь представить своего сына в сказочном городе, богатом и прекрасном, где у порога домов плещется вода и нужно нанимать лодку, чтобы добраться до большой библиотеки, где Реджинальда чтут как ученого.
Он пишет, что болен и думает о смерти. Мысли эти вызывают у него не печаль, а чувство покоя.
Я завершил свой отчет и послал его более длинным письмом королю. Он не предназначен для обнародования. В нем мое суждение, которого просил король. Оно точное и любящее. Ученый в душе короля оценит силу логики, богослов поймет историю. Дурак и человек, живущий страстями, будут потрясены, что я называю его и тем, и другим, но я верю, что смерть его наложницы дает ему шанс вернуться в церковь, что он должен сделать, чтобы спасти свою душу. Я для него пророк, такого Господь послал Давиду. Если он сможет ко мне прислушаться, то для него еще возможно спасение.
Я посоветовал ему отдать мой труд своим лучшим ученым, чтобы они подготовили для него краткое изложение. Письмо вышло длинным, и я знаю, что у него не хватит терпения прочитать его целиком. Но есть в Англии люди, которые прочтут его и не обратят внимания на резкие слова, потому что захотят услышать правду. Они могут ответить мне, и, возможно, я напишу иначе. Это не заявление, которое нужно обнародовать, чтобы каждый мог полюбопытствовать, это документ, который должны обсудить между собой ученые.
Я долго болею, но мне не нужен отдых. Есть те, кто порадуется моей смерти, и бывают дни, когда я рад был бы заснуть и не проснуться. Я помню и надеюсь, что вы тоже помните, что, когда я был еще мальчиком, вы отдали меня Господу и уехали прочь, оставив меня в Его руках. Не волнуйтесь обо мне теперь – я по-прежнему в руках Его, где вы меня оставили.
Ваш любящий и покорный вам сын Реджинальд.
Я прижимаю письмо к щеке, словно могу ощутить запах ладана и свечного воска в кабинете, где Реджинальд писал. Целую подпись, вдруг он тоже поцеловал письмо, прежде чем запечатать и отослать. Я думаю, что мы его в самом деле потеряли, если он отвернулся от жизни и жаждет смерти. Единственное, чему я его научила бы, останься он со мной, – это никогда не уставать от жизни; цепляться за нее. Жизнь – почти любой ценой. Я никогда по доброй воле не готовила себя к смерти, даже когда рожала, я никогда не положу голову на плаху. Я думаю, что не нужно было оставлять его у картузианцев, хоть они и были праведными людьми, хоть я была бедна и не могла иначе его прокормить. Надо было побираться на обочине, с сыном на руках, не позволить его у меня забрать. Не надо было позволять ему вырасти тем, кто видит себя в руках Господа и молится о том, чтобы уйти на небеса.
Я потеряла его, когда оставила в приорате, потеряла, когда отослала его в Оксфорд. Потеряла, когда отправила в Падую, и теперь осознаю размер и непоправимость своей потери. Когда-то, когда я была замужем за хорошим человеком, у меня было четверо красивых мальчиков, а теперь я старуха, вдова, у которой лишь два сына в Англии – и Реджинальд, самый умный, тот, кому я была нужнее всего, далеко-далеко от меня и желает себе смерти.
Я прижимаю его письмо к сердцу и горюю о сыне, который устал от жизни, а потом начинаю думать. Перечитываю письмо, гадаю, что он имеет в виду под «резкими словами», что он хочет сказать, называя себя пророком для короля. Надеюсь, очень надеюсь, он не написал ничего, что пробудит вечно тлеющее в короле подозрение или вызовет его неустанный гнев.
Двор возвращается в Лондон, и как только король водворяется у себя, меня призывают в его личные покои. Я, конечно, надеюсь, что он собирается назначить меня главой дома принцессы и спешу из своих комнат, через двор, сквозь маленькую дверцу наверх, через большой зал, пока не добираюсь до покоев короля в этом муравейнике, Вестминстерском дворце.
Я прохожу сквозь толпу в зале аудиенций с легкой улыбкой предвкушения на лице. Им всем, возможно, придется подождать, но меня вызвали. Он точно назначит меня служить принцессе, и я смогу помочь ей вернуться к подлинному титулу и истинному ее положению.
Желающих видеть короля сегодня больше, чем обычно, у большинства в руках чертежи или карты. Монастыри и церкви Англии раздают, один за другим, любому, кто захочет свою долю.
Но эти люди держатся неловко. Я узнаю старого друга мужа, одного из жителей Гулля, и киваю ему, проходя мимо.
– Король вас примет? – поспешно спрашивает он.
– Я как раз сейчас иду к нему, – отвечаю я.
– Прошу, спросите, можно ли мне увидеть его, – произносит посетитель. – В Гулле все больны от страха.
– Скажу, если смогу, – отвечаю я. – Что случилось?
– Люди не могут вынести того, что у них забирают церкви, – быстро говорит он, косясь на двери личных покоев. – Они этого не потерпят. Когда разрушают монастырь, ограблен оказывается весь город. Города выходят из повиновения, горожане не хотят смириться. Они собираются на севере и говорят о том, что нужно защитить монастыри и прогнать проверяющих, которые приехали их закрыть.
– Вы должны сказать лорду Кромвелю, это его работа.
– Он знает. Но он не предостерег короля. Он не понимает, какая опасность нам грозит. Говорю вам, мы не сможем удержать север, если люди объединятся.
– Для защиты церкви? – медленно произношу я.
Он кивает.
– Говорят, это все было предсказано. Они все за принцессу.
Один из королевских слуг открывает дверь в личные покои и кивает мне. Я покидаю горожанина, не сказав ни слова, и вхожу.
В личных покоях короля прохладно и темно, ставни не пропускают внутрь серый осенний свет, в камине сложены дрова, но огонь пока не разведен. Король сидит за широким чернолощеным столом в огромном резном кресле и хмурится. Стол завален бумагами, у дальнего его края ждет с занесенным пером секретарь, словно король диктовал письмо и только что прервался, услышав стук часовых и увидев, как распахивается дверь. На другой стороне стоит лорд Кромвель, он вежливо склоняет голову, когда я вхожу.
Я чую опасность, как лошадь на гнилом мосту чует, что под ногами у нее непрочная древесина. Я перевожу глаза с потупившегося Кромвеля на секретаря; мы точно позируем для портрета придворному художнику, мастеру Гольбейну. Для картины под названием «Суд».
Подняв голову, я подхожу к столу, под мрачный взгляд самого могущественного человека в христианском мире. Я не боюсь. Я не буду бояться. Я из Плантагенетов. Запах опасности я знаю так же хорошо, как густой запах свежей крови или острый – крысиного яда. Я чуяла его в детской, это запах моего детства, всей моей жизни.
– Ваше Величество, – я распрямляюсь, сделав реверанс, и стою перед ним, сложив перед собой руки, с безмятежным лицом.
Он смотрит на меня с гневом, глаза у него пустые, и я жду, когда он прервет молчание, чувствуя, как к горлу моему медленно подкатывает соленая желчь. Потом он заговаривает.
– Вы знаете, что это, – грубо говорит он, подталкивая в мою сторону переплетенную рукопись.
Я делаю шаг вперед и, когда лорд Кромвель кивает, беру ее. Руки у меня не дрожат.
Я вижу латинское заглавие.
– Это письмо моего сына? – спрашиваю я, и голос у меня не пресекается.
Лорд Кромвель склоняет голову.
– Знаете, как он его озаглавил? – рявкает Генрих.
Я качаю головой.
– «Pro ecclesiasticae unitatis defensione», – вслух читает Генрих. – Вам известно, что это значит?
Я смотрю на него долгим взглядом.
– Ваше Величество, вы знаете, что известно. Я учила вас латыни.
Он словно теряет равновесие, будто я пробудила в нем мальчика, которым он когда-то был. Лишь мгновение он колеблется, потом снова раздувается от величия.
– В защиту единства церкви, – говорит он. – Но разве я не Защитник Веры?
Выясняется, что я могу ему улыбнуться, губы у меня не дрожат.
– Конечно Защитник.
– И Верховный Глава Английской Церкви?
– Разумеется.
– Тогда ваш сын виновен в оскорблении и измене, если сомневается в моем праве управлять церковью и защищать ее? Даже заглавие письма – уже измена, само по себе!
– Я не видела этого письма, – говорю я.
– Он ей писал, – тихо сообщает лорд Кромвель королю.
– Он мой сын, конечно, он мне пишет, – отвечаю я королю, не глядя на Кромвеля. – И он мне сообщил, что написал вам письмо. Не отчет, не книгу, не для обнародования, без всякого заглавия. Он сказал, что вы просили его высказаться по определенным вопросам и он повиновался вам: изучил их, обсудил и написал, каково его мнение.
– Это изменническое мнение, – роняет король. – Он хуже Томаса Мора, гораздо хуже. Томас Мор не должен был умирать за то, что сказал, а он ничего подобного не говорил. Это Мор сегодня должен жить, он был лучшим из моих советников, а вашего сына надо обезглавить вместо него.
Я сглатываю.
– Реджинальду не следовало писать ничего, что даже намекает на измену, – тихо произношу я. – Я должна молить вас о прощении от его имени, если он так поступил. Я не знала, о чем он пишет. Не знала, что изучает. Он многие годы был вашим ученым, исполнял ваши повеления.
– Он говорит то, что вы все думаете! – Генрих поднимается и наклоняется ко мне; его маленькие глазки пылают гневом. – Вы посмеете это отрицать? Мне в лицо? В лицо?
– Я не знаю, что он говорит, – отвечаю я. – Но никто из членов моей семьи, живущих в Англии, ни разу не сказал, не подумал и даже во сне не видел ни единого слова измены. Мы вам верны.
Я разворачиваюсь к Кромвелю.
– Мы безотлагательно приняли присягу, – говорю я. – Вы закрыли Бишемский приорат, который основала моя семья, и я не стала жаловаться, даже когда вы назначили приора по своему выбору, выгнав приора Ричарда и всех монахов, и обчистили часовню. Вы забрали драгоценности леди Марии по описи, которую я составила, когда вы ее посадили под замок, я подчинилась вам и не написала ей ни слова. Монтегю – ваш верный слуга и друг, Джеффри служит вам в парламенте. Мы ваши родственники, верные родственники, и мы никогда ничего не делали против вас.
Король внезапно бьет по столу тяжелой ладонью, звук похож на выстрел пистолета.
– Это невыносимо! – ревет он.
Я не вздрагиваю, я веду себя очень спокойно. Повернувшись к королю, я гляжу ему прямо в лицо, как смотритель в Тауэре глядит на диких зверей. Томас Мор как-то сказал мне: ни льву, ни королю нельзя показывать свой страх, иначе умрешь.
Король наклоняется вперед и кричит мне в лицо:
– Куда ни повернусь, против меня затевают заговор, шепчутся, пишут, – он в гневе сбрасывает рукопись Реджинальда на пол. – Никто не думает о том, что я делаю для страны, о том, как я страдаю, ведя страну вперед, из тьмы к свету, служа Господу через всех, кто меня окружает, всех…
Он неожиданно набрасывается на Кромвеля.
– Что творится в Линкольне? В Йоркшире? Что говорят против меня? Почему вы не заставите их замолчать? Зачем они бродят по улицам Гулля? И как вы позволили Поулу написать такое? – кричит он. – Почему вы такой глупец?






