Проклятие королей Грегори Филиппа
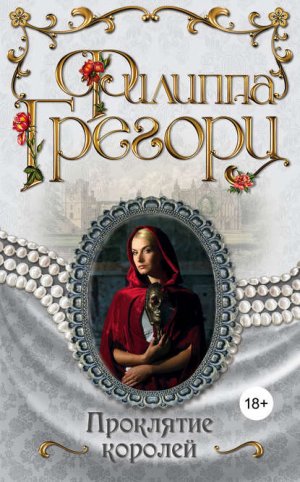
В миг пробуждения я невинна, совесть моя чиста, на ней нет проступков. В первое, туманное мгновение, когда открываются глаза, у меня нет мыслей; я – лишь тело с гладкой кожей и упругими мышцами, женщина двадцати шести лет, неторопливо входящая в радость жизни. Я не чувствую свою бессмертную душу, не чувствую ни греха, ни вины. Меня так восхитительно, так лениво обволакивает сон, что я едва осознаю, кто я.
Я медленно открываю глаза и понимаю, что свет, сочащийся сквозь ставни, означает, что уже давно утро. Потягиваясь с наслаждением, как просыпающаяся кошка, я вспоминаю, какой уставшей была, когда засыпала, и чувствую, что отдохнула, что у меня все хорошо. А потом, в мгновение ока, явь будто обрушивается мне на голову, как груда договоров с блестящими печатями с высокой полки, я вспоминаю, что у меня все совсем не хорошо, вообще все нехорошо, что сегодня то самое утро, которое, я надеялась, не наступит, потому что этим утром я не смогу отречься от своего губительного имени, я – наследница королевской крови, а мой брат, виновный не более, чем я, мертв.
Мой муж, сидящий у постели, полностью одет. На нем красный бархатный камзол, в дублете он кажется грузным и широким, на его мощной груди лежит золотая цепь гофмейстера принца Уэльского. Я не сразу понимаю, что он какое-то время дожидался, пока я проснусь. Его лицо искажено тревогой.
– Маргарет?
– Ничего не говорите, – огрызаюсь я, как ребенок, будто, если остановишь слова, дело будет отложено, и, отвернувшись от мужа, зарываюсь лицом в подушку.
– Вы должны быть храброй, – без надежды произносит он.
Поглаживает меня по плечу, словно я больной щенок гончей.
– Должны быть храброй.
Я не смею стряхнуть его руку. Он мой муж, я не смею его обижать. Он – мое единственное прибежище. Я зарыта в нем, мое имя спрятано в его имени. Меня так резко отсекли от моего титула, словно само имя мое обезглавили и унесли в корзине.
Имя у меня самое опасное в Англии: Плантагенет. Когда-то я носила его гордо, точно корону. Когда-то я была Маргарет Плантагенет Йоркской, племянницей двух королей, братьев: Эдуарда IV и Ричарда III, а третий брат был моим отцом – Джордж, герцог Кларенс. Моя мать была богатейшей женщиной Англии, дочерью столь великого человека, что его называли «Делателем Королей». Мой брат Тедди, которого наш дядя король Ричард объявил своим наследником, должен был занять английский трон, и нам двоим, Тедди и мне, принадлежала любовь и верность половины королевства. Мы были благородными сиротами Уорик, спасенными от злой судьбы, выхваченными из ведьминской хватки белой королевы, нас вырастила в королевской детской замка Миддлхем сама королева Анна, и не было в мире ничего слишком роскошного или слишком редкого для нас.
Но когда короля Ричарда убили, мы в одну ночь обратились из наследников престола в претендентов – выживших членов прежнего королевского рода, когда на трон взошел узурпатор. Что было делать с принцами из династии Йорков? С наследниками из рода Уориков? У Тюдоров, у матери и сына, были готовы ответы. Нас всех надлежало оженить в безвестность, повенчать с тенями, скрыть во браке. Так что теперь я безопасна, я урезана в разы, до того умалена, что меня можно спрятать под именем бедного рыцаря в усадебке посреди английской глуши, где земля дешева и где никто не поскачет в бой за мою улыбку, лишь кинет клич «Уорик!».
Я – леди Поул. Не принцесса, не герцогиня, даже не графиня, просто жена скромного дворянина, меня затолкали в забвение, как вышитый герб в заброшенный платяной сундук. Маргарет Поул, молодая беременная жена сэра Ричарда Поула, уже подарившая ему троих детей, из которых двое – мальчики. Генри, угодливо названный в честь нового короля, Генриха VII, и Артур, из подобострастия получивший имя в честь королевского сына, принца Артура; а еще у меня есть дочь Урсула. Мне разрешили назвать ее, всего лишь девочку, как я пожелаю, и я нарекла ее в честь святой, которая предпочла смерть браку с чужим человеком, чье имя ее заставляли принять. Сомневаюсь, что кто-нибудь заметил мой маленький бунт, – надеюсь, что нет.
Но моего брата нельзя было заново окрестить посредством брака. На ком бы он ни женился, каким бы низким ни было ее происхождение, она не могла переменить его имя, как мой муж переменил мое. Он все равно сохранил бы титул графа Уорика, он по-прежнему откликался бы на имя Эдвард Плантагенет, он все еще был бы законным наследником английского трона. Подними кто-нибудь его знамя – а рано или поздно это знамя непременно кто-нибудь поднял бы, – половина Англии встала бы под него, просто ради колдовского мерцания белой вышивки, ради белой розы. Его так и называют, Белой Розой.
Раз у него нельзя было отнять имя, у него отняли богатство и земли. Потом отняли свободу, упрятав, словно забытое знамя среди прочих бесполезных вещей, в лондонский Тауэр, между предателей, должников и дураков. Да, у моего брата не было ни слуг, ни земель, ни замка, ни образования, но он сохранил имя, мое имя. Тедди сохранил титул, титул нашего деда. Он все еще был графом Уориком, Белой Розой, наследником трона Плантагенетов, постоянным живым укором Тюдорам, которые захватили этот трон и теперь зовут его своим. Тедди бросили во тьму, когда ему было одиннадцать, и не выводили на свет, пока ему не минуло двадцать четыре. Он тринадцать лет не ходил по луговой траве. Потом он вышел из Тауэра, – может быть, наслаждаясь запахом дождя от сырой земли, может быть, слушая, как кричат над рекой чайки, может быть, слыша за высокими стенами Тауэра крики и смех свободных людей, вольных англичан, своих подданных. По обе стороны от него шли стражники, он пересек подъемный мост, взошел на Тауэрский холм, опустился на колени перед плахой, положил на нее голову, словно заслуживал смерти, словно хотел умереть, – и его обезглавили.
Это случилось вчера. Только вчера. Весь день лил дождь. Была страшная буря, словно небо возмутилось этим зверством, дождь изливался, как скорбь, и когда мне сообщили, я была со своей кузиной-королевой в ее изысканно обставленных покоях – мы закрыли ставни, чтобы не видеть тьмы, словно не хотели смотреть на дождь, смывавший с Тауэрского холма в канаву кровь – кровь моего брата, мою кровь, кровь королей.
– Постарайтесь быть храброй, – снова бормочет мой муж. – Подумайте о ребенке. Постарайтесь не бояться.
– Я не боюсь, – обернувшись через плечо, отвечаю я. – Мне не нужно стараться быть храброй. Мне нечего бояться. Я знаю, что с вами мне ничего не грозит.
Он мешкает. Он не хочет напоминать мне, что мне, возможно, все еще есть чего бояться. Возможно, даже его небогатое поместье не настолько скромно, чтобы я была в безопасности.
– Я хотел сказать, постарайтесь не показывать свое горе…
– Почему? – вырывается у меня детский плач. – Почему мне нельзя горевать? Мой брат, мой единственный брат мертв! Обезглавлен как предатель, хотя был невинен как дитя. Почему мне нельзя горевать?
– Потому что им это не понравится, – просто отвечает он.
Сама королева спускается по парадной лестнице, чтобы попрощаться с нами, когда мы покидаем Вестминстер после Рождественского праздника, хотя король все еще не выходит из своих покоев. Его мать твердит, что с ним все хорошо, его просто слегка лихорадит, он силен и здоров, просто пережидает холодные зимние дни у жаркого огня; но никто ей не верит. Все знают, что он болен виной за убийство моего брата и смерть претендента, которого объявили предателем, обвинив в участии в том же вымышленном заговоре. Я с мрачным весельем замечаю, что мы с королевой, обе потерявшие братьев, бледнеем и молчим о наших делах, а тот, по чьему приказу наших братьев убили, укладывается в постель, мучаясь виной. Но Елизавета и я обе привыкли к потерям, мы Плантагенеты, мы день за днем вкушаем предательство и сердечную боль; Генрих Тюдор в королях недавно, за него всегда воевали другие.
– Удачи, – коротко произносит Елизавета, указывая на мой округлившийся живот. – Вы уверены, что не хотите остаться? Вы могли бы родить здесь. За вами бы хорошо ходили, и я бы вас навещала. Прошу, Маргарет, передумайте и останьтесь.
Я качаю головой. Не могу я ей признаться, что меня тошнит от Лондона, тошнит от двора и от правления ее мужа и его властной матушки.
– Хорошо, – говорит она, понимая все. – А в Ладлоу вы поедете, когда снова будете на ногах? Присоединитесь к остальным?
Она предпочитает, чтобы я жила в Ладлоу, с ее сыном, Артуром. Мой муж опекает его в этом отдаленном замке, и ей спокойнее знать, что и я тоже с ним.
– Отправлюсь, как только смогу, – обещаю я. – Но вы же знаете, сэр Ричард убережет и сохранит вашего мальчика, рядом я или нет. Он заботится о нем так, словно принц из чистого золота.
Мой муж – хороший человек, я этого никогда не отрицала. Миледи мать короля сделала удачный выбор, когда устраивала мой брак. Она всего лишь хотела, чтобы муж увез меня с глаз долой, но ненароком остановилась на том, кто души во мне не чает. Но сделка была ей не в убыток. В день нашего венчания она выплатила моему мужу самую ничтожную награду, мне и теперь почти смешно, когда думаю о том, что ему за меня дали: две фермы – два птичьих двора! – и крохотный разваливающийся замок. Он мог бы потребовать куда больше; но он всегда служил Тюдорам за спасибо, трусил за ними следом, только чтобы напомнить, что был на их стороне, шел за их знаменем, куда бы оно ни вело, не считаясь с потерями и ни о чем не спрашивая.
Еще в юности он положился на свою родственницу, леди Маргарет Бофорт. Она убедила его, как и многих других, что как союзник принесет победу, но как враг будет опасна. Совсем молодым мой муж воззвал к ее обостренным родственным чувствам и вверился ее заботам. Она заставила его присягнуть своему сыну, и мой муж, вместе с другими ее сторонниками, рисковал жизнью, чтобы ее сын сел на престол, а она получила титул, который сама для себя придумала: Миледи мать короля. Даже сейчас, в пору неоспоримого торжества, она цепляется за родичей, страшась ненадежных друзей и пугающих незнакомцев.
Я смотрю на свою сестру-королеву. Мы с ней так непохожи на Тюдоров. Ее они выдали замуж за сына Миледи, короля Генриха, и лишь после того, как почти два года проверяли ее плодовитость и верность, словно она была племенной сукой, которую надо было одобрить, короновали ее, хотя она принцесса крови, а он родился очень далеко от трона. Меня отдали за троюродного брата Миледи, сэра Ричарда. От нас обеих потребовали, чтобы мы отказались от своего рода, от своего детства, от прошлого; чтобы мы приняли их имя и присягнули им на верность, и мы это сделали. Но сомневаюсь, что даже после этого они когда-нибудь станут нам доверять.
Елизавета, моя двоюродная сестра, смотрит на своего сына, юного принца Артура, который ждет, когда ему приведут из конюшни коня.
– Я бы хотела, чтобы вы остались, все трое.
– Он должен быть в своих владениях, – напоминаю я. – Он же принц Уэльский, ему нужно быть поближе к Уэльсу.
– Я просто…
– В стране спокойно. Теперь король и королева Испании отправят к нам свою дочь. Мы вернемся быстро, подготовившись к свадьбе Артура.
Я не добавляю, что юную инфанту присылают лишь теперь, когда не стало моего брата. Ему пришлось умереть, чтобы не было соперничества за трон. Ковер, по которому инфанта пойдет к алтарю, будет красным, как кровь моего брата. И мне придется идти по нему с процессией Тюдоров и улыбаться.
– Есть проклятие, – внезапно произносит она, придвигаясь ко мне поближе и говоря мне на ухо, так что я чувствую на щеке тепло ее дыхания. – Маргарет, я должна вам сказать. Было проклятие.
Она берет меня за руку, и я чувствую, как ее рука дрожит.
– Какое проклятие?
– Что любой, кто выведет моих братьев из Тауэра, любой, кто отправит их на смерть, умрет сам.
Я в ужасе отшатываюсь и смотрю в ее побледневшее лицо.
– Что за проклятие? Кто его наложил?
Тень вины, проходящая по ее лицу, тут же открывает мне все. Наверняка это ее мать, ведьма, Елизавета. Я уверена, что роковое проклятие произнесла эта смертоносная женщина.
– Что именно она сказала?
Елизавета берет меня под руку и ведет меня к конюшням, под арку, где мы остаемся одни во дворе, и над нашими головами простираются голые ветви дерева.
– Я тоже говорила, – сознается она. – Это и мое проклятие, не только ее, я произнесла его вместе с матерью. Я была совсем девочкой, но должна была понять… но я произнесла его вместе с ней. Мы обращались к реке, к богине… ну, вы понимаете!.. к богине, которая основала наш род. Мы сказали: «Нашего мальчика забрали, когда он еще не был мужчиной, не был королем – хотя был рожден, чтобы стать и тем, и другим. Так забери сына его убийцы, пока он еще мальчик, прежде чем станет мужчиной, прежде чем достигнет власти. А потом забери его внука, и когда ты его заберешь, мы поймем, что его смерть – действие нашего проклятия и его расплата за утрату нашего сына».
Я содрогаюсь и запахиваю дорожный плащ, словно залитый солнцем сад вдруг стал сырым и холодным от дыхания реки, давшей согласие.
– Вы сказали – такое?
Она кивает, глаза ее темны и полны страха.
– Что ж, король Ричард умер, а его сын умер до него, – смело говорю я. – Мужчина и его сын. Ваш брат исчез, когда был в его власти. Если он был виновен и проклятие сработало, то все, возможно, уже свершилось и его род пресекся.
Она пожимает плечами. Никто из знавших Ричарда ни мгновения не думал, что он убил своих племянников. Нелепое предположение. Он посвятил жизнь брату, он умер бы за своих племянников. Он ненавидел их мать и захватил трон; но он в жизни не тронул бы мальчиков. Даже Тюдоры не смеют зайти дальше намеков на подобное преступление; даже им не хватает наглости обвинить мертвого в злодеянии, которое он никогда бы не совершил.
– Если то был нынешний король… – я понижаю голос до шепота, приблизившись настолько, что мы могли бы обняться, окутав Елизавету своим плащом и держа ее за руку; я едва отваживаюсь говорить в этом полном соглядатаев дворце. – Если по его приказу убили ваших братьев…
– Или его матери, – очень тихо отзывается она. – У ее мужа были ключи от Тауэра, мои братья стояли между ее сыном и троном…
Мы содрогаемся, так крепко сжав руки, словно Миледи может подкрасться к нам сзади и подслушать. Нас обеих ужасает власть Маргарет Бофорт, матери Генриха Тюдора.
– Так, так, – говорю я, пытаясь сдержать страх и не замечать, как дрожат наши руки. – Но, Елизавета, если это они убили ваших братьев, тогда ваше проклятие падет на ее сына, вашего мужа, и на его сына.
– Знаю, знаю, – тихо стонет она. – Чего я боюсь с тех пор, как впервые об этом задумалась. Что, если внук убийцы – мой сын, принц Артур? Мой мальчик. Что, если я прокляла своего мальчика?
– Что, если проклятие оборвет род? – шепчу я. – Что, если не останется мальчиков Тюдоров, одни бездетные девочки?
Мы стоим неподвижно, словно заледенели в зимнем саду. Над нашими головами раздается трель малиновки, предупреждающий клич, а потом птица улетает.
– Сберегите его! – с внезапным чувством говорит Елизавета. – Сберегите Артура в Ладлоу, Маргарет!
Я ухожу в заточение в Стоуртоне на месяц, а муж оставляет меня, чтобы сопровождать принца в Уэльс, в его замок в Ладлоу. Я стою в дверях нашего обветшавшего старого дома, чтобы помахать уезжающим вслед. Принц Артур опускается на колени, принять мое благословение, и я кладу руки ему на голову, а потом, когда он поднимается, целую в обе щеки. Ему тринадцать, он уже выше меня, этот мальчик, который хорош собой, как истинный Йорк, и обаятелен, как Йорк. В нем нет почти ничего от Тюдоров, только волосы у него медные и временами он неожиданно впадает в тревогу; все Тюдоры – пугливое семейство. Я обнимаю худенького мальчика и прижимаю его к себе.
– Будьте умницей, – велю я ему. – И осторожнее, когда станете упражняться с копьем и ездить верхом. Я обещала вашей матери, что с вами ничего не случится. Позаботьтесь о том, чтобы так и было.
Он закатывает глаза, как делают все мальчишки, когда женщина слишком над ними квохчет, но послушно склоняет голову, а потом разворачивается, запрыгивает на коня и натягивает поводья, так что конь пляшет и резвится.
– И не красуйтесь попусту, – велю я. – А если пойдет дождь, ступайте под крышу.
– Ладно, ладно, – говорит мой муж. Он тепло мне улыбается. – Я за ним присмотрю, вы же знаете. А вы поберегите себя, это вам в этом месяце предстоит потрудиться. И пошлите мне весточку, как только ребенок родится.
Я кладу руку себе на живот, чувствую, как шевелится ребенок, и машу отъезжающим. Смотрю, как они скачут на юг по красной глиняной дороге в Киддерминстер. Земля промерзла насквозь, они быстро минуют узкие тропинки, которые вьются между пестрыми застывшими полями цвета ржавчины. Перед принцем скачут его знаменосцы и свита при оружии, одетая в его цвета. Сам принц едет рядом с моим мужем, их тесным защитным кольцом окружают слуги. За ними следуют вьючные животные, везущие сокровища принца: его серебряную посуду и золото, его бесценные седла, доспехи, покрытые насечками и эмалью, даже его ковры и белье. Он повсюду возит за собой огромные ценности, он – Тюдор, английский принц, и ему прислуживают, как императору. Тюдоры подтверждают свое королевское право, выставляя напоказ богатство, словно надеются, что игра в короля сделает короля настоящим.
Возле мальчика, окружая мулов, везущих его сокровища, едет стража Тюдоров, новая стража, которую набрал его отец, в бело-зеленых ливреях. Когда королевской семьей были мы, Плантагенеты, мы ездили по тропинкам и дорогам Англии с друзьями и спутниками, без оружия, с непокрытыми головами; нам не была нужна стража, мы никогда не боялись народа. Тюдоры всегда опасаются внезапного нападения. Они пришли с вражеской армией, за ними пришел мор, и даже теперь, почти пятнадцать лет спустя после победы, они все еще ведут себя как захватчики, неуверенные в том, что им ничто не угрожает, сомневающиеся, что их встретят добром.
Я стою, подняв на прощанье руку, пока они не скрываются от меня за поворотом, а потом захожу в дом, заворачиваясь в тонкую шерстяную шаль. Я пойду в детскую, повидаюсь с детьми, пока все в доме не сели обедать, а после обеда подниму бокал за управляющих моим домом и землями, веля им содержать все в порядке в мое отсутствие, и возвращусь к себе с дамами, повитухами и няньками. Там мне придется долгих четыре недели ждать нашего нового ребенка.
Я не боюсь боли, поэтому роды меня не пугают. Они у меня четвертые, по крайней мере, я знаю, чего ждать. Но я их и не жду, ни один из моих детей не принес мне той радости, которую я вижу в других матерях. Мальчики не наполняют меня яростным честолюбием, я не могу молиться о том, чтобы они добились в этом мире положения – безумием с моей стороны было бы желать, чтобы они привлекли внимание короля: что он увидит, кроме еще одного юноши из Плантагенетов? Соперника, имеющего право на трон? Угрозу? Глядя на дочь, я не радуюсь тому, что подрастает маленькая женщина: еще одна я, еще одна принцесса Плантагенетов. Что еще мне думать о ней, кроме того, что она обречена, если воссияет при дворе? Я благополучно пережила эти годы, поскольку была почти невидимкой, так как мне нарядить девочку и выставить ее всем напоказ, чтобы ей восхищались? Я желаю ей лишь уютного забвения. Чтобы быть любящей матерью, женщина должна глядеть в будущее с надеждой, исполненная чаяний для своих детей, должна думать, что их ждет счастливое будущее, мечтать о великих свершениях. Но я из дома Йорков, я лучше всех знаю, что этот мир ненадежен и опасен, и лучшее будущее, что я могу уготовить своим детям, – выживание в тени, хотя по праву рождения они из действующих лиц; но нужно надеяться, что они всегда будут стоять у сцены или, неузнанные, в толпе.
Ребенок рождается скоро, на неделю раньше, чем я думала, он красив и силен, у него на макушке смешной хохолок каштановых волос, как петушиный гребень. Ему нравится молоко кормилицы, и она его все время прикладывает. Я шлю его отцу добрые вести, получаю в ответ поздравления и браслет из валлийского золота. Мой муж пишет, что приедет на крестины и что мальчика мы должны назвать Реджинальдом – в честь Реджинальда Советника, – чтобы мягко намекнуть королю и его матери, что мальчик вырастет и станет советчиком и смиренным слугой их рода. Меня не удивляет, что мой муж хочет, чтобы само имя ребенка выражало рабскую покорность королевской семье. Когда они захватили страну, они и нас захватили. Наше будущее зависит от их милости, Тюдоры теперь владеют в Англии всем; может быть, это уже навсегда.
Иногда кормилица приносит младенца мне, и я качаю его, восхищаясь изгибом его закрытых век и тенью ресниц на щеках. Он напоминает мне моего брата, когда тот был ребенком. Я хорошо помню его пухлое младенческое личико и его живые темные глаза. Юношей я его почти не видела. Не могу представить себе пленника, идущего под дождем к плахе на Тауэрском холме. Я прижимаю своего новорожденного ребенка к сердцу и думаю, что жизнь хрупка, что, возможно, безопаснее вообще никого не любить.
Мой муж приезжает домой, как обещал, – он всегда исполняет свои обещания, – к крестинам; и как только я выхожу из покоев роженицы и принимаю причастие, мы возвращаемся в Ладлоу. Путешествие долгое, оно дается мне нелегко, я еду то верхом, то в паланкине: по утрам в седле, а днем отдыхаю; но даже так у нас уходит на дорогу два дня, и я рада, когда показываются высокие городские стены, полоски черных балок и сливочная штукатурка городских домов под толстыми соломенными кровлями, а за ними возвышается темный замок.
Из уважения ко мне ворота распахивают настежь, я – жена лорда гофмейстера, и сам Артур, долгоногий и взволнованный, прыгая, как жеребенок, вырывается из главных ворот, чтобы помочь мне сойти с лошади и спросить, как я и почему не привезла новорожденного.
– Для него сейчас слишком холодно, ему лучше дома, с кормилицей.
Я обнимаю принца, и он падает на колени, чтобы я благословила его как жена его опекуна, кузина его матери, женщина королевского рода, а когда он поднимается, я приседаю перед ним в реверансе, как перед наследником трона. Мы легко исполняем эти церемонии, не задумываясь о них. Его растили королем, а я росла одной из важнейших особ при дворе, почти все приседали передо мной в реверансе, шли следом, вставали, когда я входила в комнату, и кланялись, покидая меня. Пока не пришли Тюдоры, пока меня не выдали замуж, пока я не стала незначительной леди Поул.
Артур отступает назад, чтобы вглядеться в мое лицо; смешной мальчик, ему в этом году четырнадцать, но он милый и вдумчивый, как его мать, женщина с нежным сердцем.
– У вас все хорошо? – спрашивает он. – Все-все прошло хорошо?
– Очень хорошо, – твердо отвечаю я. – Я ни капли не переменилась.
В ответ он улыбается. У него любящее сердце, от матери, он станет королем, которому ведомо сострадание; и, видит бог, именно это нужно Англии, чтобы залечить раны после долгих тридцати лет сражений.
Из конюшни хлопотливо выбегает мой муж, и они с Артуром увлекают меня в большой зал, где мне кланяются придворные, и я иду сквозь сотенную толпу наших приближенных к своему почетному месту между мужем и принцем Уэльским, во главе стола.
Позже, вечером, я захожу к Артуру в спальню, чтобы побыть при его молитве. С принцем его капеллан, Артур стоит на коленях на скамеечке и слушает тщательное произнесение латинского дневного коллекта и молитвы на ночь. Капеллан зачитывает часть одного из псалмов, и Артур склоняет голову, молясь о здравии отца и матери, королевы и короля Англии, и «о Миледи матери короля, графине Ричмонд», добавляет он, упоминая ее титул, чтобы Бог не забыл, как она поднялась и как достойна ее просьба Его внимания. Я склоняю голову, когда он произносит: «Аминь», потом капеллан собирает свои вещи, а Артур запрыгивает на огромную кровать.
– Леди Маргарет, вы знаете, что у меня в этом году свадьба?
– Никто не назвал мне дату, – отвечаю я.
Я сажусь на край кровати и смотрю на светлое лицо Артура и на мягкий пух на его верхней губе, который он любит поглаживать, словно побуждая его расти.
– Но теперь препятствий для свадьбы нет.
Он сразу тянется ко мне и касается моей руки. Он знает, что монархи Испании поклялись, что отправят свою дочь к нему невестой, только если их уверят, что других наследников английского трона нет. Они имели в виду не только моего брата Эдварда, но и претендента, выступавшего под именем брата королевы, Ричарда Йорка. Желая заключения помолвки, король захватил обоих юношей, словно они были в равной мере наследниками, словно были одинаково виновны, и приказал убить обоих. Претендент присвоил себе самое опасное имя, поднял против Генриха оружие и умер за это. Мой брат отказался от своего имени, никогда не поднимал даже голоса, что уж говорить об армии, и все равно умер. Я должна постараться не омрачать свою жизнь горечью. Спрятать обиду, словно забытое знамя. Забыть, что я – сестра, забыть единственного мальчика, которого когда-либо любила по-настоящему, – моего брата, Белую Розу.
– Вы ведь знаете, я бы никогда этого не потребовал, – очень тихо говорит Артур. – Его смерти. Я ее не хотел.
– Знаю, что не хотели, – отвечаю я. – Ни вы, ни я тут ни при чем. Это было не в нашей власти. Мы ничего не могли поделать.
– Но я кое-что сделал, – говорит он, искоса глядя на меня. – Толку не было; но я просил отца о милости.
– Это было благородно.
Я не рассказываю ему, что стояла перед королем на коленях, простоволосая, растрепанная, мои слезы капали на пол, а я обхватила ладонями каблук королевского башмака и держалась, пока меня не подняли и не унесли прочь, и муж умолял меня больше не заговаривать об этом из страха, что король вспомнит, что некогда я носила имя Плантагенетов и что в жилах моих сыновей течет опасная королевская кровь.
– Ничего нельзя было сделать. Уверена, Его Светлость, ваш отец, сделал лишь то, что считал верным.
– Вы сможете… – Артур колеблется. – Сможете его простить?
Он не может даже поднять на меня глаза, задавая этот вопрос, он смотрит на наши сомкнутые руки. Бережно поворачивает новое кольцо на моем пальце, траурное кольцо с буквой «У»; Уорик, мой брат.
Я накрываю его руку своей.
– Мне нечего прощать, – твердо произношу я. – Ваш отец поступил так с моим братом не из гнева и не из мести. Он чувствовал, что так нужно, чтобы обезопасить трон. Он сделал это не сгоряча. Его нельзя было поколебать мольбами. Он просчитал, что простые люди Англии всегда поднимутся за кого-то, носящего имя Плантагенет. Ваш отец – думающий человек, осторожный человек, он учтет все шансы, почти как счетовод, вносящий в одну из появившихся теперь книг прибыли – с одной стороны, а убытки – с другой. Речь больше не идет о чести и верности. Речь о расчете. Мой убыток в том, что моего брата сочли угрозой, и ваш отец вычеркнул его.
– Но он не был угрозой! – восклицает Артур. – И по чести…
– Он никогда не был угрозой; все дело в имени. Его имя было угрозой.
– Но это ведь и ваше имя?
– О нет. Меня зовут Маргарет Поул, – сухо произношу я. – Вам это известно. И я стараюсь забыть, что родилась под другим именем.
Невеста Артура приезжает, лишь когда ей исполняется пятнадцать. В конце лета мы отправляемся в Лондон, и у Артура, его матери и меня два месяца на то, чтобы заказать наряды, созвать портных, ювелиров, перчаточников, шляпников и швей; собрать молодому принцу гардероб и пошить красивый наряд ко дню свадьбы.
Принц беспокоится. Он часто ей писал: возвышенные письма на латыни, единственном языке, который понимают они оба. Моя кузина королева настоятельно просила, чтобы инфанту учили английскому и французскому.
– По-моему, жениться на чужестранке, с которой словом не можешь перемолвиться, – это варварство, – бормочет она, обращаясь ко мне, когда мы вышиваем новые рубашки Артура у нее в покоях. – Им что, завтракать, посадив между собой посла, чтобы переводил?
Я улыбаюсь в ответ. Редкая женщина может свободно говорить с любящим мужем, и мы обе это знаем.
– Научится, – говорю я. – Ей придется научиться нашим обычаям.
– Король собирается ехать на южное побережье, встречать ее, – говорит Елизавета. – Я просила его дождаться и устроить ей встречу в Лондоне, но он сказал, что возьмет с собой Артура и они поскачут, как странствующие рыцари, чтобы сделать инфанте сюрприз.
– Знаете, не думаю, что испанцам нравятся сюрпризы, – замечаю я.
Все знают, что они – очень церемонный народ; инфанта жила почти в заточении в бывшем гареме дворца Альгамбра.
– Она обещана, она была обещана двенадцать лет назад, и теперь ее доставят, – сухо отвечает Елизавета. – Что ей нравится, а что нет, не так и важно. Ни для короля и, возможно, уже даже ни для ее матери и отца.
– Бедное дитя, – говорю я. – Но ей не мог достаться жених краше и добрее Артура.
– Он славный молодой человек, правда? – Лицо матери теплеет от похвалы сыну. – И он опять вырос. Чем вы его кормите в Уэльсе? Он уже выше меня, думаю, будет таким же высоким, как мой отец.
Она осекается, словно это измена – упомянуть ее отца, короля Эдуарда.
– Будет таким же высоким, как король Генрих, – прихожу я ей на помощь. – И, будет на то воля Божья, из нее получится такая же хорошая королева, как из вас.
Елизавета дарит мне одну из своих ускользающих улыбок.
– Может быть, и получится. Может быть, мы подружимся. Думаю, она может быть немного на меня похожа. Ее растили королевой, как и меня. И мать у нее решительная и отважная, какой была моя.
Возвращения жениха и его отца из рыцарского странствия мы ждем в детской. Маленького принца Гарри, десяти лет от роду, разволновали эти приключения.
– Он подскачет и возьмет ее в плен?
– О нет, – отвечает его мать, сажая на колени свою младшую девочку, пятилетнюю Марию. – Так не пойдет. Они приедут туда, где она остановится, и попросят их принять. Потом станут расточать ей похвалы, может быть, пообедают с ней, а потом уедут наутро.
– А я бы подскакал и взял ее в плен! – похваляется Гарри, поднимая руки, словно сжимает вожжи, и галопируя по комнате на воображаемой лошади. – Я бы подскакал и тут же на ней женился. Она слишком долго не ехала в Англию. Я бы не снес промедления.
– Снес? – спрашиваю я. – Что за слово такое «снес»? Что, скажите на милость, вы читали?
– Он все время читает, – с любовью отзывается его мать. – Такой ученый. Читает романы и богословские труды, молитвы и жития святых. По-французски, по-латыни и по-английски. Начал учить греческий.
– И еще я музыкант, – напоминает нам Гарри.
– Очень одаренный, – с улыбкой уверяю его я.
– И езжу верхом, на больших конях, не просто на маленьких пони, и с ловчей птицей тоже умею управляться. У меня есть своя собственная, ястреб по имени Рубин.
– Вы, без сомнения, истинный принц, – говорю ему я.
– Мне нужно поехать в Ладлоу, – отвечает он. – Поехать в Ладлоу с вами и вашим мужем и выучиться управлять страной.
– Мы будем вам очень рады.
Он прекращает скакать по комнате, подходит, встает коленями на стул передо мной и обхватывает ладонями мое лицо.
– Я хочу быть хорошим принцем, – очень серьезно произносит он. – Правда хочу. Что бы ни поручил мне отец. Править Ирландией или командовать флотом. Куда бы ни послал. Вы не поймете, леди Маргарет, потому что вы не Тюдор, но это призвание, божественное призвание – родиться в королевской семье. Это судьба – родиться в роду королей. И когда моя невеста приедет в Англию, я поеду ей навстречу, переодевшись, чтобы она увидела меня и сказала: «О! Кто этот красивый юноша на таком огромном коне?» А я скажу: это я! И все закричат: ура!
– Все пошло не так, – мрачно говорит Артур матери.
Он приходит в ее покои перед обедом, пока королева одевается. Я держу ее корону, глядя, как служанка расчесывает ей волосы.
– Когда мы добрались, она уже легла, и прислала сказать, что не сможет нас принять. Отец не хотел мириться с отказом, он стал советоваться с лордами, которые нас сопровождали. Они согласились… – Артур опускает глаза, но мы обе видим его негодование. – Разумеется, они согласились, кто бы стал спорить? И мы поехали под проливным дождем к Догмерсфилдскому дворцу и настояли, чтобы она нас приняла. Отец пошел в ее личные покои, думаю, они поругались, а потом она вышла, в ярости, и мы сели за стол.
– Какая она? – спрашиваю я в тишине, когда все замолкают.
– Откуда мне знать? – жалобно отзывается Артур. – Мы едва перемолвились парой слов. С меня просто натекло по всему полу. Отец велел ей танцевать, и она исполнила испанский танец с тремя своими дамами. На ней была густая вуаль, так что я не видел ее лица. Наверное, она нас ненавидит за то, что заставили ее выйти к ужину, когда она отказалась. Она говорила по-латыни, мы обменялись парой фраз о погоде и о ее путешествии. Она очень страдала от морской болезни.
Я едва не смеюсь в голос, глядя на его унылое лицо.
– Ах, юный принц, не падайте духом! – говорю я, обнимая его за плечи и прижимая к себе. – Все только начинается. Со временем она вас полюбит и оценит. Она оправится от морской болезни и выучится говорить по-английски.
Я чувствую, как он жмется ко мне в поисках утешения.
– Правда? Вы в самом деле так думаете? Вид у нее был очень сердитый.
– Так полагается. А вы будете с ней добры.
– Милорд отец очень к ней внимателен, – говорит Артур матери, словно предупреждая ее.
Она криво усмехается.
– Вашему отцу по душе принцессы, – говорит она. – Он больше всего любит женщин королевской крови, когда они в его власти.
Я сижу в королевской детской с принцессой Марией, когда с урока верховой езды возвращается Гарри. Он сразу бросается ко мне, отпихивая локтем младшую сестру.
– Будьте осторожнее с Ее Светлостью, – напоминаю я.
Она хихикает; прелестная маленькая красотка.
– А где испанская принцесса? – нетерпеливо спрашивает Гарри. – Почему ее тут нет?
– Потому что она еще в пути, – отвечаю я, предлагая принцессе Марии яркий мячик; она берет его, осторожно подбрасывает и ловит. – Принцесса Катерина должна проехать по стране, чтобы люди ее видели, а потом вы поедете ей навстречу и сопроводите ее в Лондон. Ваш новый наряд готов, седло тоже.
– Надеюсь, я все сделаю, как нужно, – серьезно отзывается Гарри. – Надеюсь, конь будет послушным и мать будет мной гордиться.
Я обнимаю его.
– Все так и будет, – уверяю я. – Вы прекрасно будете держаться в седле, выглядеть будете как настоящий принц, и ваша матушка всегда вами гордится.
Я чувствую, как он распрямляет плечики, уже воображая, как будет смотреться в парчовом камзоле, верхом на коне.
– Да, гордится, – говорит он с тщеславием любимого сыночка. – Может, я и не принц Уэльский, я только второй сын, но она мной гордится.
– А принцессой Марией? – поддразниваю его я. – Самой хорошенькой принцессой в мире? Или принцессой Маргаритой?
– Да они всего лишь девчонки, – отвечает он с братской насмешливостью. – Кому они нужны?
Я слежу за тем, чтобы новые платья королевы должным образом пересыпали душистыми порошками, вычистили и вывесили в гардеробной, когда Елизавета входит и закрывает за собой дверь.
– Оставьте нас, – коротко говорит она служанке, ведающей гардеробом, и по ее тону я понимаю: случилось что-то очень дурное, королева никогда не бывает так немногословна с теми, кто ей прислуживает.
– Что случилось?
– Это Эдмунд. Кузен Эдмунд.
При звуке этого имени у меня слабеют колени; Елизавета усаживает меня на табурет, подходит к окну и распахивает его, так что в комнату льется прохладный воздух, и в голове у меня проясняется. Эдмунд – Плантагенет, как и мы. Сын моей тетки, герцог Саффолк, король к нему благоволит. Его брат стал предателем, он возглавил мятежников, выступивших против короля в битве при Стоуке, и погиб на поле боя; но Эдмунд де ла Поул, напротив, всегда был отчаянно верен, он был правой рукой короля Тюдора и его другом. Он – украшение двора, звезда турниров, красивый, смелый, блестящий герцог из Плантагенетов, радостный знак всем, что Йорки и Тюдоры живут бок о бок, любящей королевской семьей. Он входит в ближний придворный круг, этот Плантагенет на службе у Тюдора; он сменил масть, флаг развевается в другую сторону, алый и белый смешались в новой розе, и это пример нам всем.
– Арестован? – шепчу я; это мой самый сильный страх.
– Бежал, – коротко отвечает Елизавета.
– Куда? – в ужасе спрашиваю я. – О боже. Что он натворил?
– К императору Священной Римской империи Максимилиану, чтобы собрать против короля армию, – у нее перехватывает дыхание, словно слова застряли у нее в глотке, но ей нужно задать мне вопрос. – Маргарет… скажите… вы ничего об этом не знали?
Я качаю головой, беру Елизавету за руку, смотрю ей в глаза.
– Поклянитесь, – требует она. – Поклянитесь.
– Ничего. Ни единого слова. Клянусь. Он мне не доверился.
Мы обе умолкаем при мысли о тех, кому он обычно доверялся: о зяте королевы Уильяме Куртене, женатом на нашей кузине Катерине; Томасе Грее; нашем кузене Уильяме де ла Поуле; моем троюродном брате Джордже Невилле; нашем родственнике Генри Буршье. Мы составляем тщательно переписанную и широко известную сеть кузенов и родни, связанную узами брака и крови. Плантагенеты рассеяны по всей Англии: напористые, отважные, честолюбивые мальчики, мужчины-воины и плодовитые женщины. А против нас – четверо Тюдоров: старуха, ее беспокойный сын и их наследники Артур и Гарри.
– Что теперь будет? – спрашиваю я, встаю и иду через комнату закрыть окно. – Мне уже лучше.
Елизавета протягивает ко мне руки, и мы на мгновение обнимаемся, словно мы – все еще те девушки, что в страхе ждали новостей из Босуорта.
– Он не сможет вернуться домой, – печально произносит она. – Мы больше не увидим кузена Эдмунда. Никогда. А шпионы короля его точно найдут. У него теперь на службе сотни соглядатаев, они его отыщут…
– А потом отыщут всех, с кем он когда-либо говорил, – предрекаю я.
– С вами – нет? – снова спрашивает она. Ее голос падает до шепота. – Маргарет, по совести, с вами – нет?
– Со мной – нет. Ни единого слова. Вы же знаете, я глуха и нема, когда речь об измене.
– А потом или в этом году, или на будущий год, или через год его привезут домой и убьют, – глухо говорит Елизавета. – Нашего кузена Эдмунда. Нам придется смотреть, как он пойдет на плаху.
У меня вырывается тихий стон горя. Мы беремся за руки. Но в тишине, думая о нашем кузене и плахе на Тауэрском холме, мы обе знаем, что уже пережили и куда худшее.
Я не остаюсь на королевскую свадьбу, я еду подготовить Ладлоу к приезду юной четы, удостовериться, что там тепло и уютно. Король, улыбаясь, приветствует всех своих родичей Плантагенетов с излишней, надоедливой приязнью, и я рада, что покинула двор, потому что боюсь, что король своими любезными речами задержит меня в зале, пока его шпионы обыскивают мои покои. Самая страшная опасность исходит от короля, когда он выглядит довольным, ищет общества придворных, объявляет веселые забавы, зовет нас танцевать, смеется и прогуливается среди гостей, пока снаружи, в темных галереях и на узких улицах, делают свое дело его шпионы. Мне, возможно, и нечего утаивать от Генриха Тюдора; но это не значит, что я хочу, чтобы за мной следили.
Как бы то ни было, король повелел, чтобы молодые безотлагательно отправились после свадьбы в Ладлоу, и я должна все там для них приготовить. Бедной девочке придется распустить большую часть своей испанской свиты и ехать через всю страну в самую скверную зимнюю погоду в замок почти в двухстах милях от Лондона – и в целой жизни от удобства и роскоши ее родного дома. Король хочет, чтобы Артур показал всем свою невесту, чтобы все вдоль дороги были поражены следующим поколением Тюдоров. Он думает, как утвердить власть и блеск нового трона, но не думает о молодой женщине, которая скучает по матери в чужой стране.
Я заставляю слуг в Ладлоу перевернуть весь замок вверх дном, отскрести полы, вычистить каменные стены, а потом завесить их богатыми теплыми гобеленами. По моему приказу перевешивают ковры в дверях, чтобы избежать сквозняков, я покупаю у виноторговцев огромную новую бочку, распиленную пополам, которая будет служить принцессе ванной; моя кузина королева пишет мне, что инфанта собирается принимать ванну каждый день – невиданный обычай, от которого, я надеюсь, она откажется, когда почувствует, какие холодные ветра бьются в башни замка Ладлоу. Для предназначенной ей кровати шьются новые занавеси – мы все надеемся, что принц каждую ночь будет туда приходить. Я заказываю новые льняные простыни у лондонских торговцев тканями, и они присылают лучшие, самые лучшие, какие можно купить. Полы отскребаются, по ним рассыпают свежие сушеные травы, чтобы в комнатах чарующе пахло летним сеном и полевыми цветами. Я велю вычистить трубы, чтобы яблоневые поленья в комнате принцессы горели ярко, я требую со всей округи лучшую еду и сладчайший мед, самый вкусный эль, фрукты и овощи, сохраненные со времени сбора урожая, бочки соленой рыбы, копченое мясо, огромные круги сыра, который в этой части мира так вкусен. Я предупреждаю, что мне постоянно будет нужна свежая дичь, что придется забивать птицу и скот, чтобы кормить замок. Я убеждаюсь, что все сотни моих слуг, вся дюжина старших слуг наилучшим образом подготовились; а потом я жду, мы все ждем приезда четы, ставшей надеждой и светом Англии, тех, кто станет жить на моем попечении, учиться быть принцем и принцессой Уэльскими и зачинать сына – как можно скорее.
Я смотрю поверх скопища соломенных крыш городка на восток, надеясь увидеть развевающиеся знамена королевской гвардии, спускающейся по сырой скользкой дороге к Глэдфордским воротам, когда вижу вместо этого одинокого, быстро скачущего всадника. Я сразу понимаю, что он везет дурные вести: первая моя мысль – о родственниках, о Плантагенетах, пока я накидываю плащ и спешу вниз, к воротам замка, чтобы с колотящимся сердцем встретить гонца на мощеной дороге от широкой главной улицы; он спешивается передо мной, опускается на колено и протягивает запечатанное письмо. Я беру письмо, ломаю печать. Я боюсь, что мой мятежник-родственник Эдмунд де ла Поул схвачен и назвал меня своей сообщницей. Я так напугана, что не могу прочесть нацарапанные на странице буквы.
– В чем дело? – коротко спрашиваю я. – Что за вести?
– Леди Маргарет, жаль, что приходится вам это говорить: ваши дети были очень больны, когда я покидал Стоуртон.
Я щурюсь на неразборчивый почерк и заставляю себя прочесть краткую записку от мажордома. Он пишет, что девятилетний Генри слег с красной сыпью и лихорадкой. Артур, которому семь, пока здоров, но опасаются, что заболела Урсула. Она плачет, похоже, что у нее болит голова, и у нее, на момент написания письма, точно поднялся жар. Ей всего три, опасный возраст для ребенка, выходящего из младенчества. Мажордом вовсе не упоминает о новорожденном Реджинальде. Остается думать, что он жив, здоров и у кормилицы. Ведь мажордом бы мне сообщил, если бы мой ребенок уже умер?
– Только не пот, – говорю я гонцу, называя болезнь, которой боимся мы все, болезнь, которая пришла за армией Тюдоров и почти истребила Лондон, когда горожане собрались приветствовать короля. – Скажите, что это не потливая горячка.
Он осеняет себя крестом.
– Не дай Бог. Думаю, нет. Никто еще…
Он осекается. Он хотел сказать, что никто еще не умер – что доказывает, что это не потливая горячка, которая убивает здорового мужчину за день, без предупреждения.
– Меня отправили на третий день, как мальчик заболел, – говорит гонец. – Он продержался уже три дня, когда я уехал. Возможно…
– А младенец Реджинальд?
– Он с кормилицей, в ее доме, его унесли.
Я вижу на его бледном лице свой собственный страх.
– А вы? Как вы, сударь? Никаких признаков?
Никто не знает, как болезнь попадает из одного места в другое. Некоторые верят, что гонцы разносят ее на своей одежде, на бумаге писем, так что тот, кто приносит тебе вести, приносит и смерть.
– Я здоров, хвала Господу, – отвечает он. – Ни сыпи, ни жара. Иначе я бы не приблизился к вам, миледи.
– Мне нужно домой, – говорю я.
Меня раздирает между долгом перед Тюдорами и страхом за детей.
– Скажите на конюшне, что я уезжаю через час, и передайте, что мне понадобится сопровождение и подменная верховая лошадь.
Он кивает и уводит коня под гулкими сводами к конюшням. Я иду приказать своим дамам укладывать мою одежду и сказать, что одной из них придется ехать со мной в эту зимнюю пору, потому что нам нужно в Стоуртон; мои дети больны, и я должна быть рядом с ними. Я скрежещу зубами, отдавая приказы: сколько нужно стражи, сколько еды, приторочить к моему седлу вощеный плащ на случай дождя или снега и еще подать тот, что я надену. Я не позволяю себе думать о цели поездки. Прежде всего я не позволяю себе думать о своих детях.
Жизнь – это риск, мне ли не знать. Кто лучше меня выучил, что младенцы легко умирают, что дети заболевают от самых незначительных причин, что королевская кровь губительно слаба, что смерть следует за моим родом, за Плантагенетами, как верный черный пес?
Своих домашних я застаю в тревоге и метаниях. Больны все трое детей, только младенец Реджинальд не потеет и не покрылся красной сыпью. Я сразу же иду в детскую. Старший, девятилетний Генри, спит тяжелым сном на большой кровати с балдахином, его брат Артур свернулся рядом, а в нескольких шагах мечется и ворочается в кроватке маленькая Урсула. Я смотрю на них и чувствую, как стискиваются мои зубы.
По моему кивку нянька переворачивает Генри на спину и поднимает его рубашку. Его грудь и живот покрыты красными пятнами, некоторые слились, лицо распухло от сыпи, а за ушами и на шее вовсе нет целой кожи, он – сплошная воспаленная язва.
– Это корь? – коротко спрашиваю я.






