О литературе. Эссе Эко Умберто
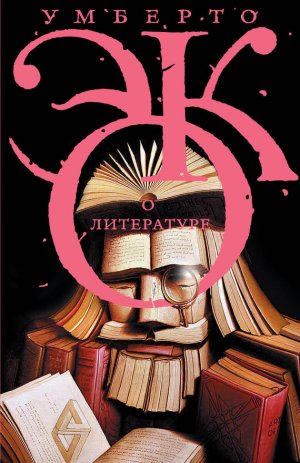
© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 2002–2010
© С. Сиднева, перевод на русский язык, 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016
Издательство CORPUS ®
Введение
Эта книга может показаться подборкой случайных эссе, хотя и касающихся одного предмета – литературы. Их произвольный характер объясняется темами семинаров, симпозиумов, конгрессов, собраний, на которых мне довелось выступать. Иной раз тема налагала определенные ограничения (хотя я всегда старался принимать участие в научных дискуссиях, проблематика которых была мне близка и интересна), так что отдельные мысли впоследствии следовало развить или, напротив, убрать.
Все эссе адаптированы для этой книги: некоторые из них я сократил, некоторые дополнил, из некоторых убрал слишком явные отсылки к конкретным обстоятельствам. Но я никогда не скрывал их случайный характер.
Читатель может заметить в ряде статей, написанных в разные годы, возврат к одним и тем же вопросам и примерам. Мне это кажется естественным: каждый из нас имеет собственный “саквояж образцов”, и повтор (если только он не раздражает читателя) как раз служит для их выявления.
Отдельные эссе носят скорее автобиографический характер: в них я выступаю в роли критика самого себя как писателя. Вообще-то такое смешение ролей мне не по душе, но иногда привлечение личного опыта необходимо, чтобы объяснить, что такое литература, по крайней мере, на неформальных встречах (а упомянутые мероприятия и были в большинстве своем неформальными). С другой стороны, “декларация поэтики” – вполне законный жанр.
О некоторых функциях литературы[1]
Согласно легенде, Сталин как-то спросил у папы римского, сколько у того дивизий. Даже если это выдумка, то весьма к месту. Последующие события показали, что армия, конечно, штука важная (в определенных обстоятельствах), но это еще не все. Существуют нематериальные ценности, которые нельзя взвесить, но которые все равно имеют вес.
И они не ограничиваются так называемой духовной силой вроде авторитета религиозных учений. Нематериальной властью обладает формула извлечения квадратного корня, чей суровый закон пережил века, и не только все декреты Сталина, но даже папские буллы. Подобную власть имеет и литература, иначе говоря, совокупность текстов, созданная и создаваемая человечеством не ради практической пользы (как учетные книги, своды законов, научные формулы, протоколы заседаний или расписания поездов), но по большей части из чистой любви к искусству. Литературу читают для развлечения, духовного развития, обогащения знаний, наконец, просто для того, чтобы убить время. В сущности, никто не принуждает вас читать эти тексты, если только речь не идет о школьных списках литературы.
По правде говоря, литература нематериальна только наполовину, так как существует на таком осязаемом носителе, как бумага. Но когда-то она передавалась голосом в устной традиции, воплощалась в камне. Сейчас мы спорим о будущем электронных книг, которые позволят нам читать хоть сборник анекдотов, хоть “Божественную комедию” на жидкокристаллическом экранчике. Сразу оговорюсь: я не собираюсь сейчас вдаваться в сложную дискуссию об электронных книгах. Естественно, я принадлежу к той категории читателей, которые предпочитают роман или стихотворение в бумажном томе и помнят, какой у него корешок и объем. Мне доводилось слышать, что в последнее время выросло поколение компьютерщиков, которые за всю свою жизнь ни одной книжки не прочли, но с появлением e-books хоть немного приблизились к читающему миру и узнали, например, кто такой Дон Кихот. Конечно, они приобрели новое знание, но ухудшили зрение. А если грядущие поколения обретут гармонию (психологический и физический баланс) с электронной книгой, власть “Дон Кихота” останется неизменной.
Какова практическая польза от литературы, спросите вы меня? На это достаточно ответить, что читают люди ради самого процесса, а следовательно, процесс этот не обязан нести практическую пользу. Но таким упрощенным объяснением, не берущим в расчет воздействие на читателя, мы рискуем приравнять литературу к бегу трусцой или разгадыванию кроссвордов, которые, впрочем, не лишены полезности: первый – для телесного здоровья, второе (как лексическое упражнение) – для пополнения словарного запаса. Поэтому я хочу поговорить о некоторых функциях литературы в нашей личной и общественной жизни.
Прежде всего литература использует язык как коллективное наследие. Язык, естественно, сам выбирает пути развития, никакое постановление свыше, ни одна политическая система, ни одна академия не могут остановить его и направить в подходящее русло. Фашисты пытались заменить “бар” на “винный погребок”, “коктейль” на “петушиный хвост”, “гол” на “попадание мяча в сетку ворот”, “такси” на “общественный автомобиль”, но язык не обратил на это никакого внимания. Зато он принял такой чудовищный архаизм, как autista (водитель) вместо chauffeur (шофер). Возможно, потому, что язык избегал звучания, чуждого итальянскому уху. В языке сохранилось слово taxi, но постепенно, по крайней мере, в разговорной речи, оно превратилось в tassi.
Язык идет куда ему угодно, но прислушивается к литературе. Без Данте не было бы итальянского стандарта. Когда Данте в трактате “О народном красноречии” анализирует и предает анафеме различные итальянские диалекты и берется создать новый прекрасный народный язык, никто не решается делать ставки на столь дерзновенное начинание, и тем не менее поэт выигрывает партию со своей “Божественной комедией”. Правда, прежде чем народный язык Данте стал разговорным для всех итальянцев, прошло несколько веков. К тому же это удалось только потому, что общество тех, кто верил в литературу, продолжало придерживаться его языка как образца. А если бы этого образца не существовало, кто знает, имела ли бы успех идея политического объединения Италии. Возможно, именно поэтому Умберто Босси[2] не очень хорошо говорит по-итальянски.
Двадцать лет судьбоносных холмов, движения только вперед, значимых событий, плугов, которые прокладывают борозду будущего[3], в конце концов не оставили никакого следа в современном итальянском языке. Гораздо больше следов осталось от некоторых смелых экспериментов футуристов, в свое время считавшихся неприемлемыми. И если в наше время кто-то жалуется на торжество усредненного итальянского, который распространяет телевидение, не будем забывать, что призыв к усредненному итальянскому – в его самой благородной форме – прошел через ясную и понятную многим прозу Мандзони, Итало Свево и Альберто Моравиа.
Влияя на формирование языка, литература создает национальную идентичность и общность. Ранее я упомянул Данте, но представим, чем бы была греческая цивилизация без Гомера, немецкий народ без лютеранского перевода Библии, русский язык без Пушкина, Индия без “Махабхараты”.
Литература также способствует развитию нашего индивидуального языка. Сегодня многие жалуются на новый телеграфический язык, который насаждается электронной почтой и эсэмэсками и на котором даже для того, чтобы написать всего три слова “я тебя люблю”, прибегают к сокращениям. Однако не будем забывать, что молодые люди, использующие подобную стенографию для своих посланий (или, по крайней мере, некоторые из них), – это те самые читатели, что толпятся в новых соборах книги, то есть в крупных книжных магазинах. Даже когда ребята просто перелистывают страницы, ничего не покупая, они все равно соприкасаются с высокими и изысканными литературными стилями, о которых едва ли имели представление их родители, а уж тем более деды.
Конечно, мы можем сказать, что, являясь большинством по сравнению с читателями предыдущих поколений, эти молодые люди составляют меньшинство по сравнению с шестью миллиардами населения планеты; и я не принадлежу к категории идеалистов, думающих, будто огромным толпам, лишенным пропитания и лекарств, литература может принести облегчение. Но позволю себе небольшое замечание: мерзавцы, от нечего делать объединяющиеся в банды, чтобы убивать прохожих, бросая камни с эстакады, или поджечь маленькую девочку, кем бы они там ни были, становятся таковыми не потому, что их развратил Newspeak, новый компьютерный сленг (вряд ли они вообще имеют доступ к компьютеру). Им попросту негде уловить хотя бы отголоски той системы ценностей, что черпается из книг и к книгам же отсылает, ибо путь к ней лежит через образование и сопутствующие ему дискуссии.
Чтение литературных произведений требует внимательного и уважительного отношения к авторскому замыслу: нельзя чрезмерно увлекаться вольной интерпретацией текста. Существует опасная ересь, типичная для литературоведа нашего времени, согласно которой в литературном произведении можно усмотреть все что угодно, читая его так, как нам заблагорассудится. Это неправильно. Литературные произведения призывают нас к свободе толкования, потому что позволяют воспринимать прочитанное с разных ракурсов и сталкивают нас с многозначностью как языка, так и самой жизни. Но чтобы продолжать эту игру, по правилам которой каждое поколение читателей прочитывает литературные произведения по-своему, необходимо исходить из глубокого уважения к тому, что я обычно называю интенцией текста.
С одной стороны, кажется, будто реальный мир – это “закрытая” книга, которая предполагает только одно-единственное прочтение, потому что им управляет один закон земного притяжения, и он либо верен, либо нет. По сравнению с этим книжный мир представляется нам “открытым”. Но подойдем к литературным произведениям, руководствуясь здравым смыслом, и попытаемся сравнить тезисы из книжных текстов с утверждениями, предлагаемыми реальным миром. Что касается реального мира, мы прекрасно знаем законы гравитации Ньютона и что Наполеон умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года. Тем не менее, имея гибкое мышление, мы будем готовы пересмотреть свои убеждения в тот день, когда ученые объявят новую формулировку великих планетарных законов, а какой-нибудь историк обнаружит новые неизданные документы, доказывающие, что на самом деле Наполеон погиб на бонапартистском корабле при попытке бегства с острова. В отношении же книг утверждения, что Шерлок Холмс был холостяком, что Красную Шапочку съел волк, а потом освободил охотник, что Анна Каренина бросилась под поезд, останутся верными и неизменными навсегда. Есть еретики, отрицающие божественную сущность Христа, или атеисты, подвергающие сомнению само его историческое существование, есть, наоборот, глубоко верующие люди, утверждающие, что он есть Путь, Истина и Жизнь, но есть и те, кто говорит о том, что Мессия еще не пришел в наш мир. В любом случае все эти мнения имеют право на существование. Но никто не будет принимать всерьез человека, который осмелится утверждать, будто Гамлет женился на Офелии, а Кларк Кент не супермен.
Литературные тексты не только сообщают нам факты, отныне не подлежащие сомнению, но и, в отличие от объективной реальности, четко дают понять, что в них важно и где вольная интерпретация недопустима.
В конце тридцать пятой главы “Красного и черного” Жюльен Сорель отправляется в церковь и стреляет в мадам де Реналь. Стендаль замечает, что рука Жюльена дрожала, поэтому он не попал в свою жертву с первого выстрела, затем герой стреляет снова, и женщина падает. Теперь представим, будто дрожащая рука и промах при первом выстреле доказывают: Жюльен отправился в церковь, не имея твердого намерения убить, он скорее поддался сиюминутному импульсу, порыву страсти. Этой интерпретации можно противопоставить другую: Жюльен с самого начала намеревался убить мадам де Реналь, но был трусом. Текст допускает оба прочтения.
Не исключено, что какой-нибудь дотошный читатель задается вопросом: куда попала первая пуля? Это было бы интересным исследованием для поклонников творчества Стендаля. Верные поклонники Джойса, например, приезжают в Дублин, чтобы отыскать аптеку, где Блум покупал лимонное мыло. Чтобы удовлетворить этих литературных паломников, та самая аптека (которая, кстати, существует на самом деле) возобновила производство того самого мыла. Следовательно, почему бы не представить себе верных поклонников Стендаля, пытающихся найти в реальном мире Верьер и церковь, в которой они будут разглядывать каждую колонну в поисках следа от пули? В данном случае речь идет о довольно любопытной игре, затеянной фанатами. Но представим литературоведа, желающего истолковать весь роман на основании эпизода о потерянной пуле. В наши времена это вовсе не абсурдно, хотя бы потому, что был один ученый, который выстроил интерпретацию “Похищенного письма” Эдгара По на основании положения письма по отношению к камину. Но если По четко указывает на значимость местонахождения письма, Стендаль говорит, что неизвестно, что сталось с той первой пулей, а следовательно, исключает ее даже из числа вымышленных единиц. Если оставаться верными тексту Стендаля, та пуля безвозвратно утрачена, и ее местоположение совершенно не важно для повествования. Напротив, недосказанное в другом романе Стендаля, “Арманс”, о возможной импотенции главного героя дает читателю повод к построению безумных гипотез, призванных реконструировать то, о чем текст умалчивает.
В романе Мандзони “Обрученные” фразочка вроде “и несчастная ответила” не говорит прямо, до какой степени Гертруда была вовлечена в греховную связь с Эджидио, но заставляет читателя строить догадки, что и составляет очарование этой страницы, столь целомудренно сдержанной.
В начале романа “Три мушкетера” сообщается о том, что Д’Артаньян въезжает в Мон на старой кляче четырнадцати лет от роду в первый понедельник апреля 1625 года. Любой приличный компьютер без труда сделает вычисление, согласно которому это произошло в понедельник 7 апреля. Лакомый кусочек для фанатов Дюма. Но можно ли на этом построить дополнительную интерпретацию романа? Я бы сказал нет, потому что для сюжета эта информация не важна. Для романа не столь важен и тот факт, что Д’Артаньян приехал в понедельник, в то время как месяц апрель определенную роль играет (напомню: чтобы скрыть, что его великолепный пояс расшит только спереди, Портос носил длинный бархатный плащ не по сезону и поэтому вынужден был притворяться простуженным).
Многим все это покажется очевидным, но именно такие очевидные факты, о которых мы часто забываем, доказывают, что в мире литературы есть положения, никакому сомнению не подлежащие, и что мир этот предлагает нам модель, если угодно, правды. Из непреложной литературной правды и должно исходить любое толкование. Что ответить тем, кто утверждает, будто Д’Артаньян испытывал гомосексуальное влечение к Портосу, будто Безымянный погряз в пороке из-за неуемного эдипова комплекса, а монахиня из Монцы испорчена коммунистическими идеями (гипотеза нашла бы отклик у некоторых политиков нашего времени), будто Панург в своих поступках руководствуется ненавистью к зарождающемуся капитализму? В самих романах невозможно найти ни фраз, ни намеков, хоть как-то подтверждающих подобные навороченные интерпретации. Мир литературы – это своеобразный тест на адекватное восприятие реальности.
Литературные персонажи кочуют. Мы можем делать достоверные утверждения о литературных персонажах, потому вся их история записана в тексте, а текст подобен музыкальной партии. Факт, что Анна Каренина кончает жизнь самоубийством; факт, что Пятая симфония Бетховена написана в до миноре (а не в фа мажоре, как Шестая) и начинается с соль-соль-соль-ми-бемоля. Но случается так, что некоторые персонажи – не все – выходят за рамки текста, в котором они родились, и перебираются в мир, с трудом поддающийся определению. Отдельные счастливчики кочуют из текста в текст, а те, кто не кочует, не то чтобы существенно отличались от своих более удачливых собратьев: просто им не довелось привлечь больше внимания к своей персоне.
Из текста в текст бродили (используя разные пути: из книги в фильм или балет, из устной традиции – в книгу) как мифологические персонажи, так и герои профанной литературы: Улисс, Ясон, король Артур, Парцифаль, Алиса, Пиноккио, Д’Артаньян. Сейчас, говоря об этих персонажах, обращаемся ли мы к точной “партитуре”? Возьмем, например, Красную Шапочку. Самые известные версии сказки, принадлежащие Шарлю Перро и братьям Гримм, существенно различаются. По первой версии, девочку пожирает волк, и сказка на этом заканчивается, побуждая читателя к серьезным размышлениям моралистического характера о последствиях неосмотрительного поведения. Во втором варианте приходит охотник, который убивает волка и спасает девочку и бабушку. Счастливый конец.
Теперь представим себе маму, которая рассказывает сказку своим детям и останавливается на том моменте, когда волк проглатывает Красную Шапочку. Дети стали бы протестовать и захотели бы “настоящую” историю, где Красной Шапочке удалось спастись, и, вздумай мама сослаться на строгие филологические принципы, ее бы вряд ли поняли. Дети знают “настоящую” сказку, которая ближе к “партитуре” братьев Гримм, а не Перро, но и с нею совпадает не полностью, поскольку пропускает ряд мелких деталей (в коих Гримм и Перро тоже расходятся – например, какие именно гостинцы Красная Шапочка несет бабушке). Но как раз в этом отношении дети охотно готовы идти на уступки, потому что речь идет о персонаже более чем условном, непостоянном в рамках традиции, зафиксированном во множестве партитур, прежде всего устных.
Так, Красная Шапочка, Д’Артаньян, Улисс или мадам Бовари живут за пределами своих текстов, и даже те, кто в глаза не видел первоначальных “партитур”, могут сказать об этих персонажах что-то более или менее конкретное. До того как я прочел “Царя Эдипа”, я уже знал, что Эдип женится на Иокасте. Несмотря на размытость, подобные тексты вполне верифицируемы: всякий, кто осмелился бы утверждать, что мадам Бовари помирилась с Шарлем и жила с ним долго и счастливо, столкнулся бы с неодобрением людей, обладающих здравым смыслом, как если бы существовал коллективный договор относительно судьбы этой героини.
Где живут кочующие персонажи? Все зависит от формата нашей реальности: допускает ли она существование квадратных корней, этрусского языка и двух догматов о Святой Троице – католического, согласно которому Святой Дух происходит и от Отца, и от Сына (ex Patre Filioque procedit), или византийского, согласно которому Святой Дух происходит только от Отца. Но это пространство обладает очень неопределенным статусом, и в нем допускаются единицы разного значения, потому как даже патриарх Константинопольский (готовый вступить в рукопашную с папой римским относительно догмата Filioque) согласился бы с папой (по крайней мере, я на это надеюсь), что настоящий Шерлок Холмс жил на Бейкер-стрит и что Кларк Кент и Супермен – одно лицо.
Тем не менее, даже если бы в бессчетных романах или поэмах было написано – придумаю первые попавшиеся примеры, – что Газдрубал убивает Коринну или Феофраст безумно любит Теодолинду, никто бы не подумал, что о них можно делать бесспорно верные утверждения, потому что речь идет о персонажах, родившихся под несчастливой звездой. Они не кочевали из текста в текст и не остались в коллективной памяти. Почему в этом мире более верным остается утверждение, что Гамлет не женился на Офелии, чем факт, что Феофраст женился на Теодолинде? Какое место здесь занимают Гамлет и Офелия, а какое – несчастный Феофраст?
Некоторые персонажи стали для общества в своем роде настоящими, потому что общество в течение многих веков или лет вкладывалось в них эмоционально. Мы со страстью отдаемся личным фантазиям, как будучи в уме и памяти, так и грезя наяву. Мы можем на самом деле страдать, воображая смерть любимого человека, или физически реагировать, представляя эротическую связь с ним. Равным образом в силу идентификации или проецирования мы можем сопереживать судьбе Эммы Бовари либо, как случалось в некоторых поколениях, кончать жизнь самоубийством из-за несчастий Вертера или Якопо Ортиса. Но на вопрос, в самом ли деле умер близкий нам человек, смерть которого мы вообразили, мы бы ответили “нет”, так как речь идет о нашем личном воображении. А вот если нас спросить, в самом ли деле Вертер кончил самоубийством, мы отвечаем “да”, так как эта выдумка не является личной, это культурная реальность, общая для целого легиона читателей. Так же мы сочтем безумцем человека, который покончит с собой, только представив, что его возлюбленная умерла, но найдем оправдание для того, кто наложит на себя руки из-за самоубийства Вертера, даже зная, что он вымышленный персонаж.
Мы должны найти место в мире, где эти персонажи существуют и определяют наше поведение так, что мы выбираем их как модель жизни, нашей собственной или других людей. Мы прекрасно понимаем друг друга, когда говорим, что у кого-то эдипов комплекс, раблезианский аппетит, кто-то наивен, как Дон Кихот, ревнив, как Отелло, кто-то мучается гамлетовскими сомнениями или ведет себя как неисправимый донжуан. И не только персонажи приходят из литературы в реальный мир, но и ситуации и предметы. Почему дамочки в гостиной, твердящие “Ах, что за художник Микеланджело!”, осколки бутылки, сверкающие на слепящем солнце, дорогие вещи дурного вкуса, страх в пригоршне пыли, изгородь, ясные, свежие и пресные воды, мерзостное брашно становятся навязчивыми метафорами, готовыми в любой момент повторить нам, кто мы есть и чего желаем, куда мы идем или даже чем мы не являемся и чего не хотим?
Эти литературные единицы среди нас. Они существовали не всегда, как (возможно) квадратные корни и теорема Пифагора, но, созданные литературой и вскормленные нашим воображением, они часть реальности, и мы должны принимать их в расчет. Во избежание онтологических и метафизических споров скажем так: они существуют как культурные привычки, как социальные установки. Но ведь и универсальное табу на инцест – всего лишь культурная привычка, идея, установка, однако установка достаточно мощная, чтобы повлиять на судьбу человеческого общества.
В наши дни бытует мнение, что и литературные персонажи рискуют превратиться в нечто ускользающее, подвижное, непостоянное, утратить свою неизменность, которая не позволяла нам свободно распоряжаться их судьбой. Мы вступили в эру гипертекста, и электронный гипертекст позволяет нам не только разматывать клубок текстов (будь то целая энциклопедия или полное собрание сочинений Шекспира) без необходимости изучать всю содержащуюся в нем информацию, проникая в него подобно спице в клубок шерсти.
Благодаря гипертексту возникла также практика свободного творческого письма. В интернете вы найдете программы, позволяющие коллективно писать истории, участвовать в создании повествований, сюжет которых можно менять до бесконечности. И если вы делаете это с текстом, созданным вами и группой ваших виртуальных друзей, почему бы не сделать нечто подобное и с уже существующими литературными текстами, подыскав программы, благодаря которым вы сможете менять великие истории, довлеющие над нами тысячелетиями?
Только представьте себе! Вы с увлечением читаете “Войну и мир” и спрашиваете себя: а что было бы, если бы Наташа уступила чарам Анатоля, если бы замечательный князь Андрей на самом деле не умер, если бы у Пьера хватило мужества выстрелить в Наполеона? И вот наконец вы можете переписать Толстого под себя, подарив Андрею долгую и счастливую жизнь, сделав Пьера освободителем Европы… И это еще не все! Вы вольны примирить Эмму Бовари с несчастным Шарлем, сделав ее счастливой и умиротворенной матерью. Ваша Красная Шапочка войдет в лес и встретит там Пиноккио, или ее похитит мачеха и заставит работать под псевдонимом Золушка у Скарлетт О’Хары. Или, быть может, она столкнется в лесу со щедрым дарителем по имени Владимир Яковлевич Пропп, и он подарит ей волшебное кольцо, с помощью которого наша героиня откроет у корней священного баньяна точку Алеф и увидит всю Вселенную. Анна Каренина не погибнет под колесами поезда, потому что русские узкоколейки при правлении Путина работают хуже подводных лодок, а где-то далеко-далеко в Зазеркалье Алисы Хорхе Луис Борхес напоминает Фунесу памятливому не забыть вернуть “Войну и мир” в Вавилонскую библиотеку…
Разве плохо? Вовсе нет, потому что и сама литература делала это еще до существования гипертекстов: достаточно вспомнить неосуществленный замысел “Книги” Малларме, изысканные трупы сюрреалистов, миллиарды стихотворений Кено, подвижные книги второй волны авангардистов. Именно этим занимались во время джазовых импровизаций на джем-сейшенах. Но сам факт, что существуют джем-сейшены, где каждый вечер импровизируют с вариациями темы, не мешает нам идти в концертный зал и слушать Сонату си-бемоль минор 35, которая каждый вечер будет заканчиваться на одной и той же ноте.
Кто-то сказал, что игра с механизмами гипертекста позволяет избежать двух форм репрессии: подчинения чужим решениям и проклятого разделения общества на писателей и читателей. Это, по-моему, глупость, но изобретательная игра с гипертекстом, изменение историй и создание новых, конечно, может стать увлекательным занятием, прекрасным упражнением для школьников, новой формой письма, очень близкой к джазовым импровизациям. Думаю, было бы замечательно и даже поучительно попробовать переписать уже существующие истории, как переложить Шопена с фортепьяно на мандолину: это позволило бы отточить музыкальное мастерство и понять, почему тембр фортепьяно был более “единосущен” Сонате си-бемоль минор. Полезно для развития вкуса и понимания форм было бы создать коллаж из фрагментов “Обручения Девы Марии” с “Девушками из Авиньона” и последней серией “Покемонов”. В сущности, многие великие художники так делали.
Но эти игры не замещают настоящей образовательной функции литературы – функции, которая не ограничивается передачей нравственных идей, дурных ли или благих, или развитием чувства прекрасного.
Юрий Лотман в “Культуре и взрыве” обращается к известному совету Чехова: если в начале рассказа или драмы на стене висит ружье, в конце оно должно выстрелить. Лотман дает нам понять, что проблема совсем не в том, выстрелит это ружье или нет. Именно тот факт, что мы не знаем, случится это или нет, создает интригу. Читать рассказ означает находиться в напряжении, томиться. Узнать в конце, выстрелило ружье или нет, не равно простой новости. Это настоящее открытие, что состояние дел не всегда было таковым, каким желал бы его видеть читатель. Читатель должен смириться с разочарованием и через него ощутить неотвратимость судьбы. Если бы можно было решать судьбы персонажей, мы бы отправились в турагентство и услышали: “Итак, где вы хотите увидеть кита, на Самоа или на Алеутских островах? Когда именно? Вы хотите убить его сами или предоставите это Квикегу?” Настоящий урок “Моби Дика” заключается в том, что Белый кит плывет куда захочет.
Представьте описание битвы при Ватерлоо в романе Дюма “Отверженные”. В отличие от Стендаля, который описывает битву глазами Фабрицио, находящегося внутри нее и не понимающего, что происходит, Гюго дает картину с точки зрения Бога, который видит ее сверху. Если бы Наполеон знал, что за гребнем возвышенности Мон-Сен-Жан начинается обрыв (но проводник не предупредил его об этом), кирасиры Мило не скатились бы под ноги английскому войску; если бы пастух, вызвавшийся быть проводником, посоветовал другой путь, прусская армия не подоспела бы вовремя, чтобы решить исход сражения.
Опираясь на гипертекст, мы можем переписать сражение под Ватерлоо, допустив, что приходит отряд во главе с Груши, а не немцы Блюхера, и на самом деле существуют компьютерные игры, которые позволяют так сделать, и это очень увлекательно. Но трагическое величие страниц Гюго заключается в том, что, несмотря на наши желания, все идет так, как оно идет.
Красота “Войны и мира” в том, что агония князя Андрея завершается смертью, как бы нам ни было жаль. Перечитывая великих трагиков, мы каждый раз горестно удивляемся, почему их герои, которые могли бы избежать ужасной судьбы, из-за слабости или слепоты не понимают, что их ждет, и низвергаются в пропасть, вырытую собственными руками. С другой стороны, Гюго говорит нам, показав какие иные возможности были у Наполеона при Ватерлоо: “Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был Бог”.
Именно об этом повествуют все великие истории, иногда заменяя Бога случаем или необратимыми законами жизни. Функция “неизменяемых” рассказов в том и состоит, что вопреки нашему желанию изменить судьбу нас заставляют почти физически ощутить ее необратимость. И о чем бы ни были эти рассказы, они всегда говорят о нас – за это мы их и любим.
Мы нуждаемся в их суровом “репрессивном” уроке. Гипертекст может научить нас свободе творчества. Это хорошо, но это еще не все. “Неизменяемые” рассказы учат нас умирать.
Я считаю, что это приучение к мысли о неотвратимости судьбы и неизбежности смерти – одна из самых главных функций литературы. Возможно, есть и другие, но сейчас они не приходят мне на ум.
Чтение “Рая”[4]
“Почему “Рай” Данте читают столь мало и без особого энтузиазма? Прежде всего потому, что произведение кажется монотонным и утомительным диалогом между учителем и учеником”. Так пишет Франческо Де Санктис в своей “Истории итальянской литературы”, выражая тем самым сокровенные мысли каждого ученика классического лицея, которому не повезло с преподавателем. С другой стороны, достаточно пролистать любую из новейших “Историй литературы”, чтобы найти замечание, что критики романтизма низко оценили “Рай”, и это проклятие висело над произведением во все последующие века.
Я же утверждаю, что “Рай”, безусловно, одна из самых прекрасных частей “Комедии”. Вернемся к Де Санктису. Конечно, он был человеком своего времени, но также и весьма чутким читателем. Его прочтение “Рая” становится произведением искусства в результате внутренней мучительной борьбы между принятием и отрицанием, между увлеченностью и недоверием.
Де Санктис, будучи читателем необыкновенно чутким, прекрасно понимает, что в своем “Рае” Данте вынужден говорить о невыразимых вещах, о царстве духа, и задается вопросом, как можно “изобразить царство духа”. Поэтому, считает он, чтобы выразить свой “Рай” художественными средствами, Данте представляет рай людской, постижимый чувствами и воображением, а опору для наших возможностей восприятия ищет в свете. И здесь Де Санктис становится увлеченным читателем этой поэзии, в которой нет качественных определений, но только интенсивность освещения. Он приводит цитаты, наполненные облаками, “как адамант, что солнце поразило”[5], святыми ангелами, что появляются, “как войско пчел, которое слетает к цветам”, потоками живых искр, светящимися реками, блаженными, исчезающими, “как тонет груз”. Также Де Санктис отмечает, что, когда святой апостол Петр негодует, поминая папу Бонифация VIII (он представляет Рим в терминах, близких к описанию ада: “…возвел на кладбище моем сплошные горы кровавой грязи”), все небо выражает свое негодование, просто окрашиваясь в красный свет.
Но достаточно ли поменять цвет, чтобы выразить человеческие страсти? И здесь Де Санктис становится заложником собственной поэтики: “В этом водовороте исчезает личность, невозможно различить лица, но только одно-единственное лицо… Эта неопределенность форм и самой личности ограничивает “Рай”… Песни душ бессодержательны, это голоса, а не слова, музыка, а не поэзия… И все это только одна волна света… индивидуальность исчезает в море бытия”. Неприемлемый недостаток, если исходить из идеи, что поэзия – это выражение человеческих страстей, а человеческая страсть может быть только плотской: тогда нужно вставить Паоло и Франческу, которые, дрожа всем телом, целуются в губы, или ужас “мерзостного брашна”, или проклятого грешника, который показывает кукиш Богу?
Противоречия, с которыми сталкивается Де Санктис, обусловлены двумя заблуждениями. Первое – будто Данте тщетно, хоть и оригинально, пытается представить божественное только через интенсивность света и цвета, чтобы очеловечить то, что человек не в состоянии воспринять; второе – будто поэзия есть только в изображении плотских и сердечных страстей, а поэзии чистого разума не существует, так как в этом случае она превращается в музыку. (Тогда было бы уместно посмеиваться не над добрым Де Санктисом, а над его наивными последователями, которые готовы утверждать, что в Бахе нет поэзии вообще, а в Шопене – чуть-чуть, что якобы “Хорошо темперированный клавир” и “Вариации” Гольдберга не говорят нам о земной любви, зато прелюдия “Капли дождя” наводит на мысль о Жорж Санд и о чахотке, и потому это настоящая поэзия, ибо заставляет нас плакать.)
Рассмотрим первый пункт. Кино и ролевые игры заставляют нас думать о Средневековье как о “темных” веках, не в идеологическом смысле (который не волнует кинематограф), а в смысле цвета ночи и мрачных теней. Нет более ошибочного предубеждения. Конечно, люди Средневековья жили в темных лачугах, лесах, под сводами замков, в тесных помещениях, едва освещенных камином. Но – не говоря уже о том, что средневековые люди ложились спать рано, а значит, большая часть их жизни проходила днем, а не ночью (которую так полюбят романтики) – само себя Средневековье представляет в ослепительно ярких красках.
Средневековая красота заключалась (кроме пропорций) в свете и цвете и достигалась именно сочетанием простых цветов: красного, голубого, золотого, серебристого, белого и зеленого – без оттенков и полутонов. Блеск рождался из согласованности целого, а не зависел от такого света, который объемлет предметы снаружи или заставляет цвет выходить за пределы фигуры. При взгляде на средневековые миниатюры кажется, что они излучают свет.
По Исидору Севильскому, мрамор красив из-за белого цвета, металлы – из-за способности излучать свет, и сам воздух прекрасен и так называется потому, что слово aes – aeris восходит к блеску aurum, золота (ибо блестит подобно золоту, едва его коснется свет). Драгоценные камни красивы из-за их цвета, учитывая, что цвет есть не что иное, как плененный свет солнца в очищенной материи. Глаза прекрасны, если они лучезарны, и особенно хороши зеленовато-синие глаза. Один из основных признаков красивого тела – розоватая кожа. У поэтов яркий цвет присутствует везде: трава зеленая, кровь красная, молоко белое, прекрасная женщина у Гвиницелли лицом “бела, как снег” (не говоря уже о более поздних ясных, свежих и сладчайших водах). В мистических видениях Хильдегарды Бингенской мы встречаемся со сверкающим пламенем, а красота падшего ангела уподоблена камням, сверкающим словно звездное небо, так что сноп искр озаряет своим светом мир. Готическая церковь, дабы пропустить божественное в темные нефы, пронизана светом, проникающим через витражи. Чтобы дать место этим световым коридорам, расширяются резные круглые окна, стены почти исчезают благодаря пересечениям контрфорсов и стрельчатых арок, а все здание построено так, чтобы его структура преломляла свет.
Хёйзинга напоминает нам про средневекового хрониста Жана Фруассара, который с восторгом описывает корабли с развевающимися флагами, сверкающие на солнце разноцветные гербы, игру солнечных лучей на шлемах, доспехах, наконечниках копий, флажки и стяги рыцарей. Гербы опять же восхищают сочетаниями бледно-желтого и голубого, оранжевого и белого, оранжевого и розового, розового и белого, белого и черного цветов; там же упомянута девушка в одеянии из фиолетового шелка на белой лошади, покрытой попоной из голубого шелка, лошадь ведут трое юношей в ярко-красном шелку и в зеленых шелковых шапочках.
Истоки этой страсти к свету – в теологии, восходящей, в свою очередь, к древней платонической и неоплатонической традиции (концепция добра как солнца, простая красота цвета, преодолевающая темную материю, видение Бога как Светильника, Огня, Светоносного Источника). Теологи превращают свет в метафизический принцип, и так как в эти века – не без арабского влияния – развивается оптика, она порождает размышления о чудесной радуге и отражениях (смутно таинственные зеркала там и тут появляются в третьей песни).
Итак, Данте не изобрел, играя с переменчивой материей поэзии, свою собственную поэтику света. Он взял ее из окружающего мира и интерпретировал для читателей, которые обожали цвет и свет. Если прочесть одно из самых замечательных исследований дантовского “Рая” (“Аспекты поэзии Данте” Джованни Джетто, 1947), становится ясно, что в рае Данте нет ни одного образа, который бы не восходил к традиции, знакомой средневековому читателю, и я имею в виду не отвлеченные идеи, а повседневные фантазии и чувства. Именно к библейской традиции и Отцам Церкви отсылают все эти сияния, огневые вихри, лампады, солнца, вся эта ясность и блеск, “подобный горизонту пред рассветом”, все эти белоснежные розы и багряные цветы. Как говорил Джетто: “У Данте в распоряжении была лексика, точнее, уже сложившийся язык для выражения реальности духовной жизни, мистического опыта души, переживающей катарсис, удивительную радость благодати, прелюдию радостного и священного периода”. Средневековый человек читал про этот свет примерно так же, как мы мечтаем о мимолетной благосклонности какой-нибудь кинодивы или представляем изящный корпус дорогого автомобиля, грезим об утраченной любви или возлюбленных, кратких встречах, увядших листьях, склянках, безделушках и духах, только со страстностью и душевным содроганием, нам неведомыми. И это ученая поэзия и диалог между учеником и учителем?!
Рассмотрим второе ложное предубеждение, будто не существует истинной поэзии в ученых стихах, будто можно трепетать, только читая о поцелуе Паоло и Франчески, а не об архитектуре небес, природе Троицы, о вере как основе надежды и аргументах в пользу существования незримого. Именно призыв читать поэзию ума может сделать “Рай” привлекательным и для современного читателя, который с трудом поймет отсылки, ясные для его средневекового собрата. Зато у современного читателя было время, чтобы познакомиться с поэзией Джона Донна, Элиота, Валери или Борхеса, и он знает, что поэзия бывает метафизической.
Что касается Борхеса, у кого он позаимствовал идею Алеф, той роковой точки, от которой он видел “густо населенное море, рассвет и закат, толпы жителей Америки, серебристую паутину внутри черной пирамиды, разрушенный лабиринт (это был Лондон)… в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, что и тридцать лет назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, в Инвернессе женщину, которую он никогда не забудет, загородный дом в Адроге, экземпляр первого перевода Плиния, одновременно каждую букву на каждой странице, закат в Керегаро, в котором словно бы отражался цвет одной бенгальской розы, в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими, берег Каспийского моря на заре, в витрине Мирсапура испанскую колоду карт, тромбы, бизонов, морские бури и армии, всех муравьев, сколько их есть на Земле, персидскую астролябию и жуткие останки того, что было упоительной Беатрис Витербо”?[6] Первый Алеф – это последняя песнь “Рая”, когда Данте видит (и поэтому позволяет и нам увидеть), что “любовь как в книгу некую сплела то, что разлистано по всей вселенной: суть и случайность, связь их и дела, все слитое столь дивно для сознанья”. При описании “универсальной формы этого узла”, с отстраненным умом и скупой речью, Данте видит три равноемких круга разных цветов, а не жуткие останки Беатрис Витербо, потому что его Беатриче уже давно истлела и сейчас превратилась в свет. Следовательно, Алеф Данте увлекательнее, так как несет в себе надежду, в отличие от порожденного галлюцинацией Алефа Борхеса, который прекрасно знал, что вход в эмпиреи ему заказан и остается только Буэнос-Айрес.
А стало быть, в свете вековой истории ученой поэзии “Рай” Данте может быть сегодня прочитан и распробован лучше. Чтобы поразить воображение молодых читателей или тех, кого не интересует ни Бог, ни разум, добавлю, что “Рай” Данте – это апофеоз виртуальной реальности, в чистом виде нематериальный software, не отягощенный земным и адовым “жестким диском”, от которого остаются только обрезки “Чистилища”. “Рай” – это даже не современность: для читателя, не очень хорошо разбирающегося в истории, он может стать пугающе прекрасной моделью будущего. Это торжество чистой энергии, какое обещает нам веб-паутина, неспособная, однако, его дать. Это воспевание световых потоков, бесплотных тел, поэма, созданная из карликовых звезд и непрерывного Большого взрыва. Это история, события которой тянутся световыми годами; это, если хотите более близкий пример, славная “Космическая одиссея” со счастливым концом. При желании вы можете прочесть “Рай” именно так. Ничего дурного в этом не будет, и он покажется вам увлекательнее стробоскопической дискотеки или экстази. Потому что, в отличие от экстази, третья часть “Божественной комедии” сдерживает свои обещания.
О стиле “Манифеста”[7]
Было бы самонадеянно утверждать, что красивые тексты способны изменить мир. Целое творение Данте не смогло заменить Священную Римскую империю итальянскими коммунами. Тем не менее стоит вспомнить такой текст, как “Манифест коммунистической партии” 1848 года, который сильно повлиял на события двух веков. Я думаю, что стоит даже его перечитать из-за его художественных достоинств или, по крайней мере, – пусть даже не по-немецки – как совершенный по структуре образчик ораторского искусства.
В 1971 году появилась брошюра венесуэльского автора Людовика Сильвы “Художественный стиль Маркса”, переведенная Бомпьяни в 1973 году. Я думаю, что сейчас трудно найти это редкое издание, хотя следовало бы. Исследуя формирование Маркса как писателя (мало кто знает, что он писал стихи, пусть даже плохонькие с точки зрения тех, кому довелось их прочесть), Сильва подробно изучил все марксистские труды. Интересно отметить, что о “Манифесте” исследователь написал всего несколько строк, считая его, по всей видимости, недостаточно авторским произведением Маркса. Жаль, так как речь идет о поистине выдающемся труде, сочетающем апокалиптические нотки с иронией, действенные лозунги с четкими разъяснениями. Если капиталистическое общество желает отомстить за беспокойство, причиненное ему этими несколькими страницами, “Манифест” должен внимательно изучаться как священный текст в школах копирайтеров.
“Манифест”, как Пятая симфония Бетховена, начинается с потрясающего удара тимпана: “Призрак бродит по Европе” (не стоит забывать, что эпоха Маркса еще близка к преромантизму или расцвету готического романа и призраки воспринимаются всерьез). Затем следует обзор с высоты птичьего полета классовой борьбы от Древнего Рима до зарождения и развития буржуазии. Страницы, посвященные завоеваниям этого нового “революционного” класса, становятся его эпической поэмой, годной и в наше время для последователей либеризма (сторонников свободной торговли). Буржуазия почти в буквальном смысле “показана”, как на киноэкране. Это новая неудержимая сила, движимая потребностью в новых рынках сбыта. Она шествует по всему земному шару (и, по моему мнению, именно здесь Маркс, будучи евреем, вспоминает начало книги Бытия), переворачивает и изменяет даже самые отсталые страны, потому что “дешевые цены ее товаров – вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам”, восстанавливает и развивает города как знак и фундамент собственной власти. Буржуазия становится космополитской, глобалистской, она изобретает даже собственную литературу – не национальную, а мировую[8].
В завершение этого панегирика (который убеждает, так как создан с искренним восхищением) следует драматический поворот: волшебник не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями, победитель задыхается от перепроизводства, он вынужден вскормить своей грудью, вытолкнуть из своего нутра собственных могильщиков – пролетариат.
На сцену выходит новая сила. Изначально разделенная и рассеянная, она успокаивается, только разрушая машины, она используется буржуазией как пушечное мясо, годное только для того, чтобы бороться с врагами своего врага (абсолютные монархии, крупные землевладельцы, мелкая буржуазия). Потихоньку она поглощает собственных противников, таких как ремесленники, мелкие торговцы и землевладельцы, которых крупная буржуазия тоже превращает в пролетариат. Мятеж становится организованным, рабочие используют для связи средства, изобретенные буржуазией ради собственной выгоды, а также ее средства коммуникации. “Манифест” имеет в виду железные дороги, но предсказывает также иные средства массовой коммуникации (не стоит забывать, что Маркс и Энгельс в “Святом семействе” умело использовали “телевидение” своего времени, то есть бульварный роман, как модель коллективного сознания и критиковали его идеологию, оперируя языком и ситуациями, которые стали популярны как раз благодаря этому жанру).
В этот момент на сцене появляются коммунисты. Сначала для того, чтобы заявить, кто они такие и чего хотят. “Манифест” (какой великолепный риторический прием!) становится на позицию буржуазии, которая их боится, и задает страшные вопросы: вы хотите аннулировать собственность? Хотите общность жен? Хотите разрушить религию, родину, семью?
Здесь идет очень хитрая игра, потому что на все эти вопросы “Манифест” дает обнадеживающие ответы, как бы потакая противнику, а затем следует неожиданный удар в солнечное сплетение, который срывает аплодисменты пролетарской публики… Хотим ли мы аннулировать собственность? Конечно нет, ведь отношение к собственности всегда лежало в основе изменений. Разве Французская революция не отменила феодальную собственность, чтобы заменить ее на буржуазную? Хотим ли мы уничтожить частную собственность? Какая глупость, ее попросту не существует, ведь это собственность одной десятой населения в ущерб остальным девяти десятым. Итак, вы обвиняете нас в том, что мы хотим отнять “вашу” собственность? Ну что же, да, именно это мы и собираемся сделать.
Общность жен? Бросьте, мы просто хотим, чтобы женщина перестала быть инструментом воспроизводства. Вы утверждаете, будто мы намерены сделать жен общими? Общность жен изобрели вы сами, кроме собственных жен, вы используете жен рабочих, а также находите особое удовольствие в том, чтобы соблазнять жен друг друга. Лишение отечества? Но как можно лишить рабочих того, чего они и так не имеют? Напротив, для политического торжества мы хотим конституироваться как нация…
И так далее вплоть до шедевральной фигуры умолчания в ответе на вопрос о религии. Угадывается ответ “мы хотим отменить эту религию”, но текст не говорит об этом прямо: коснувшись такого деликатного момента, он не останавливается на нем, давая понять, что все изменения имеют свою цену, но лучше пока не наступать на больную мозоль.
Затем следует основная часть учения, программа движения, критика разных видов социализма, но читатель уже очарован предыдущими страницами. И если программная часть покажется затем слишком сложной, вот вам неожиданный поворот в конце, два лозунга, захватывающих дух, простых, запоминающихся и, как мне кажется, просто обреченных на невероятный успех: “Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей” и “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”.
Помимо того что “Манифест” отличается поэтической выразительностью и запоминающимися метафорами, он остается шедевром политической риторики и риторики вообще. Его следовало бы изучать в школе наряду с речами против Катилины или шекспировским монологом Марка Антония над телом Цезаря. Хотя бы потому, что, учитывая глубокие познания Маркса в области классической культуры, именно эти тексты и повлияли на его манифест.
Дымка Валуа[9]
Яоткрыл “Сильвию” почти случайно, когда мне было лет двадцать, и прочел ее, имея смутные представления о Жераре де Нервале. Эта повесть потрясла меня, тогда еще совершенно невинного юношу. Позднее я узнал, что на Пруста “Сильвия” произвела то же впечатление, что и на меня. Однако ни тогда я не мог, ни сейчас не могу выразить его лучше, чем это сделал Пруст в своей книге “Против Сент-Бёва”.
“Сильвия” – это не типично французская неоклассическая идиллия, как считал Барре, немного “реакционный” литературовед, и вовсе она не об укорененности в родной почве (не случайно же главный герой в конце рассказа теряет всякие корни). В “Сильвии” говорится о грани сна и яви, о чем-то вроде картины нереального цвета, которую мы видели за несколько минут до пробуждения и содержание которой тщетно пытаемся восстановить, проснувшись. “Сильвия” – “это сон о сне”, и, пытаясь вспомнить его, читатель “вынужден возвращаться к прочитанному, чтобы понять, где он…”. “Цвет “Сильвии” – пурпурный, цвет розы из пунцового или фиолетового бархата, а не акварельных тонов их умеренной Франции”. Это не образец “сдержанного изящества”, это “болезненная страсть”. Атмосфера “Сильвии” – “голубовато-пурпурная”. “Только дело тут не в словах, это невыразимо, это витает между строк, как утренняя дымка в Шантильи”[10].
В свои двадцать лет я не мог подобрать подходящих слов, однако всякий раз после прочтения новеллы чувствовал, будто мои глаза затуманены, но не так, как бывает во сне, а скорее, как бывает утром, перед самым пробуждением, когда первые осознанные мысли смешиваются с последними отблесками грез и теряется (или еще четко не определена) граница между сном и явью. Тогда я еще не успел прочесть Пруста, но уже испытал на себе эффект дымки.
За последние сорок пять лет я не уставал перечитывать новеллу и тщетно пытался объяснить себе и остальным, почему возникает это ощущение. Каждый раз мне казалось, что разгадка близка, но, вновь открыв книгу, я, пленник дымки, снова оказывался в начале пути.
Все же я постараюсь объяснить, почему и каким образом при прочтении текста создается это ощущение дымки. Но не бойтесь, следуя разъяснениям, обрести иммунитет к чарам “Сильвии”, узнав ее секрет. Более того, чем больше вы узнаете о ней, тем с большим изумлением перечитаете текст[11].
Лабрюни и Нерваль
Начну с очень важного замечания. Удалю-ка я сразу неудобного персонажа, а именно так называемого эмпирического автора. Эмпирический автор этого произведения – Жерар Лабрюни, который пишет под псевдонимом Жерар де Нерваль.
Если мы попытаемся прочесть “Сильвию”, думая о Лабрюни, то собьемся с верного пути. Например, поддадимся искушению, как некоторые литературоведы, и начнем выискивать в жизни автора факты, описанные в “Сильвии”. Многие издания и переводы новеллы снабжены комментариями биографического характера и размышлениями на тему, не является ли актриса Женни Колон прототипом Аврелии. (Когда я вижу ее портрет на обложках некоторых изданий, у меня просто опускаются руки.) Литературоведы также интересуются вопросами вроде: существует ли на самом деле общество лучников в Луази или все-таки стоит поискать его в Крейе? Получил ли Лабрюни наследство от дяди? Не является ли прототипом Адриенны Софи Доуз, баронесса Фешер? Карьера многих академиков была построена на дотошных исследованиях подобного рода, полезных для написания биографии Жерара де Нерваля, но совершенно непригодных для понимания “Сильвии”.
Жерар Лабрюни покончил жизнь самоубийством, после того как несколько раз безуспешно лечился в психиатрической клинике. Из одного его письма нам известно, что он написал “Сильвию” карандашом на разрозненных листках бумаги, пребывая в сильном возбуждении. Но если Лабрюни был сумасшедшим, то Нерваль, образцовый автор, которого мы постараемся выявить во время чтения, явно таковым не был. В тексте говорится о персонаже, находящемся на грани безумия, но сам текст явно написан человеком в здравом уме и памяти. Кто бы ни создал это произведение (будем называть его Нервалем), оно написано очень осознанно, его структура отличается внутренней симметрией глав, построенной на игре перекликающихся сцен и аллюзий.
Если Нерваль не является лишним персонажем этого произведения, кто же он такой? В первую очередь он – повествовательный прием.
Фабула и сюжет
Чтобы разобраться в повествовательных приемах Нерваля и понять, как ему удается добиться эффекта дымки, о котором я говорил, обратимся к таблице А[12]. По горизонтали расположены номера глав, слева по вертикали я восстанавливаю временную последовательность событий новеллы. То есть по вертикали я воспроизвожу фабулу, или историю, по горизонтали – сюжетную схему.
Сюжет – это то, что мы видим на поверхности повести. Он развивается постепенно: молодой человек выходит из театра, собирается поехать на праздник в Луази, во время своего путешествия вспоминает другое, давнее путешествие, приезжает на праздник, встречает там подругу своего детства Сильвию, проводит с ней день, возвращается в Париж, завязывает романчик с актрисой и, наконец (Сильвия уже замужем в Даммартене), начинает рассказывать свою историю. Учитывая, что сюжет начинается с того момента, как главный герой выходит из театра (условно: нарративное время 1), его развитие выделено черной жирной линией, охватывающей события того вечера и события следующих четырнадцати глав в сюжетной, а не “исторической” последовательности.
Но в основной сюжет вклиниваются воспоминания о прошедших временах, которые обозначены стрелочками, ведущими к пунктам, предшествующим времени 1. Сплошные вертикальные линии обозначают воспоминания главного героя, пунктирные линии – реальные события прошлого, восстанавливаемые по диалогам героев.
Например, между часом и четырьмя ночи герой вспоминает свое путешествие в Луази (время 1), которое на уровне сюжета занимает три главы, тогда как в главах 9 и 10 несколько эпизодов посвящено детству Сильвии и рассказчика (время 3). Благодаря этим обрывочным воспоминаниям восстанавливается фабула, иначе говоря, “историческая” последовательность событий новеллы: сначала главный герой был маленьким и любил Сильвию, подростком он встретил на празднике Адриенну, затем вернулся как-то вечером в Луази, наконец, будучи уже взрослым, решил опять навестить места своих детских и юношеских воспоминаний и так далее.
Сюжет – это то, что предстает перед нашими глазами, когда мы читаем книгу. Фабула не столь очевидна. Но как только мы стараемся восстановить ее, тогда-то и возникает эффект дымки, потому что не всегда ясно, о каком времени рассказывает лирический герой. Фабула воссоздается гипотетически, то есть события, описанные рассказчиком, возможно, происходили, когда ему было от десяти до двенадцати, затем от четырнадцати до шестнадцати и, наконец, от шестнадцати до восемнадцати лет. Но можно сделать и иной расчет времени, предположив, что наш герой был не по годам развитым или, наоборот, отставал в развитии.
А вообще любая реконструкция должна производиться на основе текста, а не биографии Лабрюни, как это делали некоторые исследователи, пытаясь датировать вечер в театре 1836 годом. Они заявляли, будто нравы и историческая ситуация, описанные в новелле, похожи на нравы и обстоятельства тех лет, а упомянутый в рассказе героя клуб должен был находиться в кафе “Валуа”, которое закрыли в конце 1836 года вместе с прочими игровыми домами. Если смешивать рассказчика с Лабрюни, возникнет слишком много проблем. Сколько же лет было молодому человеку в 1836 году? Когда он познакомился во время хоровода с Адриенной? Если Лабрюни (родившийся в 1808 году) оставил дом дядюшки в Мортфонтене в 1814-м (в возрасте 6 лет), то когда состоялся праздник с хороводом? А если он поступил в колледж Карла Великого в 1820 году в двенадцать лет, кто тогда возвращается летом в Луази и видит Адриенну? А в тот вечер, когда он выходил из театра, ему, значит, было 28? И если, как полагают многие исследователи, визит к тетушке в Отис состоялся тремя годами ранее, он, двадцатипятилетний парень, поддерживая игру Сильвии, переодевается егерем, а тетушка воспринимает его как миленького блондинчика? Паренек, который между делом (в 1834 году) получил наследство в три тысячи франков и уже совершил путешествие по Италии – настоящий ритуал инициации, – а также перевел в 1827 году “Фауста” Гете? Как видите, расчеты на основе биографических данных выходят не очень убедительными.
Жерар и Нерваль
Повесть начинается со слов Je sortais d’un theatre. Перед нами две единицы (Я и Театр) и глагол в несовершенном прошедшем времени.
Учитывая, что рассказчик – это не Лабрюни, которого мы предоставим его печальной судьбе, кто тогда этот Je (Я), от лица которого ведется повествование? В рассказе от первого лица Я – это главный герой, но не обязательно автор. Следовательно (оставим в покое Лабрюни), “Сильвия” написана Нервалем, который выводит на сцену некоего персонажа-рассказчика. Итак, у нас есть рассказ о рассказе. Во избежание недоразумений условимся, что Je (Я), выходящий в начале рассказа из театра, – это литературный персонаж по имени Жерар.
Но когда говорит Жерар? Он говорит в тот момент, который мы назовем нарративным временем (время N), то есть в тот момент, когда он начинает описывать и вспоминать свое прошлое, сообщая нам, как однажды выходил из театра (время 1 – время начала сюжета). Учитывая, что повесть была опубликована в 1853 году, мы могли бы предположить, что время N совпадает именно с тем годом, но мы должны отдавать себе отчет в том, что эта дата выбрана условно, как точка отсчета. К тому же мы не знаем, сколько лет проходит между временем 14 и временем N (скорее всего, немало, так как Сильвия к моменту N имеет уже двоих детей, которые в состоянии натянуть лук). Следовательно, вечер в театре мог произойти пятью или десятью годами ранее, если предположить, что во времени 3 Сильвия и Жерар сами еще были детьми.
Когда Жерар из времени N рассказывает о себе – юноше, который, в свою очередь, вспоминал о Жераре – подростке и ребенке, в этом нет ничего удивительного. Нам тоже случается рассказывать о себе следующим образом: “Я № 1, который говорит в данный конкретный момент, в восемнадцать лет (Я № 2) никак не мог забыть, как в шестнадцать лет (Я № 3) страдал от несчастной любви”. Но это вовсе не значит, что нынешний Я еще испытывает чувства Я-подростка и понимает грусть Я-восемнадцатилетнего. В крайнем случае этот Я-нынешний может вспомнить со снисходительной доброй улыбкой, каким он был и как изменился с тех пор. В каком-то смысле это именно то, что делает Жерар. Только вот, меняясь со временем, он уже не в состоянии сказать нам, с каким из своих прошлых Я он себя соотносит сейчас. Он настолько запутался в своей идентичности, что на протяжении всей истории ни разу не называет себя, за исключением тринадцатой главы, в которой представляется как Неизвестный. Но даже и столь бесспорное, на первый взгляд, прилагательное определяет кого-то другого.
Однако дело не только в том, что существует много Жераров. Персонаж, от имени которого ведется повествование, – это не всегда Жерар, а порой скорее Нерваль, который исподтишка вклинивается в рассказ. Заметьте, я сказал “рассказ”, а не “фабула” или “сюжет”. Фабула и сюжет распознаются только благодаря речи. Для ясности: при переводе “Сильвии” я изменил французскую речь оригинала на итальянскую, стараясь особо не менять фабулу и сюжет. Режиссер мог бы “перевести” сюжет “Сильвии” в фильм, позволив зрителю при помощи эффекта размытости кадра и флешбэков восстановить фабулу (не буду делать ставки на успех предприятия). Но он не сумел бы перевести речь так, как это сделал я, потому что ему пришлось бы претворять слова в образы, а ведь есть разница – написать “бледна, как ночь”[13] или показать бледную женщину.
Нерваль никогда не появляется в сюжете или фабуле, но в речи – да, и не только (как любой автор) для того, чтобы выбрать подходящие слова и составить фразы и периоды. Он незаметно перехватывает голос, говорящий с нами, образцовыми читателями.
Кто говорит (во втором абзаце третьей главы)“Вернемся на землю!”?[14] Жерар, обращаясь к самому себе в сомнениях по поводу личности Адриенны и Аврелии? Нерваль, обращаясь к своему герою или к нам, своим зачарованным читателям?
Когда Жерар едет в Луази, спеша попасть туда до рассвета, в тексте говорится: “Пока фиакр взбирается на склоны холмов, воскресим в памяти время, когда я так часто наезжал в эти места”.
Это Жерар из времени 3, который произносит внутренний монолог, используя форму настоящего времени? Или это Жерар из времени N, который говорит “пока фиакр поднимается, оставим его на некоторое время и попытаемся вернуться в прошлое”? И “воскресим в памяти” – это призыв, с которым Жерар обращается к себе, или это слова Нерваля, как бы вовлекающего нас, читателей, в процесс создания текста?
Кто говорит в начале четырнадцатой главы: “Такие вот химеры чаруют и сбивают нас с пути на утре жизни”? Это может быть и Жерар из времени N, соучастник и жертва своих прошлых иллюзий, но обратите внимание: приведенная фраза оправдывает порядок, в котором изложены события, а следующая непосредственно соотносится с читателями (“найдет отклик во многих сердцах”). Значит, здесь говорит скорее все-таки не Жерар, а автор “Сильвии”.
Об этой “игре голосов” написано много, но загадка так и остается неразрешенной. Потому что Нерваль нарочно ее нам оставил. Иначе зачем бы ему не только сочувствовать нашей растерянности (и разделять ее), но еще и прицельно усугублять путаницу? В течение четырнадцати глав мы не знаем, повествует ли рассказчик о собственном опыте или представляет кого-то, кто пережил описываемые события и эмоции. И с самого начала непонятно, действительно ли рассказчик переживает все это или только вспоминает.
Когда я выходил из театра?
С самой первой фразы на сцену выходит, если так можно сказать, тема театра, которая не покинет ее до самого финала. Нерваль был человеком театра, Лабрюни был действительно влюблен в актрису, Жерар любит женщину, которую лишь единожды увидел на сцене, и он вращается в театральном мире почти до конца повествования. Театр упоминается в “Сильвии” почти в каждом эпизоде: хоровод с Адриенной на лугу носит постановочный характер, как и праздник цветов в Луази (корзинка, в которой поднимают лебедя, – типичный театральный спецэффект), Жерар и Сильвия разыгрывают настоящую сценку в доме у тетушки, религиозный праздник в Шаалисе тоже в своем роде постановка.
Все читатели замечают, что для самых значимых сцен Нерваль использует театральное освещение. Сначала актриса появляется в свете рампы, затем в свете фонаря, но театральное освещение присутствует в произведении уже в первой сцене танцев на лугу, пронизанной лучами закатного солнца, проникающих сквозь листву. Адриенна поет, как бы отделенная от всех лунным светом (это именно тот тип подсветки, который используется в финальных сценах, когда актриса прощается со зрителями). В начале четвертой главы в “путешествии на Киферу” (которое, кроме прочего, представляет собой словесное описание картины в духе Ватто) сцена снова подсвечена сверху багровыми лучами вечернего солнца. Наконец, когда в восьмой главе Жерар является на бал в Луази, мы наблюдаем шедевр режиссерской работы. На стволы лип медленно надвигается тень, верхушки – в синеватой дымке, но постепенно бледный свет утра приходит на смену искусственному освещению, наступает день.
Не стоит обманываться простым прочтением “Сильвии” и говорить, что Жерар, находясь между сном и явью, пытается вернуться в реальность или что новелла построена на четком противопоставлении театра и реальности. Выходя из одного театра, Жерар сразу же оказывается в другом. Правда в том, что с самого начала новеллы герой упивается иллюзиями. Может показаться, что в третьей главе наконец-то начинается некоторое движение к реальности, потому что Сильвия, которую Жерар собирается навестить, “существует”. Он встречает ее и понимает, что это больше не дитя природы. Теперь девушка стала более утонченной, научилась петь как в опере. Нарядившись в тетушкин свадебный наряд, Сильвия собирается на бал-маскарад, более того, как заправская актриса она готова исполнить роль Адриенны и спеть ту самую песню, которую пела последняя в сцене, “поставленной” Жераром. Классическую театральную сценку разыгрывает и сам Жерар (в одиннадцатой главе), в последний раз пытаясь заинтересовать Сильвию.
Так театр иногда становится местом торжества утешительных иллюзий, а иногда местом разочарования. Основная проблема новеллы (и именно это создает дополнительный эффект дымки) не противопоставление реальности и иллюзии, но разлом, который проходит между этими двумя мирами и смешивает их.
Симметричность сюжета
Если мы вернемся к таблице А, то увидим, что четырнадцать глав, образующих сюжет, могут быть поделены на две части: действия одной части разворачиваются преимущественно ночью, действия другой – днем. Ночные эпизоды связаны с зыбким миром воспоминаний и сновидений: все переживается в состоянии эйфории, очарованности природой. Все идет неторопливо, описания полны праздничного ощущения и мелких подробностей. В дневной части Жерар описывает Валуа как декорацию, состоящую из искусственных руин, где те же самые места, которые он посетил раньше, воспринимаются трезвым взглядом и даже с некоторой досадой, количество пейзажных подробностей в их описании минимально.
Главы с четвертой по шестую, повествующие о том, что произошло после праздника, наполнены сказочными совпадениями, такими как появление лебедя и встреча с Сильвией, которая уже воплощает в себе прелести двух отвергнутых призраков. Жерар вступает в ночной лес (сообщница-луна, подобно свету рампы, озаряет скалы): вдалеке на темном фоне поблескивают пруды, воздух благоухает, на горизонте виднеются изящные средневековые развалины. В деревушке царит оживление, каморка, где Сильвия плетет кружево, дышит целомудрием, прогулка до дома тетушки – словно праздник цветов среди лютиков и колокольчиков, барвинков и наперстянок, оград и ручейков, которые молодые люди весело перепрыгивают. Ближе к истоку река Тева постепенно сужается, а потом превращается в озерцо на лугу с ирисами и гладиолусами. Что тут еще скажешь, Отис – воплощенная идиллия в духе семнадцатого века, воспевающая старые добрые времена.
Во втором путешествии (8–11 главы) Жерар приезжает, когда праздник уже закончился, цветы в волосах и на корсете Сильвии увядают, Тева начинает зацветать, на полях лежат стога сена, но они утратили былой пьянящий аромат. Если во время прошлого путешествия молодые люди весело перепрыгивали через ограды и ручьи, теперь им даже в голову не приходит пойти полями.
Жерар отправляется в дом дяди, не описывая подробно свой путь. Дом заброшен, собака умерла, сад одичал. Герой идет в Эрменонвиль, но птички почему-то не поют, дорожные указатели читаются с трудом. Перед ним показываются развалины храма Философии, лавры исчезли, а на искусственном пруду у башни Габриели “вскипает пена, жужжат насекомые”.
Воздух пропитан “предательскими испарениями”, впереди – Пустыня с “ее пыльным песчаником”, все грустно и одиноко. Когда Жерар оказывается в комнате Сильвии, он замечает, что канарейки заменили славок, новая и изысканная мебель – старую. Сама Сильвия больше не стучит весело своими коклюшками, а ловко управляется с “инструментом”; тетушка умерла. Прогулка до Шаалиса – теперь не самозабвенная беготня по лугам, а степенное шествие на ослике, во время которого герои не цветочки собирают, а с негласной опаской соревнуются в образованности. Ближе к монастырю Сен-С. приходится смотреть под ноги, потому что в траве вьются коварные ручейки.
Когда наконец в четырнадцатой главе Жерар возвращается в те же самые места, он не видит там даже лесов, Шаалис в процессе реставрации, “пруды, устроенные ценою огромных затрат, тщетно расстилают безжизненные воды, к которым больше не снисходят лебеди”, прямой дороги до Эрменонвиля нет, а пространство превратилось в бессмысленный лабиринт.
Поиск симметрий можно продолжать до бесконечности, чем многие исследователи и занимались, так как разные главы почти зеркально отображают друг друга (например, первая и последняя, вторая и тринадцатая и так далее, хотя эта симметрия не следует строго математическим правилам). Вот наиболее очевидные примеры.
На самом деле тревожная глава Шаалиса разрушает симметрию и отделяет первые шесть глав от остальных семи. С одной стороны, в седьмой главе обнаруживается противопоставление четвертой главе: аристократическая месса и народный праздник на острове (на сцене нет молодых людей, Жерар и брат Сильвии проскальзывают туда как непрошеные гости), закрытое пространство собора и открытое – Киферы, апокалиптическое пение Адриенны-монахини и милое пение Адриенны-девочки, похоронная процессия и любовные песни, одержимость Адриенной и новое завоевание Сильвии…
В этой главе также появляются и смутные намеки на мотивы других глав. Без всякой явной причины в ней возникают сцены со стрельбой из лука, часы, постановочный танец, корона из позолоченного картона и, прежде всего, лебедь. Многие исследователи полагают, что это не просто герб, выгравированный или вылепленный, который обозначает, согласно геральдической символике, служение, но настоящий лебедь, распятый на двери. Мне подобное утверждение кажется преувеличением, хотя во сне все возможно. Но в любом случае этот лебедь находится на полпути между двумя другими лебедями: живым и здравствующим из четвертой главы и исчезнувшим навеки – из четырнадцатой.
Выше уже говорилось о приемах снижения, но необязательно находить симметрию, чтобы выявить их: противопоставления действуют почти без ведома читателя, повторное упоминание какого-либо мотива вызывает чувство дежавю, но вместе с тем и ощущение, будто в виденной нами прежде картине недостает каких-то деталей.
Блуждание по кругу
Эффект дымки, эффект лабиринта: Пуле говорил о “превращениях круга”. Может быть, литературоведы увидели в “Сильвии” больше кругов, чем следует: магический круг сцены, концентрические круги танца на лугу, лужайка, окруженная деревьями, кружение девушек в танце и развивающиеся в этом хороводе колечки золотых волос Адриенны, наконец, три круга на первом празднике в Луази – пруд, остров и храм. Вместе с тем, как мне кажется, они недооценили другие круги.
Например, в девятой главе, когда герой посещает дом покойного дяди, слово “сад” повторяется три раза в одном абзаце. Это не просто стилистическая небрежность: существует три сада, принадлежащих разным периодам, но организованных концентрически если не в отношении пространства, то в отношении времени. Глаз Жерара как будто различает за садом настоящего времени дядюшкин сад, находящийся в более удаленном круге его детства, а также сад еще более удаленного круга Истории (сад как место археологических раскопок). Так этот тройной сад становится уменьшенной моделью всего рассказа, увиденного с конца. Герой смотрит на знакомые места взглядом разочарованного человека (нынешней сад – это скорее заросли сорняков), но они порождают смутные воспоминания волшебного детства. Затем, когда Жерар видит сад скорее не глазами, а через воспоминания, черепки, выставленные в кабинете его дяди, становятся отголоском времен древних римлян и друидов.
В каждом своем путешествии в Луази Жерар движется по кругу: сначала он едет туда из Парижа, чтобы вернуться назад в тот же день, затем едет из деревни и снова возвращается через пруды, леса и вересковые пустоши.
Это блуждание по кругу требует определенных усилий, но оно того стоит. Я решил составить подробную карту мест (таблица Б), чтобы помочь скорее переводчику, чем читателю. Хотя у меня перед глазами было несколько карт Валуа[15], я не стал изощряться в точности определения масштаба и старался представить приблизительную картину соответствий между деревнями и лесами. В любом случае предполагается, что от Люзарша до Эрменонвиля около двадцати километров, от Эрменонвиля до Луази – три, от Луази до Мортфонтена – два. В тринадцатой главе говорится, что танцы перед замком с участием Адриенны состоялись где-то в Орри. По моему мнению, первый и второй праздник были устроены в Луази возле прудов к северу от Мортфонтена, где берет начало река Тева (тогда она должна была находиться между Луази и Отисом).
Если читать новеллу, глядя на карту, может показаться, что пространство раздувается, как жевательная резинка, и меняет форму при каждом воспоминании. Почти невозможным представляется путь почтового дилижанса, который наворачивает круги, чтобы доставить Жерара в местечко неподалеку от Луази, но кто знает, какие тогда были дороги?
Путь, выбранный братом Сильвии ночью в Шаалисе, сбивает с толку всех топографов, которые выкручиваются, утверждая, что в ту ночь он был под хмельком. Правда ли, чтобы добраться от Луази в Шаалис, нужно пересечь Орри, а затем идти вдоль Алаттского леса? Или оба молодых человека отправились не из Луази? Иногда кажется, что Нерваль воссоздает свой собственный Валуа, в который неизменно вторгается Валуа Лабрюни. В тексте говорится, что дядя Жерара проживал в Монтаньи, в то время как мы знаем, что дядя Лабрюни жил в Мортфонтене. Если мы перечитаем внимательно текст, следя за таблицей, и предположим, что дядя Жерара жил в Монтаньи, мы обнаружим, что расчеты не совпадают и на самом деле он жил в Мортфонтене. Иными словами, в Валуа, описанном в новелле, Монтаньи и Мортфонтен поменялись местами.
В пятой главе Жерар утверждает, будто после танцев он провожает Сильвию и ее брата в Луази, а затем “возвращается” в Монтаньи. Совершенно очевидно, что герой может вернуться только в Мортфонтен, так как его путь лежит через рощу между Луази и Сен-С. (скорее всего, имеется в виду Сен-Сюльпис, находящийся на расстоянии выстрела от Луази). Он идет вдоль опушки Эрменонвильского леса, направляясь на юго-запад, а затем, вздремнув немного, видит перед собой стены Сен-Сюльписа, а вдалеке – Ратный холм и обветшалые строения Тьерского аббатства и замок Понтарме. Все эти объекты расположены на северо-западе от Луази, куда Жерар потом возвращается. Он никак не мог пойти по дороге, ведущей в Монтаньи, так как она сильно отклоняется на восток.
В начале девятой главы Жерар возвращается с праздника в Монтаньи, затем снова идет по дороге в Луази, в котором все еще спят, сворачивает к Эрменонвилю, оставляя Пустыню по левую руку, доходит до могилы Руссо, а значит, возвращается в Луази. Если бы он на самом деле шел в Монтаньи, ему пришлось бы проделать очень долгий путь, не говоря уже о том, что было бы бессмысленно через Эрменоновиль возвращаться в Луази, чтобы потом снова заглянуть в Эрменонвиль и в конце концов опять вернуться в Луази.
С биографической точки зрения, это может означать, что Нерваль решил поместить дом дяди в Монтаньи, но, забыв правила игры, продолжал вместе с Лабрюни думать о Мортфонтене. Но это не должно нас смущать, если только нам не придет в голову повторить прогулку героя. В тексте все подстроено так, чтобы заставить нас бродить, потеряв след, по Валуа, где воспоминания почти неотличимы от сна.
Если это так, зачем стараться любой ценой восстановить картографию новеллы? Думаю, нормальные читатели откажутся от этих попыток, предавшись простому очарованию названий, как я много лет назад. Еще Пруст отметил особую власть названий в этой новелле. Он утверждает, что у любого прочитавшего “Сильвию” должно вызывать трепет железнодорожное расписание, в котором обозначен населенный пункт Понтарме. Однако он также заметил, что другие места, известные в истории литературы, не вызывают подобного волнения. Почему же упомянутые в этой новелле топонимы запечатлеваются в нашем уме (или сердце), как музыкальный отрывок?
Ответ очевиден: потому что они возвращаются. Читатели не рисуют карты, но почти слышат (ушами), что при каждом возвращении в Валуа Жерар проходит по одним и тем же местам, почти в том же порядке. Все это напоминает повтор одного и того же мотива после каждой строфы. Подобная форма в музыке называется рондо и восходит к французскому термину rondeau, обозначающему круговой танец. Итак, читатели как бы слышат ушами некую круговую структуру. Они почти видят ее, пусть даже неясно, как некое движение по спирали или кружение вихря. Именно поэтому стоит восстановить карту местности, чтобы “увидеть” то, что намеками обозначено в тексте. Если вы посмотрите на мою таблицу, начиная от Луази, вы различите три круга, удаленных от центра. Они изображают три главные прогулки – не реальный путь, а предполагаемый. Самый бледный круг отсылает к ночной прогулке Жерара в пятой главе (от Луази и обратно с заходом в Монтаньи – на самом деле в Мортфонтен – через опушку Эрменонвильского леса рядом с Сен-Сюльписом, так что вдалеке виднеются Понтарме, Тьерское аббатство или Ратный холм). Круг потемнее отсылает к прогулке Жерара в девятой главе: герой проходит от того места, где был устроен праздник, до дома дяди, который должен находиться в Мортфонтене, затем он отправляется в Луази и Эрменонвиль до могилы Руссо, чтобы снова вернуться в Луази. Самый яркий круг – это прогулка Жерара и Сильвии в Шаалис в десятой и одиннадцатой главах: от Луази через Эрменонвильский лес до Шаалиса и обратно по Шарлемостской дороге. Прогулка до Отиса – это просто-напросто билет в XVIII век, туда и обратно.
Наконец, самый широкий круг, охватывающий всю таблицу Б, соотносится с блужданиями героя в компании Аврелии в тринадцатой главе. Жерар отчаянно желает все вернуть, но теряет даже основную цель своих первых скитаний. Ему никогда больше не обрести ее. В конце повести Сильвия живет в Даммартене, и возвращения, о которых говорится в четырнадцатой главе, – это всего лишь блуждания вокруг да около. Жерар, Сильвия и все остальные персонажи исключены из изначального магического круга, который Жерар видит только из окна гостиницы на большом расстоянии.
В любом случае уже бросается в глаза то, что отдаленным эхом отдавалось в ушах: во время своих путешествий Жерар только и делает, что движется по кругу (но не по ровному кругу, как в первом танце с Адриенной, а скорее как ночной мотылек вокруг лампы) и не может найти что-то, оставленное в первый раз. В данном случае следует согласиться с Пуле, который видел в этой кольцевой структуре метафору времени: правда, не столько Жерар кружит в пространстве, сколько время, прошлое героя, кружит в хороводе вокруг него.
Длительное незаконченное прошедшее время (имперфект)
Вернемся к первой фразе рассказа: Je sortais d’un theatre. Мы разобрали, что в ней обозначают Я и Театр, но теперь нам предстоит подумать над формой sortais. Над глаголом, стоящим в форме незаконченного прошедшего времени (имперфекта).
Имперфект – это длительное, повторяющееся время. Оно обозначает незавершенное действие, и достаточно чуть-чуть изменить контекст, чтобы действие стало еще и повторяющимся, то есть совершенным несколько раз. На самом деле Жерар выходил из того театра каждый вечер в течение года[16].
Прошу прощения за явную тавтологию, но несовершенное время называется так, потому что оно действительно несовершенное: действие разворачивается во времени, предшествующем настоящему, в котором мы говорим, но нам неизвестно, когда именно оно началось и сколько длилось. Именно в этом его очарование. Комментируя творчество Флобера, Пруст говорил: “Должен признаться, что использование формы изъявительного наклонения имперфекта – этого жестокого времени, которое представляет нашу жизнь как нечто эфемерное и пассивное и вместе с тем создает иллюзию действий, сводя их на нет в прошлом, не оставляя нам, как простое прошедшее, утешения результатом деятельности, – всегда было для меня неиссякаемым источником таинственной грусти”[17].
Основная причина, по которой в “Сильвии” употребляется имперфект, – это как раз намерение автора заставить нас потерять ощущение времени. Оно используется в новелле с видимой щедростью, но с математическим расчетом, и обратите внимание, что в третьей редакции “Сильвии” Нерваль добавляет больше форм имперфекта. В первой главе в версии 1853 года, когда Жерар обнаруживает, что разбогател, он пишет: “Что сказал бы, – подумал я, – тот молодой человек…”, а затем: “я вздрогнул от этой мысли…”. В версии 1854 года “подумал я” исправлено на “думал я”. На самом деле прошедшее длительное время появляется в этих строчках, чтобы показать ход мыслей рассказчика в их развитии: в течение нескольких секунд (или минут) Жерар лелеет мысль о возможном завоевании актрисы, но так и не принимает никакого решения. А затем вдруг, вернувшись в простое прошедшее время (“я вздрогнул”), решительно отказывается от своей фантазии.
Напротив, в конце второй главы варианта 1853 года, Адриенна “уезжала в монастырский пансион”, но в варианте 1854 года она туда “уехала”. Стоит перечитать этот фрагмент. До сих пор действия описывались в прошедшем незавершенном времени, как бы напускающем туману вокруг сцены, и только в этот момент происходит нечто реальное и определенное, не принадлежащее миру снов. На следующий день Адриенна исчезает. Она уезжает внезапно и навсегда. Если не принимать во внимание сомнительный эпизод в седьмой главе, то ли явь, то ли сон, Жерар видит ее в последний раз, это их последняя встреча.
С другой стороны, читатель уже предупрежден с первой главы, так как в первых пяти абзацах на шестьдесят глаголов приходится пятьдесят три, стоящих в форме незавершенного прошедшего времени. В этих пяти первых абзацах все события происходили обычно, уже давно и в течение каждого вечера. В шестом абзаце кто-то спросил у Жерара, ради которой он ходит в театр. И Жерар назвал имя. Расплывчатое время обретает определенную форму: здесь начинается странствие Жерара (повествующего из времени N), происходящее во времени 1.
Насколько имперфект может размывать время, видно в главе о Шаалисе. Тот, кто дважды вмешивается в повествование в настоящем времени (один раз, чтобы описать нам аббатство, другой – чтобы задаться вопросом, сон это или явь), – это Нерваль, или Жерар из времени N. Остальная часть повествования ведется в имперфекте, за исключением случаев, когда этого не позволяет синтаксис. Анализ глагольных форм в главе 7 был бы слишком скучен. Но достаточно перечитать главу несколько раз, прислушиваясь к этой музыке времен, чтобы понять, почему не только мы, но и сам Нерваль спрашивает себя, сон ли это или воспоминание.
Использование незавершенного прошедшего времени в “Сильвии” вновь приводит нас к разнице между фабулой, сюжетом и дискурсом. Выбор глагольной формы устанавливается на уровне дискурса, но неопределенность на этом уровне изрядно мешает нам восстанавливать фабулу через сюжет. Вот почему исследователи не могут прийти к согласию относительно последовательности событий, по крайней мере в первых семи главах.
Чтобы не заблудиться в лесу времен, будем называть первыми танцами те, что были устроены перед замком (возможно, в Орри) с Адриенной, вторыми – танцы на празднике с лебедем (первая поездка в Луази) и третьими – бал в конце рассказа, на который Жерар приезжает в почтовом дилижансе.
Когда происходит ночной эпизод в Шаалисе? До или после первой поездки в Луази? Нет нужды искать точного ответа на этот вопрос. Читатель невольно теряется в догадках, что и создает эффект дымки.
Некоторые читатели (что лишний раз доказывает, насколько сильным может быть этот эффект) выдвигали гипотезу, что эпизод в Шаалисе происходит до сцены первого хоровода на лугу, так как во второй главе в пятом абзаце говорится, что после праздника “больше мы ее не увидим”. Но этот эпизод не мог произойти до хоровода по трем причинам: первая – в Шаалисе Жерар узнает Адриенну, в то время как на деревенском празднике он видит ее впервые (этот факт еще раз подтвердится в третьей главе); вторая – в ту ночь девушка уже “преобразилась” для своего монашеского призвания, в то время как во второй главе сказано, что она будет посвящена в монахини только после праздника; третья – сцена первых танцев упоминается в начале четвертой главы как детское воспоминание, и непонятно, как это Жерар и брат Сильвии в столь юном возрасте отправились через лес на двуколке, чтобы посмотреть представление.
Значит, сцена в Шаалисе происходит между первыми и вторыми танцами? Но в таком случае следует предположить, что в этот промежуток времени Жерар еще раз съездил в Луази. Тогда почему при встрече на втором празднике Сильвия как будто по-прежнему раздосадована, что он предпочел ей Адриенну? Впрочем, это может быть и эффектом дымки, ведь в тексте вовсе не говорится, что Сильвия держит обиду на Жерара именно за то старинное предательство, – разве что сам Жерар так считает. И она, и ее брат упрекают его за то, что “так давно” не показывался в их краях. Но кто сказал, что давно – это с первого праздника? Жерар с тех пор вполне мог приехать по какому-нибудь делу и заодно провести вечерок с братом Сильвии. Однако это звучит неубедительно, так как в тот вечер создается впечатление, будто Жерар видит Сильвию впервые после хоровода и находит ее преобразившейся и еще более очаровательной, чем тогда.
Следовательно, Жерар мог поехать в Шаалис после вторых танцев (время 1). Но как это возможно, если, по мнению большинства исследователей, второй праздник случился за три года до вечера в театре, а Жерара, возвращающегося в Луази, снова упрекают в том, что он долгое время не давал о себе знать? Возможно, и тут мы тоже становимся жертвами эффекта дымки. Ведь в тексте не указано, что вторые танцы (время 1) имели место за три года до вечера в театре. В третьем абзаце третьей главы говорится о Сильвии: “Почему я три года не вспоминал о ней?” Там нет никакого намека, что эти три года прошли со вторых танцев. Скорее автор намекает в седьмом абзаце, что в течение этих трех лет Жерар пускал на ветер завещанное ему дядей скромное состояние и, как можно предположить, за эти три года светской жизни он попросту позабыл о Сильвии. А между вторым праздником и вечером в театре могло пройти гораздо больше времени.
Но, какую бы гипотезу мы ни выбрали, как соотнести эпизод в Шаалисе с 1832 годом, когда умирает Адриенна? Как трогательно, если предположить, что Жерар видит Адриенну во сне как раз в тот момент, когда она умерла или умирает!
Подобные скрупулезные расчеты объясняют, почему мы, читатели – включая Пруста – вынуждены постоянно перелистывать назад страницы новеллы, чтобы понять, где мы находимся. Конечно, и в этом случае путаницу мог создать Лабрюни. Но если бы дотошные биографы не предоставили нам в изрядном количестве клинические карты несчастного, мы просто могли бы сказать, читая текст, что не знаем, где находимся, потому что так нарочно сделал Нерваль. Его логика обратна логике детективного романа, когда автор рассеивает намеки, по которым читатель в конце концов должен догадаться о правде. Он сбивает нас с пути и желает, чтобы мы потеряли связь времен.
Недаром Жерар (в первой главе) признается, что “не брал в расчет смену эпох”, а в начале четырнадцатой – что воссоздал свои химеры, “не соблюдая порядка”[18]. В мире “Сильвии”, где, как сказал один из исследователей, время идет урывками, часы бездействуют.
На одном из докладов я уже говорил о часах, описанных в третьей главе. С их помощью в текст вводится “символический модус”. Автор задерживается на описании детали, которая как будто никак не влияет на происходящее в произведении[19]. Часы в третьей главе – наглядный пример. Зачем было задерживаться на описании этого старья, которое не могло даже показывать время, как, например, часы с кукушкой у консьержа? А затем, что эти часы – основной символ новеллы, прежде всего из-за их принадлежности к эпохе Возрождения, то есть времени процветания Валуа. Кроме того, именно этот символ намекает скорее читателю, чем Жерару, что последовательность времен безвозвратно нами утрачена. В рамках упомянутой ранее симметрии сломанные часы появятся и в двенадцатой главе. Если бы они появлялись только там, это была бы просто забавная история из детства, но в данном случае мы имеем дело с повтором темы. Нерваль говорит нам о том, что для него самого смешались времена, а еще лучше сказал когда-то Шекспир: “распалась связь времен”. Как для читателя, так и для Жерара.
Объекты желания
Почему нельзя выстроить связь времен? Потому что с течением времени Жерар мечтает о разных женщинах, но это течение имеет не линеарный, а спиралевидный характер. На каждом витке Жерар выделяет то одну, то другую женщину как объект желания, но иногда он их как бы немного путает. В любом случае каждый раз, когда возникает та или иная героиня (на самом деле или в воспоминаниях), она теряет какие-то черты, присущие ей ранее.
Один объект желания Жерар описывает в общих чертах в самом начале повествования. Речь идет об идеале, царице или богине, в общем – о “недоступной женщине”. Тем не менее в последующих главах наш герой чего-то пытается добиться. Но как только желанная женщина приближается, Жерар находит причину, чтобы отдалиться. Таким образом, эффект дымки касается не только времени и пространства, но и объекта желания.
В первой главе кажется, будто Жерару больше по душе грезы, чем реальность, и что его идеал воплощается в актрисе.
До определенного момента сцена кажется более реальной, чем зал, особенно для актрисы, для которой зрители не что иное, как “бесплотные тени”, пустая видимость. Но во второй главе создается впечатление, будто Жерар хочет чего-то более осязаемого, пусть и всего лишь вспоминая, как это осязаемое ему явилось. Адриенна в бледном лунном свете на лужайке – как раз та женщина, которой присущи все свойства актрисы на сцене.
А (1) / А (2)
Бледная, как ночь / Сияние взошедшей луны озаряло лишь ее
Она живет для меня одного / Я был единственным мальчиком в хороводе
Переливы ее голоса / Проникновенный и чистый голос
Магическое зеркало / Блуждающий огонек
Видение / Призрак, скользящий над зеленой травой
Прекрасная, как день / Мираж, воплотивший в себе славу и красоту
Подобна божественным Горам / Кровь Валуа течет в ее жилах
Ее улыбка переполняет его душу / Они думали, что очутились в раю
Именно поэтому Жерар задает себе вопрос, а не любит ли он монахиню в облике комедиантки. Это сомнение будет терзать его до конца новеллы.
Но Адриенна обладает не только, скажем так, идеальными чертами, но и физическими, благодаря которым и побеждает Сильвию, милую деревенскую девочку. Однако в четвертой главе, когда Жерар спустя годы снова встречается с подругой детства, превратившейся из ребенка в прекрасную юную девушку, теперь уже Сильвия обладает всеми прелестями исчезнувшей Адриенны и – пусть даже как бледное отражение – Аврелии, воспоминания о которой уже потеряли четкость.
Жерар не только подозревает, мечтает, боится, что Аврелия и Адриенна – одно и то же лицо, но и время от времени воображает, будто то, чего он желал бы от них обеих, сможет дать ему Сильвия. По невысказанным вслух причинам после второго праздника, уже даже сыграв с ней символическую свадьбу, он прекращает с ней общаться. Когда, стремясь избавиться от безнадежного увлечения Аврелией, Жерар вновь встречает Сильвию на балу (третьи танцы), он находит в ней много общего с той, от которой бежит, и понимает, что либо Сильвия для него потеряна, либо он для нее. Каждый раз, когда один женский образ вытесняет собой другой, когда нереальное становится более реальным, а следовательно – более доступным, герой готов поменять объект своего желания.
Проклятие Жерара в том, что он всегда отрекается от того, что желал раньше, причем именно потому, что объект желания становится таким, как он мечтал.
В тринадцатой главе мы видим, как Аврелия воплощает все мечты Жерара: она принадлежала другому человеку, но этот человек исчезает; обычно актрисы бессердечны, а она жаждет любви… Но, увы, то, что становится доступным, невозможно любить. Именно потому, что у Аврелии есть сердце, она уходит с тем, кто любит ее по-настоящему[20].
Это мучительное томление между желаемым и страхом достигнуть желаемого выражается в почти болезненно нервном внутреннем монологе в одиннадцатой главе. Пораженный двусмысленной новостью об Адриенне, Жерар, минуту назад испытывавший влечение к Сильвии, вдруг осознает, что было бы святотатством обольстить девушку, которая ему почти как сестра. Тогда же в его голове проносится мысль об Аврелии, и опять его желания устремляются к ней. Но в начале следующей главы он уже снова готов пасть к ногам Сильвии и предложить ей свой дом и переменчивую удачу. Жерар перестает различать между собой трех женщин, кружащих ему голову и кружащихся в танце вокруг него, он желает их троих – и всех троих теряет.
1832 год
С другой стороны, сам Нерваль делает все, чтобы заставить нас забыть некоторые факты. Чтобы помочь нам (или запутать нас), он выводит на сцену забывчивую Сильвию, которая только в конце рассказа вспоминает, что Адриенна умерла в 1832 году.
Эта деталь больше всего приводит исследователей в недоумение. Зачем сообщать о столь важном событии только в конце новеллы, в то время как, согласно одной довольно наивной заметке во французском издании (коллекция La Pliade издательства Gallimard), мы ожидали бы подобного сообщения в начале? Здесь Нерваль использует прием, который Женетт называет “завершающим флешбэком”: рассказчик, сделав вид, будто забыл некую деталь, вспоминает о ней со значительным опозданием по ходу действия[21]. Подобное случается в рассказе не единожды. Как бы вскользь в одиннадцатой главе упоминается имя актрисы, но здесь такой прием кажется уместным. Именно в тот момент Жерар, предчувствуя конец идиллии с Сильвией, начинает думать об Актрисе, как о Женщине, к которой он смог бы приблизиться. А вот запоздалое упоминание даты смерти Адриенны кажется как минимум возмутительным, тем более что предваряется оно попыткой сбить нас со следа, на первый взгляд не имеющей оправдания.
Итак, в одиннадцатой главе мы наталкиваемся на одно из самых туманных высказываний во всем тексте: cela a mal tourn. Для того, кто перечитывает новеллу, намек Сильвии в некотором роде предвещает финальное откровение, однако для читающего в первый раз, наоборот, оттягивает критический момент. Сильвия пока не говорит, что скончалась сама Адриенна, она говорит, что скверно сложилась ее судьба. Поэтому я не согласен с переводом “она плохо кончила” (лучше было бы перевести “это плохо кончилось”[22], оставив местоимение оригинала “это”, чтобы исключить предположение, будто речь идет о смерти Адриенны). В сущности, Сильвия говорит, что “ее история закончилась плохо”. Почему следует сохранить эту двусмысленность, позволяющую истолковать намек как подтверждение подозрений Жерара, что Адриенна стала актрисой? Потому что двусмысленность усиливает и оправдывает запоздание, при помощи которого Сильвия только в последней строчке текста окончательно разрушает все иллюзии Жерара.
Сама Сильвия не уклончива по натуре. Для кого сообщение о смерти Адриенны имеет особое значение? Для Жерара, одержимого воспоминаниями об Адриенне и идеей ее возможного явления в образе Аврелии. Как к этому относится Сильвия, которой он еще не поведал свои навязчивые идеи (как поведал их Аврелии), если не считать смутных намеков? Для такого земного создания, как Сильвия, Адриенна не более чем призрак (причем один из многих, которые прошлись по этим краям). Сильвия не знает, что Жерар пытался узнать монахиню в актрисе, она даже не догадывается о существовании этой актрисы. Сильвия находится за пределами того изменчивого мира, в котором один образ переходит в другой, замещая его собой. Ей нет нужды открывать правду постепенно. Это делает Нерваль, а не она.
Сильвия говорит уклончиво не из-за коварства, а скорее по рассеянности, потому, что для нее вся эта история не имеет значения. Она способствует разрушению мечты Жерара, потому что не знает о ней. Ее отношения со временем спокойны, связаны со светлой ностальгией или каким-либо нежным воспоминанием, которые не тревожат ее мирного настоящег. Именно поэтому из всех трех женщин в финале она становится самой недоступной. Ведь даже с Адриенной у Жерара был волшебный момент. С Аврелией, насколько мы понимаем, он добился любовной близости. А с Сильвией у него ничего не было, кроме совсем невинного поцелуя и еще более невинной игры в жениха и невесту в Отисе. В тот момент, когда Сильвия воплощает собой самую что ни на есть осязаемую реальность (озвучивая единственное во всей повести безусловно правдивое и привязанное к истории высказывание – дату), она безвозвратно потеряна. По крайней мере, как возлюбленная: отныне для Жерара она лишь сестра, к тому же замужем за его молочным братом.
Вероятно, именно поэтому произведение озаглавлено “Сильвия”, а не “Аврелия” – как более поздняя пламенная новелла. Сильвия и есть настоящее утраченное и никогда не обретенное время, потому что она единственная, кто остается.
Но это слишком сильное утверждение, в полной мере обретающее смысл лишь при сопоставлении Пруста и Нерваля. Примерно так: Нерваль отправляется искать утраченное время, но не находит его, убедившись в пустоте своих мечтаний. В таком случае финальная дата, произнесенная Сильвией, звучит как похоронный набат, который завершает историю.
Тогда стал бы понятен интерес и почти сыновья привязанность Пруста к “отцу идеи утраченного времени”, который потерпел поражение, затеяв безнадежное предприятие (возможно, именно поэтому Лабрюни кончает жизнь самоубийством). Пруст как бы вызвался отомстить за поражение “отца” через собственную победу над Временем.
Но когда Сильвия объявляет Жерару, что Адриенна уже давно скончалась? Во времени 13 (“следующим летом”, когда труппа Аврелии дает представление в Даммартене). Как ни считай, это точно происходит задолго до времени N, когда Жерар начинает повествование. Следовательно, когда Жерар вспоминает о вечере в театре, он уже знает, что Адриенна точно умерла в 1832 году. Несмотря на это, он заставляет нас вернуться ко временам хоровода на лужайке, рассказывает, в какой трепет его приводила мысль, что Адриенна и актриса могут быть одной и той же женщиной, как мелькнула безумная надежда увидеть ее за стенами монастыря Сен-Сюльпис. Во всем этом временном (или повествовательном) пространстве он вынуждает читателя разделять его сомнения.
Следовательно, рассказ Жерара (а вместе с ним и Нерваля) не заканчивается, когда он понимает, что все кончено: напротив, именно после того как рассказчик это осознал, он начинает свою историю – и повествует о себе прежнем, который не знал и не мог знать, что все уже кончено.
Разве так поступает человек, не способный свести счеты с собственным прошлым? Напротив, так делает тот, кто считает, что пересмотреть свое прошлое можно только тогда, когда нет настоящего, и что только воспоминания (пусть и слегка беспорядочные, а может, как раз только беспорядочные) позволяют найти нечто, ради чего стоит если не жить, то хотя бы умереть.
Но если так, то Пруст видел в Нервале не слабого и беззащитного “отца”, за которого надо отомстить, а скорее необыкновенно сильного, которого стоит превзойти. И, возможно, посвятил жизнь этой задаче.
Уайльд. Парадокс и афоризм[23]
Афоризм с трудом поддается определению. Греческое по происхождению слово, кроме значений “подношение” или “пожертвование”, со временем стало обозначать “краткое изречение, высказывание, сентенция”. Таковы, например, афоризмы Гиппократа. Афоризм, по словарю Дзингарелли, – это “краткое изречение нравоучительного или философского характера”.
Что же тогда отличает афоризм от любого другого изречения? Ничего, кроме краткости.
Мы часто утешаемся пустяками, ибо пустяки нас огорчают[24]. (Блез Паскаль. “Мысли”)
Не будь у нас недостатков, нам было бы не так приятно подмечать их у ближних[25]. (Франсуа Ларошфуко. “Максимы и моральные изречения”)
Память – это дневник, который мы постоянно носим с собой[26]. (Оскар Уайльд. “Как важно быть серьезным”)
Иные мысли, которых у меня нет и которые я не смог бы выразить словами, я почерпнул из языка. (Карл Краус. “Утверждения и опровержения”)
Приведенные выше изречения являются афоризмами, а приведенные ниже для этого слишком длинны.
Как велико преимущество знатного происхождения! С восемнадцати лет человеку открыты все пути, ему уже не в новинку известность и почет, меж тем как другие если и достигнут таких же наград, то годам к пятидесяти, не раньше: выигрыш в тридцать лет. (Блез Паскаль. “Мысли”)
Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля[27]. (Оскар Уайльд. Предисловие к “Портрету Дориана Грея”)
Алекс Фальцон в предисловии к изданию “Афоризмов” Уайльда называет афоризмом изречение не просто краткое, но и остроумное.
Он следует современной тенденции, в соответствии с которой для афоризма важнее изящество и блеск – в ущерб истинности утверждения. Естественно, когда речь идет об изречениях или афоризмах, их истинность зависит от намерений автора: афоризм выражает то, что его автор считает правдой и в чем желает убедить читателей. Но в целом авторы изречений или афоризмов не обязательно стремятся казаться остроумными и тем более осмеять существующие воззрения. Скорее они желают привлечь внимание и изменить отношение к проблеме, к которой в настоящий момент общественное мнение относится недостаточно серьезно.






