О литературе. Эссе Эко Умберто
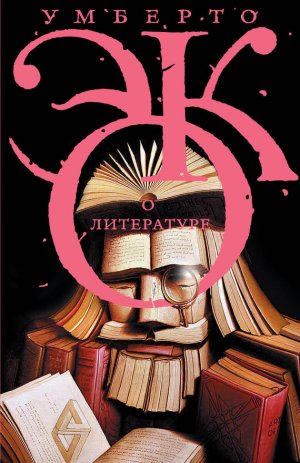
Религия умирает в тот момент, когда доказана ее непогрешимость. Наука – это летопись умерших религий.
Воспитанные люди всегда противоречат другим. Мудрые противоречат сами себе.
Амбиции – это последнее прибежище неудачников.
Экзамен… Это когда дураки задают вопросы, на которые умным людям, в сущности, нечего ответить.
Только великим мастерам стиля удается быть неудобочитаемыми.
Первая обязанность человека в жизни – быть как можно более искусственным.
Вторая же обязанность человека до сих пор еще никем не открыта.
То, что происходит на самом деле, не имеет ни малейшего значения.
Скука – совершеннолетие серьезности.
Если человек говорит правду, рано или поздно его выведут на чистую воду.
Хорошо знают себя только поверхностные люди.
Но насколько истинными Уайльд считал эти утверждения, он сообщает во время судебного процесса: “Я редко думаю, что написанное мною – правда”. Или: “Это забавный парадокс, но едва ли его можно считать жизненным правилом”. С другой стороны, если “истина становится истинной, когда в нее верит более одного человека”, на какое общественное одобрение рассчитывает истина, высказанная Уайльдом? И если “во всех пустяковых делах важен стиль, а не искренность, во всех серьезных – тоже”, то не стоит требовать от Уайльда строгого различия между истинными парадоксами, очевидными афоризмами и ложными или лишенными истинности афоризмами-перевертышами. В своем творчестве он показывает скорее furor sententialis, то есть невоздержанное красноречие, чем страсть к философии.
Только под одним афоризмом Уайльд мог бы подписаться со всей искренностью, и именно на нем он строил всю свою жизнь: “Любое искусство абсолютно бесполезно”.
Портрет художника-бакалавра[37]
Вероятно, я не самый подходящий оратор, чтобы выступать на юбилее окончания Дж. Джойсом искусствоведческого факультета: в одной из статей, опубликованных в 1901 году в St. Stephen’s Magazine, утверждалось, будто Джойса испортили итальянские идеи. Но не я был инициатором этого выступления, во всем виноват Дублинский университетский колледж. Что касается названия доклада, возможно, моя интертекстуальная игра не отличается особым остроумием, но я всего лишь playboy of the southern world.
Мне самому не по душе название, которое я выбрал. Я предпочел бы поговорить о тех временах, когда Джим, ученик иезуитского колледжа Клонгоуз-Вудс, на вопрос о своем возрасте отвечал: “Мне полседьмого”. Но не будем уходить от темы и обратимся к Джойсу-бакалавру.
Наверное, всем известно, что во многих современных исследованиях по семантике слово bachelor стало чуть ли не волшебным словом – превосходным образцом неоднозначного понятия. “Передаваясь по наследству” от автора к автору, оно обрело как минимум четыре разных значения: молодой неженатый мужчина, юный оруженосец, бакалавр, молодой тюлень, не успевший обзавестись самочкой в сезон брачных игр. Тем не менее Роман Якобсон заметил, что, несмотря на разницу значений, в этих четырех омонимах есть нечто общее – идея незавершенности, незаконченности. Bachelor – это в любом случае тот, кто не достиг зрелости. Молодой мужчина еще не муж и не отец семейства, юный оруженосец еще не рыцарь, молодой бакалавр еще не доктор наук, несчастный молодой тюлень еще не альфа-самец.
В то время, когда наш Джим только окончил университетский колледж, он еще не был вполне Джойсом, автором произведений, без которых он так и остался бы дерзким выскочкой. Но позволю себе заметить, к концу своего обучения Джим не был таким уж незрелым, как может показаться. Именно в колледже он уже ясно обозначил в своих первых литературных опытах направление, которому будет следовать в более зрелые годы.
Джим начал свою карьеру в 1898 году. Английским языком он занимался с отцом О’Ниллом, ярым бэконианцем, итальянскому его учил падре Гецци, а французскому – Эдуар Кадик. Тогда в обучении главенствовали идеи неотомизма, которые частенько приводили к неверному пониманию Фомы Аквинского, но именно в колледже, еще до заметок “Из парижского дневника”, у Джима сложилось какое-то представление о Фоме. Он сказал своему брату Станисласу, что Фома Аквинский – очень сложный мыслитель: его слова в точности соответствуют тому, что говорит или хотел бы сказать простой народ. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что из учения Аквината Джим понял пусть и не все, но многое.
В своей публичной лекции “Драма и жизнь”, прочитанной 20 января 1900 года в Литературно-историческом обществе университетского колледжа, Джойс охарактеризовал поэтику “Дублинцев” следующим образом: “И все же я думаю, что за грустным однообразием существования можно разглядеть драму жизни. Самая большая банальность, самый мертвый из живых может сыграть роль в этой драме”.
В “Новой драме Ибсена”, опубликованной 1 апреля 1900 года в Fortnightly Review, уже заявлен фундаментальный для Джойса принцип безличности художественного произведения, который окончательно оформится в “Портрете художника в юности”. О драме он скажет, что Ибсен “рассматривает каждый факт в его истории и целостности, словно глядя на него с большой высоты взором, наделенным абсолютной остротой зрения, ангелической по характеру бесстрастностью и мощью, позволяющей смотреть даже на солнце, не прищуривая глаза”[38]. Так и Бог “Портрета” “остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти”[39].
В лекции “Джеймс Кларенс Мэнган”, которую Джойс прочел 15 февраля 1902 года все в том же Литературно-историческом обществе, а затем опубликовал в St. Stephen’s Magazine, он утверждает, что “красота, сияние Истинного – это присутствие благодати, когда воображение интенсивно созерцает истину собственного бытия или зримый мир, и дух, исходящий из красоты и истины, – это святой дух радости. Только они и есть реальность, и только они творят и поддерживают жизнь”. Отсюда, несомненно, и берет начало идея эпифании, которую Джойс будет развивать в своих последующих работах.
В “Изучении языков”, эссе, написанном на первом курсе университета (1898–1899), мы находим замечательное высказывание, которое ляжет в основу “Улисса”. Молодой автор говорит, что художественный язык избегает плоскости, “годной только для обычных выражений, благодаря дополнительному влиянию того, что прекрасно звучит в патетических фразах: многозначным словам, обилию инвектив, разнообразию фигур речи, но при этом даже в моменты наивысшего эмоционального напряжения он сохраняет присущую ему симметрию”.
В том же самом тексте мы улавливаем отдаленное эхо “Поминок по Финнегану” и влияние работ аббата Вико, особенно когда Джойс говорит: “История слов тесно связана с историей человека. Сравнивая язык наших дней с языком предков, мы можем найти наглядные доказательства внешнего влияния на подлинный язык какой-либо народности”.
С другой стороны, главная одержимость Джойса, поиск художественной правды через привлечение всех мировых языков, просвечивает в другом отрывке из этого незрелого эссе Джима-первокурсника, который пишет, что “самые высшие ступени языка, стиль, синтаксис, поэзия, ораторское искусство и риторика в любом случае – образцы и свидетели истины”.
Утверждение, будто каждый автор развивает свою основную мысль в течение всей жизни, представляется особенно справедливым в отношении Джойса: не будучи еще бакалавром, он точно знал, что будет делать, и заявил об этом, пусть даже простыми и наивными словами, в университетском колледже. Иначе говоря, Джойсу удалось предвидеть то, чем он будет заниматься в зрелые годы, еще во время обучения в этих стенах.
На первом курсе Джим, размышляя над аллегорическим изображением наук в базилике Санта-Мария-Новелла, решил, что Грамматика должна быть “первой из наук”. И большую часть своей жизни он действительно посвятил изобретению новой грамматики, а поиском истины для него стал поиск совершенного языка.
В год избрания Дублина культурной европейской столицей уместно задуматься о том, что поиск совершенного языка всегда был и остается типично европейским феноменом. Европа родилась из одного культурно-языкового ядра (греко-римского мира), которое впоследствии распалось на разноязыкие народы. В античном мире не существовало ни проблемы идеального языка, ни проблемы многообразия языков. Сначала эллинистическое койне, а затем имперская латынь в достаточной мере обеспечивали систему международного общения от Средиземноморья до Британских островов. Два народа, которые изобрели язык философии и язык закона, отождествляли структуру своего языка со структурой человеческого разума. Только древние греки говорили на языке. Все остальные были варварами, то есть, исходя из этимологии слова, бормотали нечто невнятное.
Падение Римской империи ознаменовалось началом политического и лингвистического разделения. Латынь искажалась. Нашествие варваров означало также вторжение их языков и обычаев. Половина римских владений перешли к грекам Восточной Римской империи. Часть Европы и почти все Средиземноморье начали говорить по-арабски. На рассвете нового тысячелетия появились на свет национальные языки, на которых мы, европейцы, говорим по сей день.
И именно в тот исторический момент христианская культура начала перечитывать страницы Библии о “смешении языков” во время возведения Вавилонской башни. Именно в те века становится привлекательной мысль открыть или изобрести довавилонский язык, общий для всего человечества, способный выразить суть вещей через их изначальное единство со словами. Подобный поиск универсальной системы общения, принимавший различные формы, не завершен и поныне. Одни изобретатели пытались вернуться назад к началу мира и открыть язык, на котором Адам разговаривал с Богом, другие заглядывали в будущее, пытаясь создать язык разума, который обладал бы утраченным совершенством языка Адама. Кто-то, следуя идеалу Вико, старался найти общий для всех народов язык мысли. Были изобретены международные языки, такие как эсперанто. В наше время работают над “языком искусственного разума”, который будет общим для людей и компьютеров…
Тем не менее во время этих поисков универсального языка бывали случаи, когда находился какой-нибудь ученый, утверждавший, будто единственным совершенным языком может быть только язык его соотечественников. В XVII веке Георг Филипп Харсдёрффер считал, что Адам мог говорить только по-немецки, потому что только в немецком языке корни превосходно выражают природу вещей (позднее Хайдеггер скажет, что философствовать можно только на немецком языке, в крайнем случае на греческом). Для Антуана Ривароля (“Беседа об универсальности французского языка”, 1784) французский был единственным языком, чья синтаксическая структура отображала подлинную структуру человеческого разума, а следовательно, самым логичным языком в мире (немецкий казался ему слишком гортанным, итальянский слишком нежным, испанский избыточным, английский слишком невнятным).
Хорошо известно, что еще в колледже Джойс прикипел душой к Данте Алигьери и остался верен ему на всю жизнь. Все его обращения к Данте ограничиваются только “Божественной комедией”, но есть веские причины полагать, что Джойс был знаком с его идеями о происхождении языка и мечтами о создании совершенного поэтического языка, которые выражены в трактате “О народном красноречии”. В любом случае Джойс должен был найти в “Божественной комедии” четкие отсылки к данной теме, а в XXVI песни “Рая” – новую версию старого спора о языке Адама.
Трактат “О народном красноречии” был написан между 1303 и 1305 годом, то есть раньше “Божественной комедии”. Хотя он выглядит как научный труд, на самом деле это нечто вроде комментария к самому себе: Данте анализирует свои методы художественного творчества, которые явно считает образцом любого поэтического дискурса.
По мнению Данте, многообразию народных языков до Вавилонского столпотворения предшествовал совершенный язык, на котором Адам беседовал с Богом и на котором его потомки говорили между собой. После истории с Вавилонской башней языки умножились сначала в различных географических зонах, а затем внутри мира, который мы называем романским и в котором выделились языки “си”, “ок” и “ойл”. Язык “си”, или итальянский, распался на множество диалектов, иногда отличающихся даже внутри одного города. Такой распад обусловлен непостоянством человеческой натуры, речевых привычек и обычаев – как во времени, так и в пространстве. Именно для того чтобы приостановить эти медленные, но верные изменения в естественном языке, изобретатели грамматики искали устойчивый язык, который оставался бы неизменным во времени и пространстве. Таким языком на несколько веков стала латынь средневековых университетов. Но Данте интересовал итальянский народный язык, и благодаря своей высокой культуре и связям, обретенным в изгнании и скитаниях, он экспериментировал как с различными итальянскими диалектами, так и с разнообразными европейскими языками. Цель трактата “О народном красноречии” – найти наиболее достойный и благородный язык, и поэтому Данте исходит из строгого критического анализа итальянских диалектов. С тех пор как лучшие поэты, каждый по-своему, дистанцировались от своих местных диалектов, Данте не исключает возможность найти “благородное наречие”, просвещенный народный язык (“источник света”), достойный занять место в королевском дворце национального государства, если оно у итальянцев когда-нибудь появится. Это должно быть наречие, общее для всех итальянских городов, но не характерное для какого-то отдельно взятого города, своего рода идеальная модель, к которой стремились бы все лучшие поэты и на которую ориентировались бы все существующие диалекты.
Поэтому вместо смешения разных наречий Данте предлагает язык поэтический, близкий Адамову, как раз тот, основы коего он сам же с гордостью и закладывает. Этот совершенный язык, за которым Данте охотится, как за “благоуханной пантерой”, иногда появляется в сочинениях поэтов, которых Данте считал великими. Но у них он еще в зачаточном состоянии, толком не сформированный, без четких грамматических правил.
На фоне диалектов, естественных, но не универсальных, и латинской грамматики, универсальной, но искусственной, Данте мечтает восстановить эдемский язык, который был бы и естественным, и универсальным. Но в отличие от тех, кто попытается впоследствии найти изначальный еврейский язык, Данте рассчитывает воссоздать эдемскую речь современными методами. Просвещенный народный язык, взявший за образец его, Данте, поэтический арсенал, – это средство, при помощи которого “современный” поэт исцелит вавилонский раскол.
Этот дерзкий замысел – выступить в роли создателя совершенного языка – объясняет, почему Данте, вместо того чтобы предать анафеме многообразие языков, обращает внимание на их природную силу, на их способность обновляться со временем. Именно на основе их созидательного потенциала он думает изобрести и ввести в обращение, без необходимости искать утраченные образцы, совершенный язык, который при этом будет современным и естественным. Если бы Данте считал изначальным языком еврейский, он обязательно выучил бы язык Библии и писал бы на нем. Но поэт никогда не задумывался о подобной возможности, ибо был уверен, что придет к своей цели через усовершенствование итальянских диалектов. Что до еврейского, он был для Данте просто одним из самых достойных воплощений универсального языка.
Многие дерзкие заявления молодого Джойса как будто намекают на ту же задачу восстановить условия для совершенного языка посредством личной поэтической фантазии, на цель сформировать “изначальное сознание” своего народа, создать язык, который будет не произвольным, как разговорная речь, но необходимым и мотивированным. Таким образом, молодой бакалавр на удивление глубоко проникся идеей Данте и следовал ей всю свою жизнь.
Тем не менее проект Данте, как всякий проект совершенного языка, заключался в том, чтобы найти язык, который позволил бы человечеству выйти из вавилонского лабиринта. Можно было, подобно Данте, принять многообразие языков, но совершенный язык должен быть ясным и очевидным, несмешанным. Напротив, проект Джойса, по мере того как он отдалялся от эстетики томизма, чтобы прийти к мировоззрению, выраженному в “Поминках по Финнегану”, очевидно, старается преодолеть вавилонский хаос, не отрицая его, но принимая как единственную возможность. Джойс никогда не стремился устроиться напротив башни или рядом, он хотел жить в ней. Осмелюсь предположить, что решение начать “Улисса” с вершины некой башни является подсознательным намеком на конечную цель Джойса – вылепить многоязычное горнило, что ознаменовало бы не конец, а скорее торжество смешения языков.
Что послужило причиной такому решению?
Приблизительно в первой половине VII века в Ирландии появляется трактат по грамматике, озаглавленный Auraicept na n-ces (“Наставление ученым поэтам”). Основная идея этого трактата заключается в следующем: чтобы приспособить правила латинской грамматики к ирландскому языку, нужно обратиться к возведению Вавилонской башни, а именно: в языке должно быть восемь или девять (по разным версиям текста) частей речи (существительные, глаголы, наречия и т. д.), подобно восьми или девяти основным материалам (вода, кровь, глина, дерево и т. д.), которые использовались при постройке башни. Откуда возникло такое сравнение? Семьдесят два ученых мужа школы Фениуса Фарсайда, которые изобретали первый язык, появившийся десять лет спустя после Вавилонского столпотворения (само собой подразумевалось, что это гэльский), хотели, чтобы он, как и довавилонское наречие, не только точно соответствовал природе вещей, но и учитывал природу других языков, родившихся в послевавилонские времена. Их идея восходит к отрывку из книги Исайи 66:18: “приду собрать все народы и языки”. Метод семидесяти двух ученых ирландских мужей заключался в том, чтобы разложить на части существующие языки, отобрать из них лучшее и из фрагментов выстроить новую совершенную систему. Можно сказать, что они поступали как настоящие художники, если следовать мысли Джойса: “…художник, что способен бережнее всего высвободить нежную душу образа из путаницы окутывающих его обстоятельств и вновь воплотить ее в художественных обстоятельствах, избранных как самые адекватные ее новому служению, – вот высочайший художник”[40]. Сегментация – которая и по сей день является основой лингвистического анализа – была настолько важна для семидесяти двух ученых мужей, что (как предполагает мой источник[41]) слово teipe, буквально и означающее “разлагать на части”, а следовательно, “отбирать, формировать”, автоматически дало ирландскому языку определение berla teipide (“отборный язык”). Впоследствии “Наставления” как текст, определяющий это явление, стали считаться аллегорией мра.
Интересно отметить, что очень похожая теория была сформулирована современником Данте, великим каббалистом XII века Аврахамом Абулафией. По его мнению, Бог дал Адаму не определенный язык, а нечто вроде метода, универсальной грамматики, утраченной после Вавилонского столпотворения, но выжившей в памяти еврейского народа, который, в свою очередь, сумел с ее помощью создать еврейский язык, совершеннейший среди семидесяти послевавилонских наречий. Но еврейский, о котором говорит Абулафия, был не коллажем из других языков, а скорее системой, возникшей в результате комбинации двадцати двух изначальных букв (элементарных частиц) божественного алфавита.
Ирландские же грамматики не стали возвращаться к поискам языка Адама, но предпочли создать новый совершенный язык, свой гэльский.
Знал ли Джойс этих грамматиков позднего Средневековья? Я не обнаружил никаких отсылок к “Наставлениям” в его работах, но меня заинтересовал один факт, упомянутый Эллманном. 11 октября 1901 года во время заседания студенческого дискуссионного клуба юный Джим будто бы посетил публичную лекцию Джона Ф. Тейлора, который не только восхвалял красоту и совершенство ирландского языка, но и сравнил право ирландцев говорить на гэльском с правом Моисея и его народа использовать еврейский как язык Откровения, отказавшись от навязанного им египетского. Как известно, идея Тейлора нашла широкое отображение в “Улиссе”, в главе “Эол”, где проводится параллель между ирландским и еврейским языками, и это можно считать своего рода дополнительной лингвистической параллелью между Блумом и Стивеном.
А теперь позвольте заронить одно сомнение. В “Поминках по Финнегану” есть слово “тейлоризированный”, которое Атертон считал отсылкой к неоплатонику Томасу Тейлору[42]. Я бы предложил считать его отсылкой к Джону Ф. Тейлору. У меня нет точных доказательств, но мне кажется любопытным факт, что это слово встречается в отрывке “Поминок”, где Джойс сначала говорит об abnihilisation of the etym (“аннуляции этимологии”), затем употребляет выражения vociferagitant (“фоновибрирующий”), viceversounding (“инверсофонный”), alldconfusalem (“поликонфузионный”) и заканчивает словами how comes every a body in our taylorised world to selve out this his (“как приходит каждое тело в наш тейлоризированный мир, чтобы из себя этого его выйти”) с отсылкой к primeum nobilees (“нобилепремируемому) и слову notomise (“нотомизировать”). Не исключено, что идея изобретать язык, расчленяя и обрезая корни слов, зародилась благодаря той самой старой лекции Тейлора и опосредованному знакомству с текстом “Наставлений”. Но поскольку у меня пока нет доказательств, подтвержденных текстом, я вправе представлять свои размышления на эту тему только как заманчивую гипотезу или личное развлечение.
Не существует и прямых доказательств тому, что на Джойса могли повлиять средневековые ирландские традиции. В своей лекции “Ирландия, остров святых и мудрецов”, прочитанной в Триесте в 1907 году, Джойс убеждал слушателей в древности ирландского языка, отождествляя его с финикийским. Нельзя сказать, чтобы Джойс был блестящим историком. Во время лекции он путал Иоанна Скота Эриугену (который точно был ирландцем и жил в IX веке) с шотландцем Иоанном Дунсом Скотом (родившимся в Эдинбурге в XIII веке, хотя во времена Джойса многие были убеждены, что он ирландец), словно считал их одним и тем же человеком. Кроме того, Джойс полагал, что автором “Ареопагитик” является покровитель Франции святой Дионисий (Сен-Дени), которого он называл Дионисием Псевдо-Ареопагитом, в то время как средневековая традиция приписывала авторство Дионисию Ареопагиту, жившему во времена святого Павла. Впрочем, эта атрибуция тоже неверна, и точно неизвестно, кто же тот реальный Дионисий. Как бы то ни было, автор “Ареопагитик” – Псевдо-Дионисий Ареопагит, а не Дионисий Псевдо-Ареопагит. Но в Дублинском университетском колледже Джойс изучал только латынь, французский, английский, математику, натурфилософию и логику, а не средневековую философию. В любом случае все эти аналогии между требованиями ирландских грамматиков и поисками совершенного поэтического языка у Джойса настолько любопытны, что я попытаюсь найти и другие связи между ними.
Чтобы изобрести свой поэтический язык, Джойс, пусть даже с весьма размытыми представлениями о древнеирландских традициях, хорошо изучил текст, на который он впервые прямо ссылается во время лекции в Триесте, – Келлскую книгу.
Молодой Джойс, конечно, слышал о Келлской книге в Тринити-колледже, так как позднее он упомянет “Келлскую книгу, описанную сэром Эдвардом Салливаном и иллюстрированную 24 цветными миниатюрами” (Лондон – Париж – Нью-Йорк, 1920). Экземпляр этой книги Джойс подарил мисс Уивер на Рождество 1922 года.
Недавно, представляя прекрасную факсимильную копию рукописи[43], я обратил внимание на то, что это произведение искусства вызвало в свое время много шума, и я уверен, что на Джойса повлиял этот шум. Как-то я провел вечер (второй раз в своей жизни) в самом волшебном месте Ирландии – Семи Церквях Клонмакнойс. Тогда я в очередной раз убедился: даже тот, кто никогда не слышал об ирландских грамматиках или о Книге из Келлса, Евангелиях из Линдисфарна и Дарроу или о Книге Бурой Коровы, не может, глядя на эту панораму и на эти древние камни, не слышать гул, сопровождавший рождение и тысячелетнее существование Келлской книги.
История латинской культуры первого тысячелетия, в частности между седьмым и десятым веком, сохранила так называемый гесперийский стиль, который распространился от Испании до Британских островов, затронув обе Галлии[44]. Приверженцы классической латыни описали (и заклеймили) этот стиль, назвав его сначала “азиатским”, затем “африканским” и противопоставив уравновешенному “аттическому”. Квинтилиан в своем трактате “Риторические наставления” (XII, 79) подчеркивал, что идеальный слог должен быть: точным и подробным, но не чрезмерно; возвышенным, но не высокопарным; сильным, но не пугающим; строгим, но не печальным; важным, но не тяжелым и медленным; изящным, но не слишком пышным; приятным, но не расслабленным.
Не только римская риторика, но и раннехристианская осуждала , или “дурной тон”, искусственность, азиатского стиля. Насколько были возмущены Отцы Церкви, столкнувшиеся с примерами подобного “дурного стиля”, видно из инвективы святого Иеронима (Adversus Jovinianum, I): “Есть такой варварский обычай среди писателей: их речь настолько запутана стилистическими ухищрениями, что мы больше не понимаем, кто говорит и о чем. Все в их писаниях чересчур раздувается, чтобы потом распластаться, как больная змея; все свернуто нераспутываемыми узлами, так и хочется повторить вслед за Плавтом: “Никто того не разберет, кроме Сивиллы”. Но к чему все эти словесные козни?”
Подобные нелестные слова мог бы произнести и какой-нибудь классик в отношении Келлской книги или “Поминок по Финнегану”. А между тем те стилистические ухищрения, в которых классическая традиция видела недостаток, для гесперийской поэтики стали достоинством. Гесперийский язык выходит из подчинения законам синтаксиса и традиционной риторики, ритм и метр нарушаются ради выражений в барочном вкусе. Цепочки аллитераций, которые в классическом мире считались бы какофонией, производят новую музыку, и Альдгельм Мальмсберийский (Epistola ad Eahfridum PL 89, 91) развлекается составлением фраз, где каждое слово начинается с одинаковой буквы: Primitus pantorum procerum praetorumque pio potissimum paternoque praesertim privilegio panegyricum poetamtaque passim prosatori sub polo promulgantes… Гесперийский язык обогащается невероятными гибридами, заимствуя еврейские и греческие слова, текст изобилует непереводимыми криптограммами и загадками. Если идеалом классического стиля была ясность, идеалом гесперийского стиля станет затемнение смысла. Если классический стиль восхвалял пропорции (меру, гармонию), гесперийский стиль отдавал предпочение сложности построений, обилию эпитетов и парафраз, гигантскому, причудливому, безудержному, несоизмеримому, поразительному. Даже поиск неприемлемых этимологий приведет к распаду слова на элементарные частицы, которые потом обретут загадочные значения.
Гесперийская эстетика была главенствующим стилем Европы в те темные века, когда старый континент переживал демографический кризис, упадок земледелия, разрушение наиболее важных городов, дорог, римских акведуков. И на территории, покрытой лесами, не только монахи, но также поэты и миниатюристы смотрели на мир как на темный, опасный лес, кишащий чудовищами и пересеченный запутанными тропами. В те тяжелые темные столетия именно через Ирландию пришла на континент латинская культура. Но ирландские монахи, которые переработали и сохранили для нас то немногое, что осталось от классической традиции, диктовали свои правила в языке и изобразительном искусстве, выискивая на ощупь дорогу в густой лесной чаще. Как спутники святого Брендана, они скитались по морям и затерянным островам, сталкивались с чудищами, высаживались на гигантскую рыбу, приняв ее за остров. Они причаливали к землям, населенным душами падших с Люцифером ангелов, обращенных в белых птиц, видели чудесные фонтаны, райские деревья, стеклянную колонну посреди морских пучин, Иуду на скале, истязаемого непрекращающимися ударами волн.
Между седьмым и девятым веком, возможно, на ирландской почве (точно на Британских островах) появляется знаменитая Liber monstrorum de diversis generibus (“Книга чудовищ разных видов”), многие образы из которой мы находим в Келлской книге. На первых же страницах автор признается, что, хотя во многих серьезных трудах уже рассказывали подобную ложь, он не осмелился бы вновь обратиться к этим россказням, если бы “ваши настойчивые мольбы не налетели на меня, несчастного моряка, подобно морской буре, и не скинули бы в море чудовищ… Без сомнения, не счесть всех видов морских чудищ, которые своими огромными телами, подобными горам, поднимают гигантские волны и своей грудью рассекают водную гладь почти до самого дна и движут ее к устью рек: когда они плывут, то вокруг них с громким ревом вздымается пена и летят брызги. Так, выстроившись, эта бесчисленная рать чудовищ пересекает вздыбленные голубые равнины и выплескивает в воздух струи белоснежной, как мрамор, пены. И, низвергая воды, уже вертящиеся вокруг их превеликих тел, в ужасные водовороты, они движутся к берегу, дабы не столько удивить сим зрелищем, сколько устрашить того, кто взирает на них оттуда”[45].
Как бы ни боялся автор солгать, он не может устоять перед завораживающей красотой этой очаровательной лжи, ибо она дает ему возможность плести бесконечное и запутанное, как лабиринт, повествование. Он рассказывает свою историю с тем же удовольствием, с каким в “Житии святого Колумбана” описано море вокруг Гибернии или с каким в “Гесперийских речениях” (автор “Книги чудовищ”, скорее всего, был хорошо знаком с этим произведением) используются прилагательные вроде astiferus (“звездоносный”) или glaucicomus (“зеленовласый”), чтобы описать племя марозов. Гесперийский стиль отдает предпочтение неологизмам вроде pectoreus (“сердцевещий”), placoreus (“кротковещий”), sonorous (“звуковещий”), alboreus (“беловидный”), propriferus (“собственноносный”), flammiger (“пламяносный”), glaudifluus (“восторгоструйный”).
Подобные лексические изобретения восхваляет Вергилий Грамматик в своих “Эпитомах” и “Посланиях”[46]. В наше время многие эрудиты утверждают, что этот грамматик из Бигорра, что рядом с Тулузой, на самом деле был ирландцем, и все – от его стиля до мировоззрения – может служить тому подтверждением. Вергилий жил в VII веке, то есть примерно за сто лет до создания Келлской книги. Он цитировал отрывки из Цицерона и Вергилия (того самого, настоящего), которых эти античные авторы не могли написать. Позднее мы обнаруживаем (или предполагаем), что он принадлежал к кругу риторов, каждый из которых взял себе в качестве псевдонима имя какого-нибудь классического писателя. Возможно, он пишет так, чтобы высмеять других ораторов. Находясь под влиянием кельтской, вестготской, ирландской и еврейской культур, Вергилий Грамматик описывает лингвистическую реальность, которая как будто порождена воображением современного поэта-сюрреалиста.
Он утверждает, будто существует десять вариантов латыни и в каждом из них слово “огонь” обозначается по-разному: ignis, quoquihabin, ardon, calax, spiridon, rusin, fragon, fumaton, ustrax, vitius, siluleus, aenon (“Эпитомы”, IV, 10). Геометрия – умение разбираться в травах и растениях, и поэтому медики могут называться геометрами (“Эпитомы” I, 4). Ритор Эмилий изящно изрек: “SSSSSSSSS. PP. NNNN-NNNN. GGGG.R.MM.TTT.D. CC. AAAAAA. IIIIVVVVVVVVVV. O. AE. EEEEEE”. Этот набор букв должен был обозначать: “Мудрый человек сосет кровь из мудрости и должен называться пиявкой” (“Эпитомы”, X, 1).
Гальбунг и Теренций спорят в течение четырнадцати дней и ночей о звательном падеже местоимения “я”, и это серьезная проблема, ведь речь идет о том, как следует обращаться к самим себе (Egone recte feci?[47]). Все это нам рассказывает Вергилий, напоминая молодого Джойса, который задавался вопросом, насколько священно крещение при помощи минеральной воды.
Каждый из упомянутых мною текстов может быть использован для описания страницы как из Келлской книги, так и из “Поминок по Финнегану”, потому что в каждом из них язык играет ту же роль, что в Келлской книге – миниатюры. Использовать слова для описания Келлской книги означает заново изобрести страницу гесперийской литературы. Келлская книга – это плетение и стилизация зооморфных орнаментов, это целые страницы, покрытые пышной листвой, среди которой резвятся обезьянки, как на средневековых гобеленах, где на самом деле каждая линия образует новое сплетение. Это сложный спиралевидный узор, который намеренно развивается вне всяких правил симметрии. Это симфония нежных цветов: от розового до желтовато-оранжевого, от лимонного до лилового. Четвероногие, птицы, левретки, играющие с клювом лебедя, невероятные человекоподобные создания вроде атлета на коне с головой между колен, который свернулся так, что образует заглавную букву, гибкие и изменчивые существа, которые просовывают головы через абстрактные узоры, вьющиеся вокруг заглавных букв и прорастающие между строчками. Страница как бы ускользает от нашего взгляда, живет своей жизнью, глазу не за что зацепиться, одно переходит в другое. Келлская книга – это царство Протея. Это порождение галлюцинаций, для которых не нужно нюхать кокаин или кислоту, чтобы создать бездны, потому что эти видения – безумие не одного человека, но целой культуры, ведущей диалог с самой собой, цитирующей другие Евангелия, другие письма, другие рассказы.
Это язык, который пытается заново создать мир через переосмысление самого себя, полностью отдавая себе отчет в том, что в темные века ключ к познанию мира не может быть найден на прямой дороге, а только в лабиринте.
Выходит, не случайно все это вдохновляло Джойса в тот момент, когда он пытался создать книгу, которая одновременно представляла бы собой образ мира и произведение для “идеального читателя, страдающего идеальной бессонницей”, – “Поминки по Финнегану”.
Но и в отношении “Улисса” Джойс прямо заявлял, что многие заглавные буквы в Келлской книге сами по себе обладают свойствами целой главы его романа, и просил, чтобы его произведение сравнивали с миниатюрами из нее.
Глава из “Поминок”, которая недвусмысленно обращается к Келлской книге, условно называется “Манифест Альпа”. В этой главе рассказывается история о некоем письме, найденном в навозе. Это письмо становится символом всех попыток коммуникации, всей мировой литературы и самих “Поминок по Финнегану”.
Страница из Келлской книги, которая особенно вдохновляла Джойса, называлась “темная страница” Tunc (лист 124e). Если взглянуть на эту страницу, одновременно читая, пусть даже невнимательно, какую-нибудь строчку из Джойса, создается впечатление, что мы имеем дело с мультимедийными средствами: язык отображает миниатюры, а миниатюры пробуждают лингвистические аналогии.
Джойс говорит о странице, на которой every person, place and thing in the chaosmos of Alle amyway connected with the gobblydumped turkey was moving and changing every part of the time (“каждое лицо, место и вещь в хаосмосе Всего, как-либо связанное с кулдыкнувшейся индеей, двигалось и менялось в каждую частицу времени”). Он говорит о steady monologuy of interiors (“стойко-моноложстве внутренностей”), где a word as cunningly hidden in its maze of confused drapery as a fieldmouse in a nest of coloured ribbons (“слово, столь же хитроумно спрятанное в путанице смешанной драпировки, как полевая мышь – в гнезде из цветных лент”) становится Ostrogothic kakography affected for certan phrases of Etruscan stabletalk (“остготской какографией, зараженной некоторыми фразами из этрусской застойльной беседы”), созданной из utterly unexpected sinistrogyric return to one pecular sore point in the past… indicating… that the words wich follow may be taken in any order desidered (“совершенно неожиданного синистрогирического возврата к одной чудной болячке в прошлом… с некоторым полузадержанным намеком… указывающим, что слова, следующие далее, можно взять в любом желаемом порядке… бессвязном, исходном, срединном или конечном”)[48].
Итак, что же представляет собой Келлская книга? Древняя рукопись рассказывает нам о мире, созданном из тропинок, которые расходятся в двух противоположных направлениях, из приключений ума и воображения, которые невозможно описать словами. Речь идет о структуре, где один элемент может соединяться с любым другим. В ней нет отправных точек, а есть соединительные линии, каждая из которых может быть прервана в любой момент, чтобы потом продолжить путь. Эта структура не имеет ни центра, ни периферии. Книга из Келлса – это лабиринт. Именно поэтому она стала в возбужденном сознании Джойса образцом бесконечной книги, которую еще только предстоит написать и которую может читать только идеальный читатель, страдающий идеальной бессонницей.
Но в то же время Келлская книга (вместе с ее потомком “Поминками”) – это модель человеческого языка, а может быть, и мира, в котором мы живем. Возможно, на самом деле мы живем внутри некоей Келлской книги, наивно полагая, будто живем внутри энциклопедии Дидро. Как Келлская книга, так и “Поминки” наилучшим образом воссоздают ту картину мира, что представлена в современной науке. Это образ расширяющейся вселенной, возможно, завершенной, но бесконечной, полной вопросов. Эти книги позволяют нам чувствовать себя людьми своего времени, хотя мы плывем по тому же опасному морю, где скитался святой Брендан в поисках Затерянного острова, воспетого на каждой странице Келлской книги, призывающей и вдохновляющей нас искать совершенные способы для описания нашего несовершенного мира.
Джим-бакалавр вовсе не был незрелым. Ведь он видел, пусть даже сквозь туманную дымку, свои будущие задачи. Нам следовало бы понять, что неоднозначность наших языков, их естественное несовершенство – это не послевавилонская болезнь, от которой человечество должно излечиться, а скорее единственная возможность, которую Бог дал Адаму, говорящему животному. Понимать человеческие языки, несовершенные, зато способные создавать то наивысшее несовершенство, которое мы называем поэзией, – это единственный исход всякого стремления к совершенству. Вавилонская башня – это не несчастный случай. Мы живем в Вавилонской башне с самого начала. Не исключено, что первый диалог между Богом и Адамом происходил на финнеганской речи, и мы сумеем спокойно встретить судьбу рода человеческого, только когда возвратимся к башне и примем единственную дарованную нам возможность.
Вся эта история началась в Дублине, когда один молодой человек не на шутку увлекся образами из Келлской книги, а также, вероятно, из Линдисфарнского и Дарроуского Евангелий или из Книги Бурой Коровы.
Once upon the time was a Dun Cow coming down along the maze and this Dun Cow that was coming down along the maze met a nicens little boy named baby Jim the bachelor… Давным-давно жила-была Бурая Корова, и как-то шла эта Бурая Корова по лабиринту, пока не встретила милого маленького мальчика по имени Джим-бакалавр…
Между Ла-Манчей и Вавилоном[49]
Мне особенно приятно, что Университет Кастилии – Ла-Манчи оказал мне честь, устроив церемонию вручения степени почетного доктора в своих краях и именно в юбилей Хорхе Луиса Борхеса[50]. Потому как в одном из здешних сел, название которого мне нет охоты припоминать, существовала и, возможно, еще существует библиотека. Из этой библиотеки, на полках которой хранились исключительно рыцарские романы, можно было выйти. И в самом деле, история хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского начинается как раз в тот момент, когда наш герой покидает место своих книжных мечтаний, чтобы почувствовать вкус приключений в настоящей жизни. Но поступает он так, будучи убежден, что книги говорят правду, а значит, можно, просто подражая им, совершать подвиги.
Триста пятьдесят лет спустя Борхес расскажет нам историю библиотеки, из которой нельзя выйти и в которой поиск истинного слова бесконечен и безнадежен.
Между двумя библиотеками существует глубинная связь: Дон Кихот пытался отыскать в мире подвиги, приключения, прекрасных дам, которых ему наобещали книги. Иными словами, он хотел верить и уверовал, будто мир подобен его библиотеке. Борхес, будучи меньшим идеалистом, решил, что его библиотека подобна миру. Именно поэтому он не видел смысла из нее выходить. Как нельзя сказать “остановите-ка мир, я хочу сойти”, так нельзя выйти из библиотеки Борхеса.
Есть множество историй про библиотеки: в одних рассказывается об утраченных библиотеках вроде Александрийской, в других – о библиотеках, из которых сразу же хочется выйти, потому что в них хранятся только абсурдные идеи и истории. Такова библиотека Св. Виктора, куда входит Пантагрюэль за несколько десятилетий до рождения Дон Кихота. Он с удовольствием прочитывает сотню томов, которые обещают приобщить его к вековой мудрости, но очень быстро покидает сие место, дабы заняться более полезным делом. Он оставляет нас в недоумении и слегка разочарованными. Разве не любопытно узнать, что было в тех томах, названия которых не устаешь смаковать: “Гульфик права”, “О павианах и обезьянах, с комментариями д’Орбо”, “Искусство благопристойно пукать в обществе”, “Муравейник искусств”, “О способах испражнения”, “О различиях супов”, “О превосходных качествах требухи”, “Хитроумнейший вопрос о том, может ли Химера, в пустом пространстве жужжащая, поглотить вторичные интенции”, “Антидотарий для души”, “Клистерные поля”, “Об отечестве дьяволов”?
Что касается библиотек Сервантеса и Рабле, мы можем процитировать названия книг, хранящихся в них, потому что это законченные библиотеки, ограниченные той реальностью, о которой говорили писатели: одна – Ронсевалем, другая – Сорбонной. Но мы не можем назвать ни одного заголовка из библиотеки Борхеса, потому что число ее книг бесконечно и потому что интересно не столько содержание этих книг, сколько устройство самой библиотеки.
О Вавилонской библиотеке мечтали и до Борхеса. Одно из характерных свойств библиотеки Борхеса – помимо бесконечных томов, выставленных в бесконечной анфиладе комнат, – это наличие книг со всевозможными комбинациями из двадцати пяти букв, и невозможно представить такое сочетание букв, которого бы там не было.
Это была заветная мечта каббалистов: комбинируя до бесконечности конечное число букв, они надеялись однажды раскрыть истинное имя Бога. Вопреки ожиданиям я не упоминаю круги каталанского философа Раймунда Луллия. Он хотел набрать астрономическое число понятий, но из них сохранить только “истинные”, избавившись от остальных. Но если сложить вместе круги Луллия и комбинаторную утопию каббалистов, мыслители семнадцатого столетия надеялись, кроме имени Бога, подыскать имя для каждого индивидуума в мире и таким образом избегнуть проклятия языка, который обязывает нас описывать отдельные понятия через общие (haeceitates через quidditates). Но пока у нас по-прежнему – как и у людей Средневековья – привкус горечи во рту из-за нехватки имен.
Немецкий поэт и философ Георг Филипп Харсдёрффер в “Занимательной математике и философии” (1651) предлагал разложить на пяти кругах двести шестьдесят четыре единицы (префиксы, суффиксы, буквы и слоги), чтобы создать комбинацию из 97 209 600 немецких слов, включая несуществующие. Христофор Клавий в комментариях к “Сфере” Иоанна Сакробоско пытался вычислить, сколько терминов можно создать из двадцати трех букв алфавита, комбинируя их два по два, три по три и так далее, составляя слова даже из двадцати трех букв. Швейцарский математик и астроном Пауль Гульдин (“Арифметическая задача сочетаний вещей”, 1622), подсчитывая все термины, которые теоретически можно создать из букв алфавита, длиной от двух до двадцати трех букв, достиг цифры семьдесят тысяч миллиардов слов. Чтобы записать эти слова в словарях из тысячи страниц по сто строчек на страницу и шестьдесят букв на строчку, потребовалось бы 8 052 122 350 библиотек. Французский математик, философ и богослов Марен Мерсенн (“Универсальная гармония”, 1636), кроме слов, взял в оборот также “песни” (то есть музыкальные секвенции) и подметил, что из двадцати двух нот можно создать двенадцать тысяч миллиардов секвенций (и если кому-нибудь пришло бы в голову записывать их по тысяче в день, понадобилось бы двадцать три тысячи миллионов лет). Желая подшутить над этими комбинаторами, Свифт предложил свою антибиблиотеку, а на самом деле совершенный научный универсальный язык, для которого не потребовалось бы больше ни книг, ни слов, ни букв алфавита:
После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора на совещании, посвященном вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Второй проект требовал полного упразднения всех слов; автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережение времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю: так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки! Тем не менее многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом выражения своих мыслей при помощи вещей. Единственным его неудобством является то обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились[51]. (“Путешествие Гулливера”, III, 5)
В любом случае очевидно, что Свифт тоже не мог бы избежать чего-то наподобие Вавилонской библиотеки. Чтобы назвать все предметы в мире, человечеству понадобился бы словарь, созданный из предметов протяженностью с целый мир. Так опять же исчезла бы разница между миром и библиотекой. По проекту Свифта мы жили бы в библиотеке, более того, стали бы ее частью. Мы никогда не могли бы из нее выйти. Мы не могли бы даже говорить о ней, так как в нашем мире, похожем на Вавилонскую библиотеку с ее шестигранниками, мы могли бы толковать только об окружающих нас предметах, пребывая в определенном месте и показывая на них пальцем.
Предположим, что проект Свифта воплотился в реальность и люди перестали говорить. Но и в этом случае, как предупреждал нас Борхес, библиотека содержала бы автобиографии архангелов и подробнейшую историю будущего. Исходя из этого замечания Борхеса, Томас Павел в своей книге “Вымышленные миры” предлагает нам принять участие в интереснейшем умозрительном опыте[52]. Представим, что некое всеведущее существо может написать или прочесть всеобъемлющую книгу, содержащую все истинные утверждения как о существующем мире, так и о возможных мирах. Поскольку об этих мирах можно говорить на разных языках и каждый язык будет по-разному их описывать, появится некое всеобъемлющее собрание всеобъемлющих книг. Предположим, что Бог поручит некоторым ангелам написать для каждого человека повседневную книгу, где ангелы будут помечать как все его желания, надежды, так и реальные события его жизни, соответствующие тому или иному верному утверждению в одной из всеобъемлющих книг всеобъемлющего собрания. Все повседневные книги отдельно взятого человека будут представлены на Страшном суде вместе с книгами, которые дают оценку жизни семей, племен и наций.
Но ангел, пишущий повседневную книгу, не только фиксирует верные утверждения: он их соединяет, оценивает, выстраивает в систему. И поскольку в день Страшного суда группы людей и индивиды будут иметь каждый своего ангела-хранителя, последние перепишут для своих подопечных астрономическое число повседневных книг, в которых те же самые утверждения будут связаны по-другому и иначе сопоставлены с утверждениями какой-нибудь всеобъемлющей книги.
Поскольку в каждой всеобъемлющей книге есть сведения об альтернативных мирах, ангелы будут писать повседневные книги, где перемешаны утверждения, верные для одной реальности и ложные для другой. А если представим какого-нибудь неловкого ангела, перепутавшего утверждения, которые отдельно взятая всеобъемлющая книга записывает как взаимопротиворечащие, в итоге мы получим целую серию комментариев, рубрик “Обо всем понемногу”, комментариев к фрагментам этих рубрик, которые смешают в одну кучу отрывки книг разного происхождения. Тогда будет трудно определить, какие истории являются истинными, а какие выдуманными, и по отношению к какому прототипу. Так у нас появится астрономическое число книг. Каждая из них будет толковать о разных мирах, и одни читатели будут считать выдуманными истории, которые другие полагали истинными.
Павел пытается донести до нас, что на самом деле мы уже живем в подобной реальности, разве что книги были написаны не архангелами, а людьми: от Гомера до Борхеса. Он намекает, что вымышленные истории не такие уж “незаконнорожденные” по сравнению с “чистокровными”, повествующими о реальности. Павел считает, что рассказанная им легенда довольно точно описывает наше положение в мире утверждений, которые мы привыкли считать “истинными”. При приближении к размытым границам вымышленного и реального нас охватывает та же дрожь, что и перед книгами, написанными ангелами, но то же самое чувство нам следовало бы испытывать и перед некоторыми текстами, которые авторитетно представляют реальный мир.
Идея Вавилонской библиотеки сопряжена с не менее захватывающей идеей множества возможных миров. Неслучайно фантазии Борхеса вдохновили расчеты модальных логиков. Кроме того, всеобъемлющая библиотека Павла, в которой, безусловно, имеются труды Борхеса, включая его рассказ о Вавилонской библиотеке, удивительно похожа на библиотеку Дон Кихота: у хитроумного идальго хранились книги с невозможными историями, происходившими в возможном мире, так что читатель терял ощущение границы между выдумкой и реальностью.
Существует и другая история, выдуманная художником и повлиявшая на воображение ученых, правда, скорее не логиков, а физиков и космологов, – “Поминки по Финнегану” Джойса. Джойс не стал изобретать вымышленную библиотеку: он воплотил то, что позднее задумает Борхес. Он использовал двадцать шесть букв английского алфавита, чтобы создать целый лес несуществующих и многозначных слов. В качестве модели мира он предложил книгу, которую будет читать бесконечно и периодично специально задуманный для нее идеальный читатель, страдающий идеальной бессонницей.
Почему я сейчас вспомнил о Джойсе? Наверное, в первую очередь потому, что Джойс и Борхес – мои самые любимые современные писатели, более прочих повлиявшие и на мое собственное творчество. Но также и потому, что пришло время поставить вопрос о сходстве и различии этих двух авторов, для которых игровым полем стали язык и мировая культура.
Я бы хотел поместить Борхеса в контекст современного экспериментализма, который, по утверждению многих, возникает тогда, когда литература начинает исследовать свой (а на самом деле общий) язык с такой доскональностью, что разлагает его до самых корней. Вот почему, когда речь идет об экспериментализме, на ум приходит Джойс как автор “Поминок по Финнегану”. В этом произведении не только английский язык, но и языки всех народов мира превращаются в поток свободных частиц, которые собираются и разрушаются, порождая лексических монстров, потом свертываются на одно мгновение, чтобы снова раствориться, подобно космическому танцу атомов, в котором написанное распадается до этимона. Созвучность слов “этимон” и “атом”, заставляющая Джойса говорить в своем произведении об abnihilisation of the etym, отнюдь не случайна.
Борхес, на первый взгляд, не ставит язык в критическое положение. Достаточно бросить взгляд на ясную прозу его эссе, традиционную грамматику его рассказов, легкость и доходчивость его стихов. В этом смысле Борхес более чем далек от Джойса.
Конечно, как всякий хороший писатель, Борхес придает живости и свежести языку, на котором пишет, но он не устраивает из него балаган. Если эксперименты Джойса с языком можно считать революционными, Борхес предстает как консерватор, безумный архивариус и заботливый хранитель культуры. Безумный, но консервативный архивариус. Но именно этот оксюморон (“безумный архивариус”) становится ключевым словом в разговоре об экспериментализме Борхеса.
В планы Джойса входило превратить мировую культуру в игровое поле. Но об этом подумывал и Борхес. В 1925 году он еще признавал некоторые затруднения в прочтении “Улисса” (см. его “Расследования”). В ноябре 1939-го (“Сюр”) Борхес уже смотрел с осторожным любопытством на каламбуры Джойса и, по словам Эмиля Родригеса Монегаля, уже в те годы сам придумал одно словечко во вкусе Джойса: whateverano (what a summer и whatever is summer). Открыто Борхес выразит Джойсу свое восхищение и признательность в стихотворениях из книги “Хвала тьме”:
- И что потерянное поколенье,
- пожухнувшее зеркало, когда
- его твои оправдывают книги?
- Я – все они, все мы, кого спасла
- твоя неукоснительная строгость,
- чью жизнь твой труд невольно искупил.[53]
Итак, что связывает этих двух авторов, которые избрали полем своей игры мировую культуру, чтобы спастись и пропасть? Я полагаю, что литературный экспериментализм и языки. Но каждый язык, как известно лингвистам, имеет две стороны: означающее и означаемое. Означающее организует звуки, означаемое – идеи. Совокупность идей, составляющих форму определенной культуры, зависит от языка, потому что с его помощью мы формулируем мысли, порожденные нашим взаимодействием с мировым континуумом, и так познаем культуру. Без языка не существовало бы идей, а был бы только поток неосмысленных и невыраженных ощущений.
Экспериментировать с языком и с культурой, для которой он служит средством общения, означает работать на два фронта (означающего и означаемого): играя со словами, разрушая и вновь собирая их, мы перестраиваем идеи; играя с идеями, мы открываем для слов немыслимые горизонты.
Джойс играл со словами, Борхес – с идеями. И именно здесь вырисовывается разный подход двух авторов к бесконечной делимости объекта их манипуляций.
Неделимые частицы слова – это корни, слоги и фонемы. В крайнем случае можно переставить звуки, придумав неологизм или каламбур, или переставить буквы и получить анаграмму. В этом развлечении каббалистов Борхес знал толк.
Мельчайшая частица идеи, или означаемого, – это всегда сама идея или еще одно значение. Можно объяснить слово “мужчина” как “животное, принадлежащее роду людей, мужского пола” или слово “роза” как “цветок с мясистыми лепестками”, можно выстроить целую цепочку, объясняя одни идеи через другие, но идея как частица все равно не расщепляется.
Мы можем сказать, что работа с означающим производится на субатомном уровне, в то время как работа с означаемым осуществляется на уровне частиц, которые нельзя никак разделить, чтобы создать из них новые молекулы.
Борхес, в отличие от Джойса, избрал второй путь, и это путь столь же строгий, абсолютный и точно так же проходящий на грани возможного и мыслимого. Чтобы добиться этого, Борхес учился у разных учителей, о чем он прямо заявляет (ранее я не зря упомянул несколько имен). Одним из них был Раймонд Луллий со своим “Великим искусством”, в котором Борхес видел предшественника современной информатики. Вторым, менее известным, учителем стал Джон Уилкинс: в своем “Опыте о подлинной символике и о философском языке” 1668 года английский ученый пытался создать идеальный язык, не дававший покоя Мерсенну, Гульдину и другим его современникам. Но Уилкинс не хотел бессмысленно комбинировать буквы, чтобы дать имя каждому предмету и явлению: он предпочитал работать с теми символами, которые он сам и другие называли “подлинными”. Мысль о них возникла благодаря китайским иероглифам, в которых каждому элементарному символу соответствует идея, так что при комбинировании элементов для называния вещей через имя проступает природа этих вещей.
Проект был обречен на провал, что я попытался объяснить в своей книге “Поиски совершенного языка в европейской культуре”[54], но интересно, что Борхес не читал трудов Уилкинса, а узнал о нем из Британской энциклопедии и какой-то еще книги, в чем он признается в своем эссе “Аналитический язык Джона Уилкинса” (“Новые расследования”). Тем не менее Борхес оказался в состоянии сформулировать сущность его идей и определить слабые места замысла британского лингвиста гораздо лучше других ученых, потративших всю свою жизнь на чтение массивного инфолио 1668 года. Оспаривая идеи Уилкинса, Борхес увидел в его трудах нечто общее с трудами других мыслителей семнадцатого века, тоже занимавшихся проблемой комбинирования букв алфавита.
Борхес, увлекавшийся универсальными и тайными языками, прекрасно знал, что проект Уилкинса не воплотим, потому как предполагает перечисление всех предметов и понятий в мире, а также единый критерий для упорядочивания всех наших идей – нерасщепляемых частиц. Именно в эту ловушку попадают все создатели утопии универсального языка. Но посмотрим, к какому заключению приходит Борхес.
Осознав раз и навсегда, что невозможно прийти к единой классификации мировых предметов, Борхес увлекся противоположной, по сути, мыслью: перевернуть и умножить классификации. Именно в эссе, посвященном Уилкинсу, упоминается невероятная китайская энциклопедия (“Небесная империя благодетельных знаний”), в которой мы находим замечательный образчик нелепой и непоследовательной классификации, вдохновившей Мишеля Фуко на написание книги “Слова и вещи”, о чем сообщается в ее предисловии.
Заключение, к которому приходит Борхес из-за несостоятельности классификаций: мы не знаем, что такое мир. Более того, он утверждает, что “мира в смысле чего-то ограниченного, единого, мира в том смысле, какой имеет это претенциозное слово, не существует”. Но сразу же оговаривается: “Невозможность постигнуть божественную схему мира не может, однако, отбить у нас охоту создавать наши, человеческие схемы”[55].
Борхес знал, что построения в духе Уилкинса и многих научных теорий, как правило, дают результаты лишь частичные и временные. Сам он пошел другим путем: если семантические атомы знания многочисленны, игра поэта будет заключаться в том, чтобы заставить их вращаться, бесконечно смешивать их и создавать из них не только лингвистические этимоны, но и сами идеи. Миллионы новых китайских энциклопедий, “Небесных империй”, общая сумма которых никогда не будет подсчитана, – это и есть Вавилонская библиотека. Библиотека, которую Борхес отыскал на складе тысячелетней культуры и в дневниках каждого архангела. Но он не ограничился простым исследованием этой библиотеки: он попытался соединить разные шестигранные галереи библиотеки между собой, вставить страницы одной книги в другую (или, по крайней мере, найти возможные книги, в которых уже присутствовала такая путаница).
Речь идет о крайней форме современного экспериментализма – о постмодернизме, интертекстуальной игре. Но Борхес вышел за пределы интертекстуальности, предваряя эпоху гипертекста, когда в одной книге не только говорится о другой, но через одну книгу можно проникнуть в содержание другой. Описывая на каждой странице не столько форму своей библиотеки, сколько подробную инструкцию, как по ней передвигаться, аргентинский писатель, по сути, предвидел структуру современной всемирной сети – интернета.
Перед Борхесом стоял выбор: посвятить свою жизнь поиску тайного языка Бога (он рассказывает об этом поиске) или же восхвалять тысячелетний мир знания как танец атомов, переплетений цитат, склеивания смыслов, чтобы создать не только то, что уже было и есть, но и что будет и может быть, ибо именно таковы задачи и возможности библиотекарей Вавилонской библиотеки.
Только в свете этого экспериментализма Борхеса (с идеями, а не словами) становится понятной поэтика точки Алеф, из которой можно увидеть в одно мгновение все бесчисленные и перемешанные предметы, населяющие мир. Сначала нужно увидеть все вместе, затем поменять комбинацию и увидеть нечто иное, и так до бесконечности можно создавать свою китайскую энциклопедию.
В таком случае проблема безграничности и всеохватности библиотеки, проблема конечности, бесконечности и периодичности числа ее книг, становится вторичной. Настоящий герой Вавилонской библиотеки – не сама библиотека, а ее читатель, новый Дон Кихот, подвижный, любящий приключения, неутомимый изобретатель, алхимик-комбинатор, способный приручить ветряные мельницы и заставить их вращаться вечно.
Для этого читателя Борхес придумал молитву в еще одном стихотворении, посвященном Джойсу:
- Пока закат придет заре на смену,
- пройдет история. В ночи слепой
- пути завета вижу за собой,
- прах Карфагена, славу и геенну.
- Отвагой, Боже, не оставь меня,
- дай мне подняться до вершины дня[56].
Борхес и мой страх влияния[57]
Явсегда говорил: на конгрессы по кардиологии не стоит приглашать людей, страдающих сердечными заболеваниями. Мне следовало бы не только поблагодарить вас за все приятные слова, сказанные в мой адрес на конференции, но и помолчать в соответствии с моей же мыслью о том, что написанный текст – это рукопись, найденная в бутылке. Это не значит, что нужно торопиться с прочтением рукописи, она должна отлежаться, пока рак на горе не свистнет, как говорят в народе. Вот почему в эти дни я записывал ответы на каждое выступление или дополнение, а потом решил не обсуждать каждый доклад по отдельности.
Давайте лучше с учетом высказанных вами соображений поговорим о влиянии. Это очень важный концепт в литературоведении, истории литературы и нарратологии, но и очень опасный. В ходе этой конференции я не раз вспоминал о его опасности и теперь хотел бы своими мыслями поделиться.
Когда речь идет о влиянии автора А на автора В и наоборот, возможны две ситуации:
(1) А и В были современниками. Например, мы можем озаботиться вопросом: имело ли место какое-либо взаимовлияние между Прустом и Джойсом? Нет. Писатели встретились всего раз в жизни, и каждый сказал про другого что-то вроде: “Какой неприятный тип, я ничего или почти ничего не читал из его произведений”.
(2) А предшествует В хронологически. Как раз этот вариант обсуждался на конференции. Но в таком случае мы можем говорить только о влиянии А на В.
Несмотря на все это, нельзя говорить о взаимовлияниях в литературе, философии, даже в научных исследованиях, не поставив на вершину треугольника некий X. Можем ли мы назвать этот Х культурой, цепочкой предыдущих влияний? В соответствии с темой наших последних дискуссий назовем его мировой энциклопедией. Учитывать этот Х следует всегда, и особенно в случае Борхеса, который, как и Джойс, пусть и иным способом, использовал в качестве инструмента игры мировую культуру.
Отношения авторов А и В бывают устроены по-разному: (1) В находит нечто интересное в произведениях А, не зная, что это часть Х; (2) В находит нечто интересное в произведениях А и через творчество последнего приходит к Х; (3) В обращается к Х и только потом замечает, что то же самое было и у А.
Сейчас я не буду выстраивать точную типологию моих отношений с Борхесом, а приведу несколько почти случайных примеров. На другом заседании какой-нибудь ученый может при желании соотнести мои примеры с разными точками приведенного выше треугольника. Кроме того, часто картина предстает не такой уж однозначной. Говоря о взаимовлияниях, стоит учитывать непостоянство памяти: один автор может прекрасно помнить, что он вычитал у другого, скажем, в 1958 году, но не помнить об этом в 1980-м, пока пишет собственное произведение, и снова вспомнить (сам или с подсказкой) в 1990-м. Можно было бы устроить настоящий психоанализ влияний. Например, в моих литературных произведениях находили связи с другими авторами, которые я и сам прекрасно осознавал. Некоторые отсылки казались сомнительными, так как я абсолютно не был знаком с их источником. Некоторые меня удивляли, но выглядели убедительно, как в случае с “Именем розы”, где Джорджо Челли обнаружил влияние исторических романов Дмитрия Мережковского – и я должен признать, что читал их в двенадцатилетнем возрасте, хотя в то время, когда писал роман, об этом совсем позабыл.
Диаграмма вовсе не так проста, потому что кроме А, В и тысячелетней энциклопедии Х существует также дух времени. Концепт духа времени не должен быть метафизическим или метаисторическим, его можно развернуть в цепочку взаимовлияний, но самое удивительное, что он действует даже в сознании ребенка. Недавно я отыскал в старых ящиках одно свое произведение, написанное в десять лет: дневник некоего волшебника – открывателя, колонизатора и реформатора острова Гьянда в Северном Ледовитом океане. Если перечитать это детское творение сейчас, оно очень напоминает Борхеса, но совершенно очевидно, что я не мог в десятилетнем возрасте читать аргентинского писателя (тем более на его языке). Не мог я читать и утопий об идеальных государствах шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого столетий. Однако я прочел много приключенческих романов, сказок и даже детское переложение “Гаргантюа и Пантагрюэля”, и бог знает какие химические реакции произошли в моем воображении.
Дух времени иногда заставляет думать даже о перевертывании временной линии. Помню, в семнадцать (то есть около 1948 года) я написал истории планет: рассказы, в которых персонажами стали Земля, Луна, Венера, влюбленная в Солнце, и так далее. Это были в своем роде “космикомические истории”. Иногда я в шутку спрашиваю себя, как Итало Кальвино удалось проникнуть в мой дом много лет спустя, чтобы переворошить старые ящики и найти единственный экземпляр моих юношеских писательских опытов. Конечно, это шутка, но она лишний раз заставляет поверить в дух времени. Будете смеяться, но “Космикомические истории” Кальвино гораздо лучше моих.
Наконец, существуют темы, общие для многих писателей, потому что они как бы подсказаны окружающей действительностью. Например, я помню, сколько литературоведов после выхода в свет “Имени розы” находили книжки, в которых тоже упоминалось сожженное аббатство, причем многие из этих книжек я никогда не читал. Никто почему-то не задумался о том, что в Средние века монастыри и церкви частенько горели.
Сейчас, чтобы не цепляться за свою схему, введу в свою триаду – интенция автора, интенция текста, интенция читателя – еще и немаловажную для нашего разговора интенцию интертекста. Позвольте мне еще раз обратиться к моим немного запутанным связям с Борхесом: 1) его влияние, вполне мною осознанное; 2) случаи, когда читатели (в том числе и вы, уважаемые участники конференции) вынуждали меня признать неосознанное влияние Борхеса; 3) случаи, когда без учета более ранних источников и интертекстуальности мы условно считаем двусторонней связью трехстороннюю. К тому же Борхес был многим обязан мировой культуре. Он многое почерпнул из нее, в чем сам с гордостью признавался, так что некоторые мотивы мы не можем приписывать исключительно Борхесу. Неслучайно я называл его “безумным архивариусом”: безумие Борхеса не может существовать без архива, в котором он работает. Думаю, если бы мы подошли к нему и сказали: “Это придумал ты”, – он бы ответил: “Нет! Это уже было, существовало раньше!” В качестве своего девиза он мог бы использовать фразу Паскаля, которую я взял эпиграфом к “Трактату по общей семиотике”: “Пусть никто не говорит, что я не сказал ничего нового; расположение материала у меня новое”.
Я говорю это не для того, чтобы умалить свои многочисленные долги перед Борхесом, а чтобы сформулировать основной принцип своего творчества, ваших изысканий и произведений Борхеса: мы всегда должны помнить о том, что книги разговаривают друг с другом.
В 1955 году издательство “Эйнауди” публикует “Вымышленные истории” Борхеса под названием “Вавилонская библиотека”. Их посоветовал издательству Серджо Сольми, великий поэт, которого я очень любил. Несколькими годами ранее он написал очерк о научной фантастике как жанре. Видите, какие шутки выкидывает дух времени: Сольми открывает Борхеса, в то время как читает американских писателей-фантастов, которые пишут (возможно, сами того не осознавая) в русле традиции утопических рассказов, берущей начало в семнадцатом – восемнадцатом веке. Не будем забывать, что еще епископ Уилкинс написал книгу о жителях Луны, а значит, он, как Гудвин и прочие, путешествовал по разным вымышленным мирам. Помню, как в 1956 или 1957 году Серджо Сольми, прогуливаясь со мной однажды вечером по площади Дуомо, сказал: “Я посоветовал “Эйнауди” напечатать эту книгу, нам не удалось продать и пятисот экземпляров, и все же прочтите ее, она очень хороша”. Именно тогда я впервые влюбился в Борхеса. Будучи единственным владельцем экземпляра книги, я ходил к друзьям и читал отрывки из его “Пьера Менара, автора “Дон Кихота”.
В ту эпоху я начал писать пастиши-пародии, которые впоследствии превратились в “Малый дневник”. Из чего я исходил? Возможно, самое большое влияние на меня оказали “Пастиши и смеси” Пруста, настолько большое, что, когда во Франции опубликовали мой “Малый дневник”, я назвал его “Пастиши и постиши”[58]. Когда же я издал “Малый дневник” в Италии в 1963-м, мне пришло на ум дать ему название, которое отсылало бы к роману Витторини Piccola borghesia (“Мелкая буржуазия”), – Piccola Borghes-ia (“Малая Борхеасия”). Уже в этом обозначилась смесь влияний и перекличек.
Но тогда я не мог позволить себе ссылаться на Борхеса, потому что в Италии он был почти неизвестен читателю. Только в последующие десятилетия Борхес окончательно проникает на Апеннинский полуостров со всеми своими остальными произведениями, главным образом благодаря Доменико Порцио, моему дражайшему другу, начитанному человеку с широким кругозором, хотя и литературоведу-традиционалисту. В ту эпоху, когда у нас велись споры о неоавангардизме, Борхес не считался авангардным писателем. Тогда появились “Новейшие”, “Группа 63”, которые брали за образец Джойса или Гадду. Неоавангардисты интересовались литературным экспериментализмом, который обращался к означающему (форме). Образцом для них была нечитаемая книга. Борхес, напротив, писал классическим литературным языком, работал с означаемым (смыслами). В те времена он казался нам всем слишком правильным, а поэтому настораживал и с трудом вписывался в определенные рамки. Грубо говоря, если Джойс и Роб-Грийе стояли слева, Борхес – справа. И поскольку я не хотел бы придавать этому сравнению политический оттенок, мы спокойно могли бы поменять их местами – от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется.
В любом случае для некоторых из нас Борхес был “тайной любовью”. Неоавангардисты признали его “своим” официально только много лет спустя.
В начале шестидесятых к фантастике причисляли или традиционную литературу, или научную фантастику, так что случалось, что литературоведы писали статью о научной фантастике и о фантастическом, но это не имело никакого отношения к теории литературы. Я думаю, что интерес к Борхесу возникает в середине шестидесятых вместе с подъемом теорий структурализма и семиологии.
Здесь необходимо отметить еще одну ошибку, которая постоянно повторяется даже в так называемых научных трудах: ныне их авторы утверждают, что итальянский неоавангардизм (“Группа 63”) – это пример структурализма. На самом деле никто из этой группы не интересовался структурной лингвистикой, кроме меня, да и то это было мое личное хобби, возникшее в Падуанском университете (под влиянием Сегре, Корти, Авалле) и Париже (встречи с Бартом).
Почему же интерес к Борхесу рождается вместе со структурализмом? Да потому, что Борхес экспериментировал не со словами, а с концептуальными структурами, и только методология структуралистов годилась для анализа и понимания его работ.
Позднее, когда я описываю библиотеку в “Имени розы”, я думаю о Борхесе. Если вы прочтете мою статью “Код” в энциклопедии Эйнауди, вы увидите, что в одном из абзацев я провожу эксперимент с Вавилонской библиотекой. Эта статья была издана в 1976 году, за два года до того, как я начал писать “Имя розы”, но уже тогда я долгое время был одержим библиотекой Борхеса. Когда я приступил к роману, естественно, мне приходит на ум идея библиотеки со слепым библиотекарем, которому я даю имя Хорхе из Бургоса. На самом деле я не помню, почему именно из Бургоса: возможно, потому, что я что-то вычитал про этот город и узнал, что в описываемую в романе эпоху в Бургосе уже производили pergamino de pao, то есть бумагу вместо пергамена. Иногда не упомнишь, что, где и когда ты прочел, особенно если читал много всего и быстро.
Меня нередко спрашивали, почему же Хорхе стал “отрицательным персонажем” в моей истории. На этот вопрос я могу ответить только одно: в тот момент, когда я давал этому герою имя, я понятия не имел, что он потом сделает (так же случалось и с другими моими романами, поэтому поиски точных прототипов и отсылок к тому или иному событию или персонажу будут напрасной тратой времени). Тем не менее не исключаю, что, когда передо мной возникла тень Борхеса, я находился под влиянием его рассказа “Смерть и буссоль”, который произвел на меня сильное впечатление.
Влияние – странная штука. Если бы мне задали тот же самый вопрос, когда я замышлял сцену, в которой Хорхе и Уильям испытывают друг к другу влечение, я бы ответил, что думал о фрагменте из Пруста. В том эпизоде Шарлюс пытается обольстить Жюпьена и метафорически сравнивается с пчелой, кружащей над цветком.
Были у меня и другие образцы. Например, для меня была важна модель “Доктора Фаустуса” Томаса Манна. Старик Адсон расказывает нам историю своей юности и вновь переживает ее, подобно тому как старый Серенус Цейтблом рассказывает историю Адриана Леверкюна. А вот еще один любопытный пример незамеченных влияний: мало кто из критиков нашел связь с “Доктором Фаустусом”, но многие отыскали аллюзии на диалог между Нафтой и Сеттембрини из “Волшебной горы” Томаса Манна.
Приведу другие примеры. Я весьма признателен исследователям, обратившим внимание на возможное влияние флоберовского “Бувара и Пекюше” на “Маятник Фуко”. В самом деле, когда я писал свой роман, то много думал об этой книге и даже был готов перечитать ее, но потом передумал, решив “переписать” ее, подобно борхесовскому герою Пьеру Менару.
Совсем иной характер носят мои отношения с розенкрейцерами, которые и определили структуру “Маятника Фуко”. Еще с юности я накопил целую полку книг, посвященных оккультным наукам. Как-то раз мне в руки попадает глупейшая книжонка о розенкрейцерах – тогда-то у меня и возникает идея создать своих “Бувара и Пекюше” из мистической чепухи. После этого я начинаю собирать второсортную оккультную писанину и исторически достоверную литературу о розенкрейцерах. И только когда я уже написал большую часть романа, мне на глаза попадается “Тлён, Укбар, Орбис Терциус” Борхеса, где он упоминает розенкрейцеров, опираясь, как часто с ним случалось, на вторичные источники (Де Куинси) и понимая суть вопроса лучше, чем ученые, потратившие на это всю свою жизнь.
Во время своих поисков я обнаружил фотокопию вышедшей из тиража книги – монографию Арнольда. Позднее, когда “Маятник” уже был издан, я посоветовал перевести старика Арнольда на итальянский язык. Сразу после этого французский издатель пожелал переиздать его и попросил меня написать предисловие. Тогда, уже сознательно обращаясь к Борхесу, я начинаю с “Тлён, Укбар, Орбис Терциус”. Но кто знает: а что, если слова “роза” и “крест” запечатлелись в глубине моего сознания еще много лет назад, когда я прочел “Тлён”, а потом всплыли из подсознания десятью годами позже – благодаря Борхесу, когда я прочел ту идиотскую книжку о розенкрейцерах?
В последнее время я размышлял над тем, насколько на меня повлияла “модель Менара”. Это история, которую я не перестаю цитировать с тех пор, как прочел впервые. В какой степени она определила мой стиль письма? Вот в чем, сказал бы я, истинное влияние Борхеса на “Имя розы”, а не в образе библиотеки-лабиринта. Вообще мир полон лабиринтами еще со времен Кносского лабиринта, и литературоведы-постмодернисты считают лабиринт самым популярным образом всей современной литературы. Я знал, что достаточно правдоподобно переписываю средневековую историю, которая, однако, в глазах моих современников приобретет иное значение. Я знал, что в описанной мною сцене из четырнадцатого века между братьями-миноритами и фра Дольчино итальянский читатель увидит почти буквальную отсылку к “Красным бригадам”, даже против моей воли. И меня очень позабавил тот факт, что спутницу фра Дольчино звали Маргарита, как и жену Ренато Курцио. “Модель Менара” работала на сознательном уровне, потому что когда я писал имя спутницы Дольчино, то понимал: читатель подумает, будто я имел в виду провести параллель с женой Курцио.
После “модели Менара” обращусь к “модели Аверроэса”. История Аверроэса и театра – еще одна моя любимая история. На самом деле единственная моя работа по семиотике театра вдохновлена историей Аверроэса[59]. Что же в ней такого особенного? Аверроэс Борхеса глуп, но не лично, а в культурном плане, потому что он видит перед глазами реальность (играющих детей) и не может соотнести ее с тем, что он читает в книге. Я подумал, что доведенная до абсурда ситуация Аверроэса – это прием отстранения, о котором говорят русские формалисты: описание предмета, как будто ты видишь его впервые, тем самым затрудняя читателю восприятие. Я бы сказал, что в своих романах переворачиваю “модель Аверроэса”: персонаж (культурно необразованный) часто с большими глазами описывает то, что видит, и не очень понимает увиденное, в то время как читатель должен это понять. Таким образом, я стараюсь создать умного Аверроэса.
Возможно, как сказал кто-то, это и есть причина успеха моих произведений: я использую прием, противоположный отстранению, – приобщаю читателя к тому, чего он не знал раньше. Я завожу некоего простого парня из Техаса, который никогда не видел Европы, в средневековое аббатство (или во дворец тамплиеров, или в музей, набитый непонятными экспонатами, или в барочную залу) и заставляю его почувствовать себя там уютно. Я изображаю средневекового персонажа, который непринужденно надевает очки, и его удивленных современников. Сначала простодушный читатель не понимает их удивления, но потом узнает, что очки только-только были изобретены в Средние века. Это не прием Борхеса, это моя “модель анти-Аверроэса”, но без Борхеса мне не удалось бы ее придумать. Это и есть настоящее влияние, а остальное – скорее видимость.
Вернемся к теме мирового беспорядка и мира-лабиринта, которая, как кажется, исходит непосредственно от Борхеса. Но я находил похожие идеи и у Джойса, и в средневековой литературе. “Лабиринт света” был написан Яном Коменским в 1623 году, а концепт лабиринта был частью идеологии маньеризма и барокко. В наше время не без влияния работы Коменского появилась прекрасная книга Гокке по маньеризму “Мир как лабиринт”. И это не все. Идея о том, что любая классификация в этом мире приведет к построению лабиринта или сада расходящихся тропок, ясно и четко была сформулирована еще Лейбницем в его предисловии к энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. Все это могло стать источниками Борхеса. Вот случай, когда не совсем ясно даже мне самому, то ли я (автор В) благодаря Борхесу (автору А) пришел к Х (мировой культуре), то ли я (В) сначала открыл для себя некоторые аспекты Х, а потом заметил, насколько они повлияли на А.
Однако лабиринты Борхеса, возможно, объединили для меня все отсылки к лабиринтам, которые я открывал раньше у других авторов, так что у меня возник вопрос: а смог бы я написать “Имя розы” без Борхеса? Но в этом случае мы оказываемся перед абсурдным условием вроде: “А если бы Наполеон был сомалийской женщиной, победил бы он в битве при Ватерлоо?” Теоретически, запустив полным ходом машину отца Иммануила (иезуита из моего романа “Остров накануне”), мы увидим следующее: уже давно существуют библиотеки; споры о сущности смеха были характерны для средневекового мира; история с падением ордена только начиналась, если угодно, от Оккама и далее; игры с зеркалами уже были упомянуты в “Романе о розе” и исследовались арабами, к тому же с юных лет мне нравились стихи Рильке о зеркалах. Смог бы я использовать все эти элементы без Борхеса? Возможно, нет. Но смог бы Борхес написать все свои произведения, не имея за плечами багажа знаний, почерпнутых из текстов, о которых говорилось выше? Как иначе он катализировал бы идею лабиринта и мистических зеркал? Работа Борхеса заключалась в том, чтобы с огромного поля интертекстуальности собрать кружащиеся там темы и превратить их в назидательную притчу.
Я бы хотел выявить все случаи, когда поиск простого влияния одного писателя на другого становится опасным, так как теряются интертекстуальные связи. Борхес – это автор, который говорил обо всем. Невозможно найти в истории культуры темы, которой не коснулся бы Борхес. Один из исследователей заметил, что Борхес мог бы повлиять на платоновского “Парменида”, когда писал свою “Сферу Паскаля”, в которой выведены те же персонажи, что и у античного автора. Еще кто-то здесь говорил о шекспир-бэконовском вопросе. Борхес тоже отдает ему дань, но на эту тему существует обширная литература, начиная от семнадцатого века, не говоря уже о монументальных (и безумных) трудах девятнадцатого века, традиция коих продолжается и в наше время псевдосекретными обществами, которые ищут следы Бэкона в произведениях Шекспира. Идея, будто под именем великого барда писал кто-то другой, не могла не привлечь Борхеса. Но это не повод утверждать, что ученые, которые пишут о шекспир-бэконовском вопросе, цитируют Борхеса.
А теперь обратим внимание на проблему розы. Я уже неоднократно рассказывал, что название “Имя розы” было выбрано моими друзьями из списка, который я набросал на скорую руку. На самом деле первый вариант заголовка звучал как “Преступления в аббатстве” (очевидная отсылка к “Убийству в доме викария” – традиционной теме английского детективного романа), имелся и подзаголовок: “Итальянская история из четырнадцатого века” (отсылка к Мандзони). Но этот вариант показался мне слишком громоздким, и я составил список названий, среди которых мне больше всего нравилось Blitiri (этот термин наряду с babazuf использовался поздними схоластами для обозначения слова, лишенного смысла). Затем, поскольку в последних строках цитировался стих Бернарда Клюнийского во вкусе номиналистов (stat rosa pristina nomina – “как роза при имени прежнем” – и т. д.), я добавил в список еще и “Имя розы”. Как я уже не раз объяснял, мне оно казалось удачным потому, что подлежало широкому толкованию, ведь роза в течение истории мистики и литературы приобрела множество разных значений, часто противоречивых. Я искренне надеялся, что оно не поддается однозначной “расшифровке”.
Напрасные старания: все искали точное значение. Некоторые видели в нем отсылку к шекспировскому стиху a rose by any other name – “…хоть розой назови ее, хоть нет”, – где смысл как раз противоположный тому, что подразумевал мой источник. Но, клянусь, я точно не думал об упоминаниях розы у Борхеса. Тем не менее мне очень понравился прозвучавший на конференции комментарий Марии Кодамы, вспомнившей Ангелуса Силезиуса, хотя вряд ли она читала высокоинтеллектуальный очерк, написанный много лет назад Карло Оссолой, о связи между названием моего романа и Ангелусом Силезиусом, немецким мистиком и поэтом семнадцатого века[60]. Так вот, Оссола заметил, что на последних страницах моего романа появляется коллаж мистических средневековых текстов той эпохи, когда пишет старый Адсон, в который я коварно подсунул анахронизм в виде цитаты из Силезиуса. Бог знает откуда я ее выкопал, но и не подозревал при этом, что Силезиус тоже писал о розе. Вот прекрасный пример того, как усложняется треугольник влияний, причем в данном случае прямого влияния не было вовсе.
Другая тема Борхеса, упоминавшаяся на нашей конференции, – это Голем. Я ввел ее в “Маятник”, потому что она была неотъемлемой частью мистической болтовни, но прямым источником мне служил, разумеется, Майринк, а то и вовсе фильм, снятый по его произведению, и еще вторым планом каббалистические тексты, к которым я приобщился через Шолема.
На конференции много говорилось о том, что многие идеи, над которыми впоследствии работал Борхес, изначально сформулированы Пирсом и Ройсом. Думаю, если проанализировать указатель всех имен у Борхеса, едва ли там отыщется Пирс или Ройс. И тем не менее есть вероятность, что Борхес подвергался их влиянию через других писателей. Расскажу, что случается со многими владельцами обширных библиотек (моя включает около сорока тысяч томов, если считать шкафы в Милане и в других моих домах). Думаю, меня поймут те, для кого библиотека – склад не только и не столько прочитанных книг, сколько книг неизученных, ожидающих момента, когда в них возникнет нужда.
Каждому случалось откладывать какую-нибудь книгу на потом и испытывать угрызения совести, когда на нее падает взгляд. Но вот наступает день, когда мы наконец открываем одну из множества отложенных книг, чтобы узнать нужные нам сведения, начинаем читать и обнаруживаем, что уже знаем ее содержание. В чем же дело? Есть мистически-биологическое объяснение: пока мы переставляем книги с одного место на другое, стираем с них пыль, через кончики пальцев сущность книги мало-помалу проникает и в наше сознание. Есть объяснение более банальное – своего рода случайное, но постоянное сканирование: даже если мы просто переставляли тома с полки на полку, мы хоть разок в них да заглянули. Мы могли невольно увидеть какую-то страницу, сегодня одну, через месяц другую и так далее, пока не прочитывали большую часть книги, пусть даже не в линеарной последовательности.
Но настоящая причина нашего предзнания иная: между тем моментом, когда книга попала в наши руки, и тем моментом, когда мы ее открыли, мы читали другие книги, в которых было что-то из того, о чем говорилось в книге отложенной. Так, в конце нашего интертекстуального путешествия мы замечаем, что книга, которую мы никогда не читали, на самом деле тоже является частью нашего интеллектуального багажа и, возможно, сильно повлияла на нас. Думаю, что это можно сказать в отношении Борхеса, Пирса и Ройса. Если это и влияние, то никак не прямое.
Тема двойника. Почему я вывел тему двойника в “Острове накануне”? Потому что Тезауро в одной главе своей “Подзорной трубы Аристотеля”, посвященной романам, говорит, что, если вы хотите написать барочный роман, двойник нужен обязательно. Следуя рекомендациям Тезауро, я ввел в начале своего романа брата-близнеца, а потом не знал, что с ним делать. Позже я нашел способ его использовать. Но стал бы я вставлять этого персонажа, если бы на меня, помимо советов Тезауро, не повлияла тема двойников у Борхеса? А что, если у меня на уме был двойник Достоевского? А что, если на Борхеса через других барочных авторов повлиял Тезауро?
В играх с интертекстуальным влиянием нужно быть предельно внимательными и не выбирать самый простой путь. Кто-то из читателей вспомнил, что у Борхеса упоминается обезьяна, стучащая вслепую по клавиатуре, в результате чего выходит “Божественная комедия”. Но обратите внимание: у многих мыслителей девятнадцатого века, выступающих против теории эволюции и случайного возникновения мира, проходила идея о том, что если отрицать существование Бога, то выходит, мир был создан нечаянно, как в истории с обезьяной. Более того, тема еще более древняя, если мы вспомним Демокрита и размышления Эпикура о клинамене[61].
На одном из заседаний конференции был также затронут – с отсылкой к Маутнеру – вопрос: а может, подлинные символы – это знаки древнейшего китайского языка (отсюда идея Борхеса о китайской энциклопедии)? Но что подлинные символы – это китайские иероглифы, говорил еще Френсис Бэкон, и его утверждение положило начало поискам совершенного языка в семнадцатом веке. Против этой идеи выступает Декарт. Очевидно, что Борхес знал – то ли непосредственно, то ли через Маутнера – о письме Декарта отцу Мерсенну. Но был ли он знаком с речью Бэкона о подлинных символах и китайских иероглифах? Может быть, он пришел к этой теме через Кирхера? Или через еще какого-нибудь автора? Я считаю довольно продуктивной мысль запустить полным ходом машину интертекстуальности, чтобы увидеть, какие неожиданные обороты может приобрести влияние. Иногда наиболее глубоким оказывается влияние, о котором ты догадываешься только спустя какое-то время, а не сразу.
Мне хотелось бы вспомнить два случая из моей работы, которые не связаны напрямую с Борхесом, но находятся на пути к нему. Всегда существует проблема с объемом книги. С одной стороны, можно написать коротенькое стихотворение вроде “Бесконечности” Леопарди, а можно создать длинную и невыносимую книгу вроде “Маргариты Пустерлы” Канту. С другой стороны, “Божественная комедия” Данте тоже длинное, но превосходное произведение, тогда как краткий сонет Буркьелло не более чем забавен. Оппозиция минимализма и максимализма – это не противопоставление ценностей. Это противопоставление жанра или метода. В этом смысле Борхес был минималист, а я максималист. Борхес краток, он быстро приходит к концу истории и именно этим мог бы понравиться Кальвино. Я же автор неторопливый (об этом я уже писал в своих “Прогулках в литературных лесах”).
Из-за объемности мое творчество можно было бы назвать необарочным. Борхеса привлекает барочное мировоззрение и то, как в эпоху барокко манипулируют различными идеями, но его манера письма далека от барочной. Это ясный неоклассический стиль.
Мне хотелось бы выявить некоторые идеи, которые возникли под сильным влиянием Борхеса, но не являются простым цитированием, а составляют, пожалуй, главное его наследие и потому могли повлиять не только на меня, но и на других писателей.
На конференции говорили о повествовании как о модели познания. Конечно, все притчи Борхеса повлияли на нас и научили, как можно создавать философские, метафизические утверждения, рассказывая истории. Но и здесь мы имеем дело с темой, которая начинается еще с Платона, Иисуса и, если угодно, заканчивается Лотманом (текстовая модальность против грамматических моделей) или психологией Джерома Брунера (нарративные модели помогают восприятию) и фреймами искусственного интеллекта. Однако я даже не сомневаюсь, что в моем случае воздействие Борхеса стало основополагающим.
И тут же я хотел бы напомнить призыв (именно поэтому я назвал Борхеса безумным архивариусом) перечитать всю энциклопедию с подозрением и недоверием, чтобы отыскать на полях обличающее слово, перевернуть все с ног на голову и заставить энциклопедию играть против самой себя.
Очень сложно избавиться от страха влияния – так, Борхесу было трудно служить предшественником Кафки. Говорить, что у Борхеса не было оригинальных мыслей, которых до него не существовало, – это все равно как утверждать, будто у Бетховена не было ни одной своей ноты. Борхес умел использовать самые разнообразные залежи энциклопедии, чтобы написать симфонию идей. Конечно, я попытался повторить этот урок (хотя мысль о музыке идей пришла ко мне от Джойса). Что я могу сказать? Перед мелодиями Борхеса, которые так легко напеть (даже когда они атональны), запомнить, воспроизвести, у меня возникает ощущение, будто он божественно играет на фортепьяно, а я насвистываю на окарине.
Но все же я надеюсь, что после моей смерти найдется кто-нибудь еще бестолковее меня, для кого уже я стану предшественником.
О Кампорези: кровь, тело, жизнь[62]
Сложно сказать, кем был Пьеро Кампорези. Без сомнения, культурным антропологом. Около пятнадцати томов он посвятил так называемой материальной культуре: обычаям, поведению людей, особенно “низовому” поведению, связанному с телом, пищей, кровью, испражнениями, сексом. Тем не менее от антрополога мы ожидаем полевых исследований, изучения мифов и обрядов какой-нибудь еще существующей цивилизации.
Кампорези же изучает и читает литературные тексты, то есть тексты, относящиеся к истории литературы. Если вы захотите узнать его точную специализацию, вы обнаружите, что он историк итальянской литературы (по крайней мере, так написано в перечне его курсов в Болонском университете, хотя Кампорези часто вторгается на территорию других литератур).
Тем не менее Кампорези открывает и читает тексты, которыми пренебрегли другие историки литературы, потому что эти тексты обращались к повседневным проблемам, моральным или физическим. Точнее, коллеги ученого рассматривали их с точки зрения стиля, но не содержания. Кампорези всю жизнь перечитывал литературу как свидетельство материальной жизни. Кампорези – культурный антрополог, который отправляется изучать не современные нам “примитивные” и “дикие” культуры, а людей прошлого, самых что ни на есть цивилизованных.
Что я имею в виду? Кампорези подобен человеку, который входит в комнату, где лежит ковер с прекрасными узорами и рисунками, по мнению большинства – настоящее произведение искусства; но наш господин антрополог берет этот ковер за краешек, переворачивает и показывает всем, что под ним всегда копошились черви и тараканы, целая безвестная и тайная жизнь. Жизнь, о которой никто даже не догадывался. Тем не менее она всегда была под этим ковром.
Кампорези провел свою жизнь, читая и перечитывая забытые тексты или тексты, которые всегда маячили перед глазами, но никто не подходил к ним так, как Кампорези. Он смог поведать нам о мире прошлых веков, населенном бродягами, акробатами, целителями, ворами, убийцами, блаженными дурачками, фальшивыми или настоящими прокаженными. Он открыл тысячелетние мечты о стране Обжорства и Удовольствий, родившиеся среди народов, мучимых голодом, снова обратился к теме карнавальных ритуалов, колдовства, бесноватых.
Он извлек на свет тексты, благодаря которым мы осознаем, насколько отличались представления прошлых веков о собственном теле, пище (Кампорези – настоящий гурман, который очень хорошо представляет, какими в отдаленные века были запах сыра и вкус молока.) Он перечитал строки религиозных проповедей, живописующих ад и его муки (что означало лишний раз увидеть в собственном теле источник боли и бесконечных страданий). Он рассказал, как люди ели, готовили, как цокали языком, проглатывая пищу; как приходили в возбуждение от эликсиров и мазей; как в восемнадцатом веке воспринимались такие экзотические и (тогда) чудесные напитки, как кофе, шоколад; как работали шахтеры, ткачи, цирюльники, хирурги, медики и народные целители; как жили бедняки, лишенные наследства, негодяи, воры, убийцы, разбойники. Все это было в книгах задолго до Кампорези, но он сумел эти книги прочесть заново.
Итак, он историк литературы, который призывает нас перечитать наименее известные тексты. Он культурный антрополог, но исследует обычаи прошлых цивилизаций по следам, которые они оставили в текстах.
Сложно сказать, кем был Кампорези. Признаюсь, если бы мне пришлось перечитать за раз все книги, которые он написал, меня бы стошнило: слишком много в них совокупляющихся, расчленяемых, насыщаемых, разрезанных, поглощенных, отверженных, униженных тел… Культурная антропология Кампорези носит жестокий, безжалостный, подтвержденный достоверными источниками характер. Если кто-нибудь попытается прочесть все книги Кампорези одну за другой, он испытает ужас, пресыщение, желание убежать от всей этой оргии соединительной ткани, кишок, ртов, опухолей, рвоты и обжорства. Книги Кампорези хороши в малых дозах, чтобы избавиться от одержимости торжествующего тела со всем его убожеством и величием. Читать их запоем – это все равно что в течение недели есть только кремовые торты или целую неделю плавать в собственных экскрементах.
В книгах Кампорези вы столкнетесь с невыносимым представлением человеческого тела на протяжении многих веков: с его кровью, его ритуалами, его мифами, его реальностью. Когда мы читаем эти книги, нами овладевает легкое (а иногда и весьма ощутимое) беспокойство. Мы созданы из костей, плоти и крови. Кровь имеет большое значение. Но ее изучают в специальных лабораториях, а непосредственно мы сталкиваемся с ней очень редко. Если нам случится порезаться ножом, мы накладываем пластырь и останавливаем ее при помощи специальных средств. Когда нас оперирует хирург, кровь течет, но мы спим. Если случается дорожно-транспортное происшествие, мы вызываем полицию, скорую, но стараемся не смотреть на кровь. А ученые вроде Кампорези доказывают нам, что в другие века кровь была повседневностью, люди знали ее запах и вязкость.
Но так ли уж чужда нам кровь? Неужели мы так далеко ушли от веков, про которые нам рассказывает Кампорези? Тогда почему до сих пор существуют всякие секты сатанистов, культы крови? Мы даже можем найти их сайты в интернете.
Решили ли мы проблему нашего отношения к крови? Безусловно, мы больше не ходим смотреть на публичные казни через четвертование, во время которых кровь лилась рекой. Но, пока я пишу, итальянские журналисты рассказывают о Мадонне, которая плачет кровавыми слезами. Конечно, это суеверие, и не единственное – существует много харизматичных сект, предлагающих верующим ритуальное омовение в крови. Какова связь между кровоточащими изображениями Мадонн и кровавыми подробностями убийства актрисы Шерон Тейт?
Дело вот в чем: Кампорези восстанавливает обычаи, чувства, страхи и пристрастия, которые нам кажутся древними, и предлагает заглянуть в себя. Он призывает нас разобраться в темных связях между ритуалами и мифами прошлого и нашими побуждениями в настоящем. Открыть древнего человека в нас самих, пользующихся интернет-технологиями и думающих, что кровью занимаются только хирурги или ученые, изучающие новые мировые эпидемии.
Возможно, Кампорези стоит читать в небольших дозах, потому что, если мы прочтем все его книги, мы начнем задаваться вопросом: кто мы такие, цивилизованные люди?
Эта книга короткая. Давайте читать Кампорези в гомеопатических дозах. На данный момент достаточно. Может быть, потом вам захочется прочесть и другие его книги.
О символе[63]
Знаю, все, что бы я ни сказал о символе, оспорит в своем ученейшем эссе друг Бриози. А писал я по данной теме немало, включая статью в энциклопедии Эйнауди, которая потом стала одной из глав моей монографии “Семиотика и философия языка”. По старческому ли упрямству или, наоборот, из юношеской гордыни, но я вроде бы особо не менял своих суждений по этому поводу. Стремление к совершенству – хорошая штука. Сам часто этим грешу, доходя иной раз до шизофрении. Но в некоторых случаях лучше быть верным изначальной мысли, чем беспрестанно менять ее, боясь показаться “отставшим от жизни”, ведь даже в сфере идей моногамия не всегда признак отсутствия либидо.
Чтобы не повторять о символе сказанное ранее, затрону особый и чрезвычайно актуальный аспект этой сложной проблемы – феномен символической паранойи. Однако чтобы добраться до нее, я буду вынужден отчасти повториться, и, возможно, мое отступление покажется слишком длинным.
Символ – опасное слово. Всегда советую своим студентам не злоупотреблять им и внимательно следить, в каком контексте оно употребляется и какое значение приобретает в каждом конкретном случае. Честно говоря, я уже и сам перестал понимать, что такое символ. Я пытался определить символ как особую текстовую стратегию. Но помимо этой стратегии – к ней я еще вернусь – символ может быть понятием или совершенно ясным (однозначным выражением в определенном контексте), или довольно мудреным (многозначным выражением, затуманивающим смысл содержания).
Подобная двусмысленность объясняется древним происхождением термина и оправдана не только этимологией греческого слова , но и традицией, которую создала эта этимология. Символ подобен листу, исписанному с двух сторон, на котором одна сторона намекает на другую, но они никогда не предстают перед нашими глазами вместе. Если же когда-нибудь кто-нибудь все-таки представит оба эти оборота вместе, освободив их от наслоений дополнительных значений, они потеряют свою двусмысленность. Но то, что нас привлекает в этих двух разделенных элементах символа, это как раз постоянное отсутствие одного из них, а в разлуке, как известно, крепнет страсть.
Оставим в стороне этимологию. Первое недоразумение, с которым мы сталкиваемся, особенно в научной терминологии, заключается в том, что символом часто называют семиотические процессы абсолютно ясные и бесспорные, понятия, которые сами по себе не являются двусмысленными, да еще и располагают к однозначному прочтению. Доказательством тому будет символическое изображение химического элемента или условность лингвистического или грамматического знака – в противовес неустойчивости, текучести иконографического.
Можно было бы утверждать, что определенную свободу толкования, присущую символу в темном и многозначном смысле этого термина со времен романтизма, имеют и логические символы. На самом деле это переменные величины, которые могут быть связаны с самым непредсказуемым содержанием. Подумайте над выражением символической логики: если p, тогда q. Создается впечатление, что p и q могут принимать какое угодно значение, но это не так. Что получится, если на место p я поставлю целую “Божественную комедию”, а на место q – утверждение “дважды два четыре”? Предложение будет верным с точки зрения материальной импликации. Однако поменять порядок элементов в логической связке невозможно. Если я ставлю “Божественную комедию” на место q – с определенной точки зрения совокупность утверждений, присутствующих в тексте Данте, не является истинной (не мог живой флорентиец попасть в рай, да и едва ли на самом деле существует Харон), – по тем же законам логики заключение, имеющее верные предпосылки, становится ложным. В то же время система сработает, если вместо “дважды два четыре” (p) мы подставим целый текст “Майн кампф”. В соответствии с известным парадоксом материальной импликации два ложных утверждения дадут верное. Поэтому бесполезно проделывать семиотические трюки, чтобы найти родство между математическим символом и темным символом романтической поэтики. У них разные функциональная и алетическая модальности, разный синтаксис.
Равно как и не имеет ничего общего с тем смыслом, который мы придаем символу, использование этого термина Э. Кассирером в его теории символических форм: речь идет о культурологической форме кантианского трансцендентализма. В этом смысле символической формой может стать сама евклидова геометрия с ее пятым постулатом параллельных прямых, вызывающим у нас ощущение бесконечности и невыразимости.
Будем придерживаться разумного решения, обусловленного повседневным опытом: в любом языке символическое связано с существованием второго смысла. К тому же это путь, по которому пошел Тодоров в своей книге о символе. Но отождествление символического с любым непрямым значением приводит нас к смешению совершенно разных явлений.
Игра слов построена на наличии двух значений, классическим примером чему может служить загадка. Но два смысла выстроены, часто в силу предательской омонимии, согласно двум семантическим изотопиям, которые можно легко обнаружить. Как закодированное послание, загадка, построенная на игре прямого и переносного значения, должна быть дешифрована, и после этого оба ее смысла остаются неоспоримыми, без всяких оговорок.
Метафора не относится к разряду символического. Она позволяет различные истолкования – иными словами, метафора может до бесконечности развивать порождаемые ею изотопии. Но существуют правила интерпретации: утверждение “наша планета – маленькая, как клумба, и это делает нас такими жестокими” может подсказать нам тысячу поэтических идей, но никого не убедит, если существуют определенные культурные предпосылки считать нашу планету местом, где процветают доброжелательность и мир. Я скорее согласен с теми, кто утверждает, что буквальное прочтение метафорического выражения кажется ложным, странным или бессмысленным (наша Земля – не клумба), и именно в этом заключается главный признак метафоры. С символом, на мой взгляд, дело обстоит иначе, так как его смысловой потенциал таится за обманчивой наружностью очевидности.
И тем более не следует относить к разряду символов аллегорию, двусмысленное выражение, которое строится не на омонимии, а на почти геральдическом кодифицировании некоторых образов.
Современная западная традиция уже научилась отличать символ от аллегории, но это довольно позднее различие, начало которому положил романтизм со знаменитыми изречениями Гёте (“Максимы и рефлексии”)[64]:
Аллегория превращает явление в понятие, понятие в образ, но так, что понятие все еще содержится в образе в определенной и полной форме и с помощью этого образа может быть выражено (1.112).
Символика превращает явление в идею, идею в образ, и притом так, что идея всегда остается в образе бесконечно действенной и недостижимой. Даже выраженная на всех языках она осталась бы все-таки невыразимой (1.113).
Большая разница, ищет ли поэт единичного для общего или видит общее в единичном. Из первого способа возникает аллегория, где единичное служит лишь примером проявления общего, второй же составляет по существу природу поэта, он выражает единичное, не думая об общем и не указывая на него. Тот, кто жизненно охватывает то единичное, усваивает одновременно и общее, не замечая этого или заметив только позже (279).
Настоящая символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как мгновенное откровение непостижимого (314).
Однако классический и средневековый мир рассматривал термины “символ” и “аллегория” как синонимы. Примеры тому можно найти у таких авторов, как Филон, Деметрий (и другие грамматики), Климент Александрийский, Ипполит Рмский, Порфирий, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Плотин или Ямвлих. Они используют термин “символ” для наглядных и концептуальных изображений, которые иначе будут названы аллегорией.
О мире позднего Средневековья также говорилось как о “символическом мире”, где, по словам Эриугены (“О разделении природы”, 3), “нет ни одной зримой и телесной вещи, которая не означала бы нечто нетелесное и умопостигаемое”. Гуго Сен-Викторский позднее сравнит этот мир с “некой книгой, начертанной Божьим перстом”. А разве не будет наполнена символами реальность, в которой, по мнению Псевдо-Алана Лилльского, “все подобно розе”?
Послушать Хёйзингу (см. пятнадцатую главу его “Осени Средневековья”), так символический мир Средних веков мало чем отличался от мира в бодлеровских “Письмах”:
Не существует большей истины, которую дух Средневековья усвоил бы тверже, чем та истина, которая заключена в словах Послания к Коринфянам: Videmus nunc per speculum in aenigmate, tune autem facie ad faciem – “Видим ныне как бы в тусклом зеркале и гадательно, тогда же лицем к лицу” (1 Кор., 13, 12). Для средневекового сознания любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее исчерпывалось непосредственной функцией и ее внешнею формой; с другой стороны, при этом все вещи пребывали целиком в действительном мире. Подобное безотчетное знание присуще также и нам, и оно просыпается в такие мгновения, когда шум дождя в листве деревьев или свет настольной лампы проникают вдруг до таких глубин восприятия, до каких не доходят ощущения, вызываемые практическими мыслями и поступками. Порою такое чувство может представляться гнетуще болезненным, так что все вещи кажутся либо преисполненными каких-то угрожающих, направленных против нас лично намерений, либо полными загадок, отгадать которые необходимо, но в то же время и невозможно. Это знание, однако, способно – и чаще всего так оно и бывает – наполнять нас спокойной и твердой уверенностью, что и нашей собственной жизни также отведена ее доля в прикровенном замысле мира[65].
Но эта мысль может принадлежать только писателю, который уже видел, как Верлен и Рембо бродят изгнанниками на границах собственной земли в поисках абсолютного, слышат тот же шум дождя в листве деревьев и испытывают необъяснимое томление в глубине сердца, увлеченные звучанием цветов. Разве это символизм позднего Средневековья, не говоря уже о раннем?
Чтобы приобщиться к наследию неоплатонизма, необходимо, подобно Дионисию Ареопагиту, понимать идею Единого как идею непостижимого и противоречивого, согласно которой “простые, абсолютные и неизменные таинства богословия, окутанные пресветлым мраком сокровенно таинственного молчания, в глубочайшей тьме пресветлейшим образом сияют”[66]. По Дионисию, “Бог – это Единое, Добро, Красота, понимаемые как Свет, Сияние, Рвение; эти идеи являются первостепенными для именования Бога: он и есть все эти понятия, но в соизмеримо и непостижимо более высокой степени”. Более того, напоминает нам Дионисий (и подчеркивают его комментаторы) для пущей очевидности, имена, которыми мы называем Бога, не могут ему соответствовать в полной мере и поэтому должны быть совершенно отличными от священного предмета изображения, невероятно несходными, почти вызывающе грубыми, исключительно таинственными. В данном случае создается впечатление, будто общие свойства символизируемого и символизирующего можно найти только ценой акробатических умозаключений и противоречивых утверждений. Если Бога называют светом, верующие не должны воображать небесные существа златовидными и световидными, поэтому “лучше сравнивать Бога с существами чудовищными вроде медведя или пантеры, иначе говоря – с чем-то абсолютно несходным”.
Сейчас такой способ выражения, который сам Дионисий называет “символическим” (во второй и пятнадцатой главах трактата “О небесной иерархии”), не имеет ничего общего с тем прозрением, тем упоением, тем мгновенным и молниеносным видением, которые каждая современная теория символизма считает характерным признаком символа. Для средневекового человека символ – это способ постижения божественного, но не через называние его имени и не через обретение истины, о которой можно говорить только в терминах мифа, а не рационального дискурса.
Это скорее преддверие рационального дискурса, и задача символа сделать очевидной – в тот самый момент, когда он становится показательно и приемлемо полезным, – собственную несостоятельность и почти гегельянскую обреченность быть выверенным в последующем рациональном дискурсе. Иными словами, средневековый мир жаждал символов, средневековый человек испытывал страх, трепет и почтение перед медведем или пантерой, перед розой и дубом; но это были языческие пережитки. Не только теология, но и бестиарии стремились расшифровать эти символы, преобразить их в метафоры или аллегории, а тем самым воспрепятствовать их текучести.
С другой стороны, то же самое случается с архетипами Юнга, которые я, прибегнув к метафоре, отнесу к более широкой категории тотемов, неизменно властвующих и вызывающих в своей таинственности. Юнг стал первым, кто разъяснил нам, что, как только эти архетипические образы овладевают воображением мистика, вовлекая его в бесконечное извлечение смыслов, сразу же появляется какой-нибудь религиозный деятель, чтобы прокомментировать сочинения этого мистика, подчинить их определенному коду, сделать из них притчу. Тотем становится символом в самом примитивном смысле этого слова. Так, например, мы называем символами отличительные знаки политических партий, за которые мы отдаем свои голоса, ставя крестик (часто анонимный) в знак одобрения. Обладая призывными функциями разных уровней (насколько можно испытывать священный трепет или умирать за какой-нибудь флаг, крест, полумесяц или за серп и молот), эти отличительные знаки тем не менее подсказывают, во что нам следует верить, а что отвергать. Святое сердце Вандеи – это не то сердце, которое ослепило святую Маргариту-Марию Алакок. Из мистического переживания оно превратилось в знамя.






