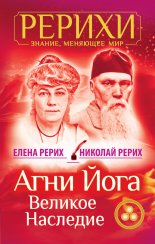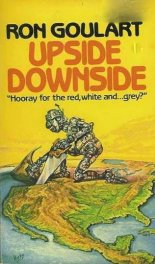Дом на хвосте паровоза. Путеводитель по Европе в сказках Андерсена Горбунов Николай

Илл. 10
Сьон
Пришлось ему повернуть обратно; так он и сделал — направился мимо городков Сен-Морис и Сьон к родной долине, родным горам, но духом не пал. На следующее утро солнце только еще встало, а уж расположение его духа давно было в зените; оно, впрочем, никогда и не закатывалось.
Илл. 11
Сьон. Тропа к замку Турбийон
Ворота замка Турбийон закрываются в шесть вечера, а солнце в тех краях в середине лета садится примерно в девять. Если заранее запастись куском сыра, парой яблок и бутылкой местного Шасла, то можно встретить закат прямо на вершине холма, под крепостной стеной, на теплых камнях (местные влюбленные парочки обычно так и делают — смотрите не спугните). Не исключено, что Руди тоже провел здесь вечер, перед тем как отправиться дальше на запад в сторону Сен-Мориса, разве что в многочисленные дегустационные залы перед этим не заходил. Ну а поскольку нас, в отличие от него, сюжет не ограничивает, то обязательно сделайте это: здешние белые вина бесподобны, а заодно и выберете, в какой компании смотреть закат.
Сен-Морис
Несмотря на беглое упоминание в тексте (хоть и не настолько беглое, как в случае Сьона), Сен-Морис (Saint-Maurice) открывает сразу две возможности для погружения в эстетику «Девы льдов». Первая из них вполне очевидна — это местный пейзаж:
Между городами Сьоном и Сен-Морисом долина делает изгиб и близ самого Сен-Мориса становится до того узкой, что на ней только и остается место для русла реки да для узкой проезжей дороги. Ветхая сторожевая башня кантона Вале, который здесь оканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на таможню, что на другом берегу.
Картинка со времен Андерсена почти не изменилась: у входа в замок Сен-Морис (Chateau de St. Maurice), что прямо напротив моста, есть табличка с зарисовкой середины XIX века, так что при правильном выборе ракурса можно даже поиграть в «Найди десять отличий». На самом деле отличий всего два: современной панораме не хватает здания таможни и часовенки на мосту, но последняя и не в счет — в тексте про нее не говорилось. Зато сам мост на месте и сторожевая башня тоже.Илл. 12 От нее, правда, сейчас видны только верхние два этажа, первый же теряется среди покрывающих склон деревьев.
Вторая возможность чуть сложнее и неоднозначнее, но ощущений добавляет не меньше. От замка Сен-Морис вверх по склону идет тропа, по которой можно добраться до вышеупомянутой башни. Сама башня при ближайшем рассмотрении разочаровывает: ну да, ветхая, но совершенно без обаяния, дверь на замке, вид на долину загораживают деревья — в общем, создается впечатление, что зря карабкался. Однако не в башне и дело. Если продолжить восхождение по тропе, то она приведет к так называемому «Гроту фей» — вот туда нам и нужно.
Илл. 12
Замок Сен-Морис и сторожевая башня кантона Вале
Между городами Сьоном и Сен-Морисом долина делает изгиб и близ самого Сен-Мориса становится до того узкой, что на ней только и остается место для русла реки да для узкой проезжей дороги. Ветхая сторожевая башня кантона Вале, который здесь оканчивается, стоит на горном склоне и смотрит через каменный мост на таможню, что на другом берегу.
«Грот фей» сам по себе впечатляющее зрелище: фактически это узкая естественная пещера полукилометровой глубины, в конце расширяющаяся в здоровенный зал с подземным озером и водопадом. Пишут, что об этом гроте было известно еще с незапамятных времен (местные жители прятались там от варварских набегов), но официально его открыли только в 1831 году, а посетителей стали пускать внутрь в 1863-м, предварительно придумав красивое название и волшебную легенду; это удачно совпало с закатом эпохи романтизма, и в Сен-Морис валом повалили сентиментально настроенные туристы. На тот момент, правда, «Дева льдов» уже была написана, да и Андерсен в Сен-Морис больше не возвращался, так что попасть в сюжеты мэтра у грота шансов не было. Но это и не так важно, ведь здесь обнаруживается своя интересная история.
Примерно на полдороги к залу с водопадом романтическую атмосферу «Грота фей» вдруг нарушает суровый вид двух врубленных в скалу бронированных дверей. В их появлении виноват, как ни странно, вышеупомянутый Каспар Йодок фон Штокальпер с его внешнеэкономическими проектами. Дело в том, что Швейцария долгое время была надежно защищена от вражеских вторжений своим труднопроходимым ландшафтом и плачевным состоянием дорог, однако развитие внешней торговли не обошлось без модернизации транспортной инфраструктуры, и к началу XIX века внезапно обнаружилось, что прежнего стратегического преимущества больше нет: приходи кто хочешь, бери что хочешь, — собственно, Наполеон в 1798 году так и поступил. Тогда, наученные этим горьким опытом, швейцарцы решили фортифицировать транспортные коридоры, ведущие в горную часть страны, чтобы в случае внешней агрессии можно было перекрыть их за отступающей армией. Проект получил название «Национальный редут», и первые работы начались как раз в районе Сен-Мориса: описанное Андерсеном естественное сужение долины в этом месте автоматически решало часть задачи.
Первым фортификационным объектом стала так называемая «крепость Дюфура», построенная в 1830-1840-х годах на склонах по обе стороны от упомянутого Андерсеном моста через Рону. Комплекс укреплений включал в себя ряд огневых позиций и ту самую сторожевую башню. Андерсен называет ее «ветхой», хотя на момент упоминания в «Деве льдов» ей не было и пятнадцати лет — просто принципы, заложенные в основу проекта «крепости Дюфура», были настолько архаичны, что укрепления устарели буквально через десять лет после ввода в эксплуатацию. Интересно, кстати, что «Грот фей» был обнаружен, как уже говорилось, в 1831 году, то есть практически одновременно с началом строительных работ, — не исключено, что одной из своих главных романтических достопримечательностей Сен-Морис обязан именно «крепости Дюфура».
К 1880 году стало окончательно понятно, что первый блин «Национального редута» вышел комом и защиту от современной артиллерии «крепость Дюфура» уже не обеспечивает. Ей на замену был построен фортификационный комплекс под названием «крепость Сен-Морис», однако работы по созданию новых укреплений и модернизации старых не останавливались здесь вплоть до конца Холодной войны. Сначала орудия размещались на открытых позициях, организованных высоко на горных склонах, — считалось, что преимущество по высоте надежно защитит их от ответного огня противника. После Первой мировой войны этот подход пришлось пересмотреть, и открытые позиции уступили место галереям, пробитым прямо в скальной породе, — а за последующие полсотни лет все окрестные горы в буквальном смысле превратились в швейцарский сыр. Уже к 1946 году крепость Сен-Морис состояла из четырех фортов, представлявших собой по сути небольшие автономные города с разветвленной системой коммуникаций и простреливавших вдоль и поперек весь участок долины Роны от Шильона до Мартиньи. Амбразуры самых «молодых» из них, фортов Се (Fort du Scex) и Синде (Fort de Cindey), можно увидеть прямо от железнодорожного вокзала Сен-Мориса, если внимательно вглядеться в прилегающий горный склон. Как раз их-то бронированные двери и выходят в «Грот фей». Согласитесь, секретная военная база в сказочной пещере — это очень по-швейцарски.
Вы спросите: ну хорошо, а при чем тут Андерсен? Непосредственно, конечно, ни при чем — и был бы ни при чем совсем, если бы не один абзац в «Деве льдов»:
Снизу из долины доносился грохот взрывов — люди взрывали скалы, прокладывая тоннели и мосты для железных дорог. «Они играют в кротов! — сказала Дева льдов. — Копают себе проходы, вот откуда эта ружейная трескотня. <…> Они играют там в господ, эти "избранники духа"! <…> Но силы природы все же могущественнее их!» — И она засмеялась, запела; грохотом отдались эти звуки в долине.
Прочувствовать этот фрагмент в полной мере поможет только поездка на «Ледниковом экспрессе»[87], но коль уж вы оказались в Сен-Морисе, то увидеть местную версию «игры в кротов» нужно обязательно, даже если вам неинтересна тема фортификаций, — просто ради самого ощущения. Все плоды швейцарской горной инженерии в той или иной степени являют собой противостояние стихии, а значит, и эстетика «Девы льдов» в них тоже есть — и гуще всего она на границе с чудесами. Крепость Сен-Морис — как раз одно из таких чудес.
Ну и хватит уже о самолетах, а то девушки заждались.
Бе
Купившись, как всегда, на обилие описаний, приезжаешь в Бе[88],Илл. 13 конечно, ради дома мельника. Горящая на солнце жестяная крыша, башенки, флюгер в виде пронзенного стрелой яблока — такие подробности не оставляют сомнений, что картинка срисована с натуры, и сразу же хочется посмотреть, откуда чуть не бултыхнулся лощеный англичанин в белом, вздумавший приударить за невестой Руди.
Расположение искомого дома интригует: с одной стороны, ничто не указывает на конкретное место, с другой — текст буквально изобилует подсказками, для пущего интересу еще и разбросанными по разным главам. В IV главе Андерсен, рассказывая о доме мельника, описывает его положение как «возле города» — то есть определенно за пределами городской черты, но все-таки близко к ней. Затем в XI главе становится понятно, что дом отца Бабетты и мельница примыкали друг к другу, и там же приводится подробное описание окрестностей мельницы: во-первых, она располагалась у проезжей дороги на берегу горной реки, а во-вторых, в эту реку у самой мельницы впадал ручей поменьше, струившийся с утеса на противоположном берегу и пробегавший по проложенной под дорогой каменной трубе. Сложив воедино все условия задачи, приходим к следующему решению: очертить вокруг центра города круг радиусом, скажем, километра три, исключить из этого круга городскую черту по состоянию на 1861 год, а в оставшемся «бублике» искать проезжую дорогу, идущую параллельно с горной рекой. Мельница и дом мельника должны быть там, где у этой реки есть приток, впадающий в нее со стороны дороги, причем хорошим признаком было бы отсутствие поблизости моста — иначе англичанину не было бы смысла рисковать, переходя реку по водоотводному желобу.
Илл. 13
Бе
Там уже начинается кантон Во, и ближайший город тут — Бе. Тут путник вступает е роскошную плодородную область: идешь точно по саду, усаженному каштанами и ореховыми деревьями; там и сям подымаются кипарисы и гранатовые деревья; здесь совсем юг, словно попал в Италию.
Итак, открываем карту. Карта говорит, что горная река, вдоль которой проходила бы проезжая дорога, в очерченном районе только одна — это река Авансон (Avangon), правый приток Роны, берущий начало, кстати, как раз из ледников упомянутой Андерсеном горы Ле Дьяблере (Les Diablerets)[89]. Если предположить, что Авансон и есть та самая река, то той самой дорогой должна быть либо Рут-де-Грйон (Route de Gryon), идущая параллельно реке до Бевьё (Bevieux), либо ответвляющаяся от нее после Бевьё улица Шемин-де-ля-Барма (Chemin de la Barmaz), переходящая в Рут-де-Сюблен (Route de Sublin). Что же касается притоков, то их у Авансона в пределах трех километров от центра Бе всего три, и все они подходят под описание. На этом теоретическую часть можно считать законченной и спокойно переходить к главному, то есть приключениям[90].
Выходя из поезда на словах «я иду искать», подспудно все-таки болеешь за ближайший приток, пересекающий Рут-де-Грйон примерно в километре от центра Бе. Единственное, что смущает, — долина Авансона в этом месте еще достаточно широка, и до ближайшего утеса, откуда мог бы низвергнуться ручей, примерно метров шестьсот — с такого расстояния Андерсен бы просто ничего не разглядел. Утешаешь себя тем, что на месте всегда виднее, но на этот раз все оказывается ровным счетом наоборот: дойдя до нужной точки, понимаешь, что даже будь оно когда-то так, как написал Андерсен, сейчас все в корне изменилось. Параллельно с дорогой теперь проходит трамвайная ветка в сторону Грйона, прилегающий склон тщательно укреплен, ручей течет не по каменной трубе, а по полностью скрытому под землей рукаву, на противоположном берегу реки какие-то современные дома — иными словами, ничего похожего ни на дом мельника, ни на саму мельницу, ни на следы их присутствия.
В отсутствие зацепок фантазия пробуксовывает, а доверия к чувствам не хватает. Ландшафт неузнаваем, утес слишком далеко, к тому же два других притока еще не проверены, — в результате мельница, конечно, не «дорисовывается», и остается только продолжать двигаться вверх по течению Авансона. Впрочем, в этом тоже есть свой хитрый план. Дело в том, что Руди, когда поссорился с Бабеттой из-за ее кокетства с англичанином, попал в объятия Девы льдов не где-нибудь, а на склонах Ле Дьяблере: судя по описанию природы, дело было летом, а летом в тех краях снег лежит только там. Самый же простой способ попасть к подножию Ле Дьяблере — это подняться по долине Авансона, а значит, прогулка вверх по течению реки от места, где стояла мельница, будет автоматически повторять маршрут обиженного Руди из XII главы.
Сразу за соляными копями (Saline de Bex — уж не за солью ли для консервирования мяса Руди ездил в Бе?) долина резко сужается и поворачивает на восток, превращаясь в густо заросшее ущелье. Рут-де-Грйон здесь уходит на север прочь от реки, а вдоль русла дальше идет вышеупомянутая Шемин-де-ля-Барма, через полкилометра сменяющаяся Рут-де-Сюблен. Уже на этом этапе начинаешь подозревать, что искомое осталось позади: даже сейчас цивилизация здесь как будто обрывается — богач вряд ли бы стал селиться в такой глуши, плюс какой смысл возить зерно и муку туда-обратно лишние несколько километров? Углубившись в ущелье,Илл. 14 только утверждаешься в своих подозрениях: слишком узко даже для полноценной дороги, не то что для богатого дома с мельницей. Зато здесь есть откуда низвергаться ручью — второму из трех подозреваемых притоков Авансона. Вот только он, даром что стекает со скалы и проходит под дорогой, как и положено, по каменной трубе, настолько хил, что ему не то что мельницу вращать — кружку-то наполнить не сразу под силу (у него даже название говорящее — Пуэ Торран (Pouet Torrent), дословно что-то типа «писклявый поток»). По весне этот ручей, скорее всего, оживает — иначе зачем труба, — но мельницы же работают не только весной. В любом случае никаких признаков мельницы вокруг нет и в помине — как и вообще какого бы то ни было жилья. Вместо этого здесь периодически попадаются яркие таблички с убегающим от волны человечком и черепом с костями, но смысл их становится понятен, лишь когда поднимаешься до третьего притока.
Илл. 14
Река Авансон к северу от Бе
Мельница стояла у проезжей дороги, которая бежала от самого Бе под покрытыми снегом скалистыми вершинами, носящими на местном наречии название «Diablerets»; неподалеку от мельницы, клубясь и пенясь, струился быстрый горный ручей.
В теории с третьим притоком тоже все неоднозначно. С одной стороны, это даже не приток, а полноформатный рукав, а значит, его мощности хватило бы на мельницу; к тому же, судя по спутниковым фотографиям, в точке слияния с Авансоном есть какие-то постройки. С другой — уж больно эта точка неудобно расположена, чтобы там селиться. Однако когда наконец добираешься туда, то сразу понимаешь, что никакой мельницей там, конечно, и не пахнет. То, что со спутника кажется частной виллой с большим бассейном, при ближайшем рассмотрении оказывается обычной ГЭС; соответственно, знаки с убегающим от волны человечком — это предупреждение о возможном сбросе воды[91]. Тупик.
В этот момент становится окончательно понятно, что если мельница и была, то стояла она на первом притоке, ближе к городской черте того времени, а проделанный оттуда путь как раз сойдет за реконструкцию первой части Рудиного бегства от собственной ревности. А поскольку самая интересная часть — все-таки вторая, то далее можно выбрать один из двух вариантов. Если время, силы или желание на исходе, то в полукилометре от ГЭС дальше по дороге есть трамвайная остановка — слабаки могут сесть там на горный трамвай (видели когда-нибудь горные трамваи?) и вернуться в Бе. Если же запала еще хватает, то можно пройти с километр на северо-восток вверх по течению основного рукава Авансона, затем подняться по склону до Грйона (дальше берег становится непроходимым), там промочить горло, отдышаться, а дальше вариантов будет уже целых три. Уставшие или торопящиеся могут, опять же, сесть на трамвай и вернуться в Бе. Отмороженные могут выйти на Рут-де-Пар (Route des Pars) и отправиться по ней на восток. Примерно через два километра улица выведет снова к руслу Авансона, вдоль которого будет идти дорога к подножию Ле Дьяблере — это еще примерно семь километров. А дальше — только вверх, «в область снегов, в царство Девы льдов». Ну а ленивые могут дойти (или доехать) до Грйонского туристического офиса (это две трамвайные остановки на север) и оттуда прокатиться на канатной дороге Барболёз — Ле Шо (Barboleusaz — Les Chaux)[92]. Два с половиной километра по воздуху — и ты у основания хребта. Тут уже можно со спокойной совестью принять из рук прекрасной незнакомки чашу с глинтвейном, отдать ей свое обручальное кольцо и возвращаться на мельницу мириться.
Илл. 15
Станция горного трамвая в Грйоне
Однако возвращаться тем же путем скучно, поэтому делать это лучше всего через Грйон на упомянутом горном трамвайчике.Илл. 15 Напротив трамвайной остановки — маленький панорамный ресторанчик с террасой, нависающей над крутым склоном (если приехать весной, то можно застать момент, когда ее устанавливают — прямо в воздухе). С террасы отличный вид на окрестные горы, а пока договоришься с барменом (тот с ехидной улыбкой делает вид, что не понимает по-английски), как раз успевает подойти трамвай. По дороге обратно не можешь избавиться от мысли, что гипотезы гипотезами, но никаких реальных зацепок по расположению мельницы так и не найдено, а значит, она, возможно, никогда и не существовала. Но уже внизу, в долине, после соляных копей, наступает облегчение: трамвайная остановка у первого притока называется… «Grand Moulin», дословно — «Большая мельница». Немного покопавшись, выясняешь, что до 1969 года на этом месте стояла макаронная фабрика, которую потом снесли; о том, из чего она, по логике, выросла, открытые источники умалчивают, а лезть в закрытые на такой оптимистической ноте как-то уже и не очень хочется — не дай бог все испортишь.
Вернувшись, как и мы, на мельницу, Руди помирился с Бабеттой — и катиться бы нам всем дальше к их свадьбе, если бы не одно «но». Чтобы совместить поиски мельницы с реконструкцией Рудиного приступа ревности, пришлось немного поторопить события: ссора между молодыми людьми происходит только в XI главе, а чтобы поссориться, надо сперва подружиться. Подружились же Руди с Бабеттой и ее отцом не в Бе, а в Интерлакене — как вы помните из IV главы, герой, явившись на мельницу незваным гостем, поцеловал дверь, потому что хозяева уехали на состязание стрелков. А это значит, что пришло время вернуться на Бернское нагорье.
Цвайлючинен
Отправить Руди в Интерлакен через перевал Гемми (Gemmipass) изначально было хорошей идеей: это действительно могло бы здорово сократить путь. От Бе до Гемми порядка восьмидесяти километров; далее от перевала можно, например, выйти через Кандерштег (Kandersteg) к Шпицу и оттуда дойти до Интерлакена по берегу озера Тунерзее (Thunersee)[93] — это еще километров пятьдесят, итого сто тридцать. Путь через Бриг, Фишерский ледник и Гриндельвальдскую долину, знакомый нашему герою с детства, составил бы на тридцать километров больше и увеличил горную часть перехода на треть, так что выбор в пользу первого варианта вроде бы очевиден. Но дальше Руди у Андерсена делает немыслимое: он каким-то образом умудряется, перейдя через Гемми, спуститься к Гриндельвальду. Недоумение вызывает даже не столько вопрос «Зачем?» (мало ли куда заводит ностальгия по местам детства), сколько вопрос «Как?»: по ту сторону Гемми коротких путей в Гриндельвальдскую долину просто нет.
Ответов на эти вопросы Андерсен не дает, и приходится довольствоваться фактами: по ошибке ли автора, из принципа ли «бешеной собаке семь верст не крюк», но Руди направился в Интерлакен через Гриндельвальд и спустился в долину старым привычным способом, то есть по Нижнему Гриндельвальдскому леднику:
Внизу расстилался бархатисто-зеленый луг, с разбросанными по нему темными деревянными домиками;Илл.16река шумела и гудела. Руди смотрел на глетчер, на его зеленоватые хрустальные края, выделявшиеся на грязном снегу, на глубокие трещины, смотрел на верхний и на нижний глетчер. До слуха его доносился звон церковных колоколов, точно приветствовавших его возвращение на старую родину.
Самый простой способ попасть из Гриндельвальда в Интерлакен — по долине Лючине, то есть тем же путем, которым Руди в детстве ходил смотреть на Штауббахский водопад (см. выше про Лаутербруннен). И тут всплывает еще одна интересная история. По пути Руди пересекает «мост, переброшенный через слившиеся вместе два рукава Лючине». Из описания очевидно, что речь идет об упоминавшемся уже Цвайлючинен — месте, где Белая ЛючинеИлл. 17 соединяется с Черной. Но не все так просто: Черная ЛючинеИлл. 18 выше по течению тоже делится на два рукава (один из них вытекает из Верхнего, а второй — из Нижнего Гриндельвальдского ледника). Поначалу этому не придаешь значения, но потом открываешь карту, чтобы поставить метку на слиянии двух Лючине, и тут обнаруживается сюрприз: оказывается, рукава Черной Лючине, вытекающие из ледников, тоже «разноцветные» — то есть точек слияния Черной и Белой Лючине на самом деле не одна, а две!
Илл. 16
Деревянные шале в Гриндельвальде
Он опять шел той же дорогой, на которой стаивал, бывало, мальчиком вместе с другими ребятишками и продавал резные деревянные домики. Вон там, за соснами, виднеется еще домик его дедушки; в нем живут теперь чужие.
Чтобы назвать одинаковыми именами две реки, с одной и той же стороны впадающие в одну и ту же третью реку в десятке километров друг от друга, нужно иметь весомый аргумент. Как минимум чуть более весомый, чем здравый смысл, сдержанно бубнящий, что географические наименования лучше делать уникальными (хотя бы в пределах округа), а то будет как в той песне про неудачное свидание. Красивую, но малоправдоподобную версию объяснения подсказывает английская Википедия: автор статьи утверждает, что поскольку обе Белые Лючине текут с юга на север, а Черная — с востока на запад, то, встав при низком солнце в точке слияния (любой из двух), можно наблюдать, что долина Белой Лючине ярко освещена, а долина Черной, наоборот, находится в тени. Конечно, это слишком сложно, чтобы быть правдой, — зато еще один увлекательный сюжет для «Разрушителей легенд».
Илл. 17
«Малая» Белая Лючине, близ Гриндельвальда
Дорога шла над быстрой Лючине, которая разбивается здесь на множество мелких потоков и быстро несется вниз из черного ущелья Гриндельвальдского глетчера. Вместо мостов служат тут перекинутые с одного берега на другой деревья и каменные глыбы.
Илл. 18
Черная Лючине
Впрочем, для разрушения легенды достаточно одного взгляда на предмет исследования. Дело в том, что, вытекая из ледниковых ущелий, разные рукава вымывают породу разного цвета; в случае Черной Лючине эта порода темная, поэтому взвесь окрашивает ее воды в темно-серый, «грязный», цвет, а у обеих Белых Лючине — светлая, поэтому их воды имеют белесый, «молочный», оттенок[94]. Первая, гриндельвальдская, Белая Лючине чуть мельче своей тезки, и ей одной не под силу «отбелить» Черную, так что после ее впадения Черная Лючине и визуально не особо меняется, и название свое сохраняет. Лаутербрунненская же Белая Лючине столь же полноводна, как и Черная, и, слившись на равных под тем самым мостом в Цвайлючинен, они текут далее к Интерлакену уже просто как Лючине. Мост этот теперь уже не пешеходный (по нему проходит железная дорога), так что бесплатно постоять на нем не получится. Но если желание увидеть два смешивающихся потока разного цвета непреодолимо, можно попробовать продраться через прибрежный ивняк на западном берегу и посмотреть оттуда — картина примерно та же, что двести лет назад наблюдал Руди, пересекая этот мост по пути на состязание стрелков.
А вот теперь можно и в Интерлакен.
Интерлакен
Поговорка о том, что постройка швейцарской деревни начинается с закладки тира, родилась не на пустом месте: стрелковые фестивали (Schtzenfest) в Швейцарии — неотъемлемая часть национальной культуры. Традиция берет начало еще со Средних веков, когда силы самообороны Старой Конфедерации (а затем и наемные армии, отправляемые «на экспорт») формировались входящими в нее кантонами «в складчину» по принципу всеобщей воинской повинности, поэтому иметь оружие и уметь им пользоваться был обязан каждый, что регулярно контролировалось властями. Контроль был организован в форме смотров наподобие военных сборов, и в них неизбежно присутствовал соревновательный элемент — ведь гораздо интереснее не просто показать, что ты умеешь стрелять из арбалета, но и утереть при этом нос соседу. Именно эти смотры стали прообразом будущих кантональных фестивалей стрелков.
После неудачного эксперимента с Гльветической республикой в начале XIX века у швейцарцев остро встал вопрос национального самосознания — а на этой почве, как известно, хорошо растут радикальные народные движения, взывающие к традициям прошлого. В Швейцарии это вылилось в создание политизированных стрелковых ассоциаций, разросшихся вскоре до федерального[95] масштаба и некоторое время выполнявших роль важного инструмента прямой демократии в стране. Съезды ассоциаций, естественно, приняли форму стрелковых фестивалей — так возникли фестивали федерального уровня (Eidgenssische Schtzenfest), которые, кстати, регулярно проводятся до сих пор, правда, теперь уже как сугубо зрелищное и спортивное мероприятие.
Впервые федеральный стрелковый фестиваль прошел в 1834 году в Цюрихе, после чего стал проводиться с периодичностью в несколько лет, гастролируя по разным городам страны. В 1861 году, как раз когда Андерсен писал «Деву льдов», хозяином фестиваля был город Штанс (Stans), расположенный всего в пятидесяти километрах от Интерлакена (наплыв гостей был такой, что Андерсен еле смог найти там себе гостиницу). Именно с этого фестиваля срисованы картины стрелковых состязаний в Интерлакене, победителем которых стал Руди, хотя в действительности Интерлакен никогда не принимал фестивалей федерального уровня, максимум — локальные фестивали кантона Берн. Но Андерсен немного льстит этому городу и переносит в Интерлакен федеральный фестиваль со всеми его гостями — отсюда и «смешение поселян из разных кантонов», и «сборище разодетых иностранных господ и дам». (Последних, к слову, хватало и без фестивалей: туристы со всей Европы начали съезжаться туда «на воды» еще с 1820-х годов, попутно используя город как удобную базу для вылазок по окрестным достопримечательностям.)
«Лучшая, прекраснейшая улица на свете» — это, конечно, Хёевег (Hheweg), центральный, если так можно выразиться, бульвар Интерлакена.Илл. 19 Однако увидеть его глазами Руди можно разве что на одноименном пейзаже Жюля Луи Фредерика Вильнёва[96], так как сейчас от андерсеновского описания там мало что осталось. «Вымощенная камнями проезжая дорога» превратилась в асфальтовую, «изукрашенные резьбой» деревянные домики с выдающимися вперед крышами уступили место современным гостиницам; роль привета из прошлого играют разве что тянущаяся вдоль улицы каштановая аллея да тот самый зеленый луг (Hhematte)Илл. 20 с видом на заснеженную Юнгфрау вдали. Каштаны, к слову, подстрижены так, что угадывается безжалостная рука виноградаря, но в этом есть свой скрытый смысл: иначе их кроны заслоняли бы постояльцам всю панораму — а ее хоть на стену вешай.
Илл. 19
Интерлакен
Каждый домик был «гостиницей»; окна и балконы были изукрашены резьбой, крыши выдавались вперед. Домики смотрелись такими чистенькими, нарядными; перед каждым красовался цветник, обращенный к широкой, вымощенной камнями проезжей дороге.
Вышеупомянутый луг служит сейчас отнюдь не для выпаса коров, а как городской парк и площадка для разнообразных культурных событий; кроме того, он является удобным ориентиром для посадки парапланеристов, коих здесь пруд пруди: параплан — отличный способ не только пощекотать нервы, но и насладиться окрестными пейзажами с лучших ракурсов, не карабкаясь на бог весть какие кручи. Впрочем, если нервы ни к черту, альпинизм не вдохновляет, а посмотреть сверху все-таки хочется, то есть неплохой компромисс. Соединяющая озера Тунерзее (Thunersee) и Бриенцерзее (Brienzersee) река Ааре (Aare), к которой, по Андерсену, сбегали по склону деревянные домики на Хёевег, течет у подножия горы Хардер Кульм (Harder Kulm). К вершине этой горы ходит фуникулер, станция которого расположена на северном берегу реки, напротив Восточного вокзала Интерлакена (Interlaken Ost). Десять минут на фуникулере, еще пять пешком — и вы на смотровой площадке,Илл. 21 парящей над городом на почти километровой высоте. Металлическая конструкция площадки упруго «играет» под порывами ветра, под ногами медленно проплывает рваная пелена облаков, и сквозь просветы в ней виден город — черепичная рябь на неожиданно ровном зеленом пятачке между двух озер, окруженном горами наподобие римского амфитеатра. Уходить не хочется.
Илл. 20
Интерлакен. Тот самый зеленый луг с видом на Юнгфрау
Дома шли вдоль всей дороги, но лишь по одной стороне, а то бы закрылся вид на зеленый луг, на котором паслись коровы с колокольчиками на шее, звучавшими, как и на горных альпийских пастбищах.
Илл. 21
Интерлакен. Смотровая площадка Хардер Кульм
Луг был окаймлен высокими горами, которые в самой середине вдруг расступались и открывали вид на сияющую снежную вершину Юнгфрау первую красавицу Швейцарии.
Наконец Руди перешел хребет. Зеленые пастбища спускались к его родимой долине; воздух был легок, на душе у него тоже было легко; гора и долина были убраны цветами и зеленью; сердце Руди билось от переполнявшего его чувства юношеской радости.
Вдоволь налюбовавшись на «первую красавицу Швейцарии», автор и его герой отправились каждый своей дорогой: Андерсен — домой в Данию с черновиками «Девы льдов», а Руди — обратно в Бриг с кубками победителя и серебряным кофейником. Впрочем, главный трофей Руди, как мы знаем, был нематериальным, и от помолвки с Бабеттой его отделяло теперь только орлиное гнездо. Про историю с добычей орленка, однако, много не расскажешь: известно, что в ее основу легло баварское предание, действие которого Андерсен перенес в кантон Вале, но оригинал самого предания мне, к сожалению, найти не удалось. Текст VII главы, несмотря на подробное описание Рудиного подвига, тоже никаких вразумительных зацепок не дает, так что теоретически ее события могли происходить где угодно, и для погружения в атмосферу достаточно абстрактных представлений об Альпах. Ну и бог с ними, с подвигами, — все равно дело кончится помолвкой. К ней и перейдем.
Монтрё
Как английскую барыню угораздило загреметь в крестные матери к дочери швейцарского мельника, сказать сложно; впрочем, мало ли что взбредет в голову скучающей аристократке, которая может себе позволить пансион в Монтрё. Возможно, Андерсену просто нужен был повод, чтобы добавить это место в сюжет — умолчать о Швейцарской Ривьере означало бы лишить историю доброй трети декораций, но что там могло понадобиться скромному альпийскому охотнику, не соберись он жениться на крестнице богатой иностранки?
Монтрё уже тогда был и до сих пор остается статусным курортом, практически целиком состоящим из инфраструктуры класса «люкс», — соизмеримое количество богатых пенсионеров можно найти, наверное, только на Майами-Бич. Отели, бары, клубы, казино, нагромождение стилей, обилие прямых углов, бетон-стекло-металл, ядовитая неоновая подсветка — этакий мегаполис в табакерке на фоне альпийского пейзажа. Неудивительно, что Руди там сделалось не по себе. Стоящая же перед нами задача вычислить «тот самый» пансион с учетом размаха местного гостиничного бизнеса и вовсе выглядит невыполнимой: как говорится, хочешь спрятать дерево — спрячь в лесу. Однако попробуем все же разобраться.
В ганзеновском переводе «Девы льдов» написано, что Руди с невестой и будущим тестем добирались в гости к Бабеттиной крестной в три приема: сначала доезжали до Вильнёва (Villeneuve), затем садились на пароходикИлл. 22 до Вевэ (Vevey), а уже оттуда шла дорога до пансиона. Точные копии тех самых пароходиков ходят по Женевскому озеру и сейчас, и прокатиться на таком — само по себе отличное развлечение. Пароходик не простой, а колесный, и между носовой и кормовой пассажирскими каютами в палубе сделан большой люк, через который видно, как ходят в машинном отделеии отполированные шатуны — завораживает так, что оглянуться не успеваешь, как ты уже приплыл. Однако перед покупкой билета до Вевэ догадываешься свериться с картой — и тут начинают одолевать сомнения. В тексте утверждается, что Вевэ лежит «чуть пониже» Монтрё, но это неверно: оба города расположены прямо на берегу на одинаковой высоте над уровнем моря. Даже если предположить неточность перевода и заменить «ниже» на «под» (т. е. «вблизи»), то текст все равно не клеится ни с географией, ни со здравым смыслом. Расстояние между Вевэ и Монтрё составляет около семи километров, а это на два километра больше, чем если ехать напрямую из Вильнёва в Монтрё. Зачем мельнику с его прагматичностью делать такой крюк — не просто же ради того, чтобы прокатить молодых на пароходике?
Илл. 22
Не тот ли самый пароходик?
На пароход садились как раз у небольшого городка Вильнёва, у конца Женевского озера, и через полчаса приезжали в Вевэ, что лежит чуть пониже Монтрё.
Большим разоблачением оказывается обращение к оригинальному андерсеновскому тексту. В нем Вевэ не фигурирует вообще — вместо этого пароходик идет в Ферне (Vernex), а «чуть пониже» звучит как «under», что действительно можно перевести как «под». Что заставило чету Ганзенов столь радикально отойти от исходника, поди теперь разбери — не исключено, что подвела чрезмерная любознательность: спешка часто вынуждает переводчиков работать, не приходя в сознание, а эти не поленились открыть географический атлас. И тут важно то, что начиная со второй половины XIX века никакого Ферне в атласах запросто могло и не быть. Дело в том, что называть Монтрё городом, строго говоря, не совсем верно: с административной точки зрения это коммуна, изначально состоявшая из множества деревень (в 1877 году их насчитывалось более двух десятков) — Ферне как раз входила в их число. До середины XIX века (то есть как раз когда происходили события «Девы льдов») деревни были сравнительно невелики, и между ними сохранялось свободное пространство, но затем случился туристический бум, деревни пошли в рост и вскоре разрослись настолько, что границы между ними стерлись. Ферне оказалась в самом «центре тяжести» образовавшейся суперструктуры, поэтому какое-то время название агломерации просуществовало в форме «Ферне-Монтрё». Однако впоследствии топоним «Ферне» вышел из широкого употребления — сейчас его нет ни на большинстве карт, ни в базах данных онлайновых геоинформационных систем[97]. Память о старом названии хранит только набережная Ферне (Quai de Vernex), расположенная в аккурат посередине между современными причалами Монтрё и Кларана (Clarens),Илл. 23— не исключено, что где-то там и приставал к берегу пароходик с нашими героями.
Что же до пансиона крестной, то логично было бы предположить, что Андерсен скопировал его с одной из гостиниц, где, будучи в Монтрё, останавливался сам. Например, это мог быть пансион мадам Депален, где Андерсен жил в том самом 1861 году и где произошла небезызвестная история с автографом Пушкина[98]. (Если так, то можно даже предположить, что «нарядно одетые, изящные, длинные и стройные» дочери англичанки — потайной привет Андерсена дочерям генерала Мандерштерна.) Пансион этот, правда, до наших дней не дожил, и точное местоположение его неизвестно, но небольшую подсказку можно выжать из текста в сопоставлении со здешним ландшафтом. Деревни, образующие коммуну Монтрё, располагаются не только в прибрежной полосе Женевского озера, но и на прилегающем горном склоне.
Илл. 23
Берег Женевского озера близ Кларана
Берег этот воспет поэтами. Тут, в тени ореховых деревьев, сиживал у глубокого голубовато-зеленого озера Байрон и писал свою дивную поэму о шильонском узнике; тут, где отражаются в воде плакучие ивы Кларана, ходил Руссо, обдумывая свою «Элоизу».
В районе Ле Планш (Les Planches) склон прорезает глубокий овраг, по дну которого течет река Бе-де-Монтрё (Bays de Montreux). Андерсен пишет, что дорога к пансиону «шла в гору между двумя рядами белых, освещенных солнцем стен, которыми были обнесены виноградники», и это очень похоже на подъем по склону северо-западнее оврага, как раз напротив набережной Ферне. Эта часть склона — гораздо более обжитая, чем противоположная, и на ней, во-первых, есть виноградные террасы,Илл. 24 а во-вторых, нет леса, который загораживал бы вид на озероИлл. 25 и Савойские Альпы «с разбросанными по ним городками, лесами и снегами на вершинах». Если принять эту версию за достоверную (виноградники — вещь долговременная, так что с некоторой натяжкой можно считать их ориентиром), то расположение пансиона проясняется с точностью до нескольких сотен метров — вполне достаточно, чтобы можно было хотя бы приблизительно повторить прогулку героев от пристани, а заодно и посмотреть Старый город. Если где и отдыхать от переваренного цивилизацией курортного побережья, то именно там: пространство в Старом городе живое и объемное, домики — маленькие, улицы — тихие и плавные, кофейни — немноголюдные, а вид на окрестности ничуть не хуже, чем с пансионного балкона.
Илл. 24
Виноградные террасы в Ферне-Монтрё
Оттуда маленькая компания отправилась по дороге в Монтрё; дорога шла в гору между двумя рядами белых, освещенных солнцем стен, которыми были обнесены виноградники; дома поселян ютились в тени фиговых деревьев, в садах росли лавры и кипарисы.
Илл. 25
Вид на Женевское озеро со склона в районе Ле Планш
Пансион, где жила крестная мать, лежал на полпути между Вевэ и Монтрё.
Сделав заморских родственников Бабетты англичанами (что, кстати, исторически обоснованно: в XIX веке подавляющее большинство туристов в Швейцарии составляли именно англичане), Андерсен не упускает возможности вставить маленькую шпильку на национальной почве. Как вы помните, из пансиона вся компания отправляется на экскурсию — и крестная неспроста выбирает объектом культурной программы для гостей именно Шильонский замок.Илл. 26 Его значение как исторического и архитектурного памятника здесь, конечно, ни при чем.
Илл. 26
Шильонский замок
Дойдя до старого, мрачного Шильонского замка, они зашли посмотреть на позорный столб темницы, куда сажали приговоренных к смерти, на ржавые цепи, ввинченные в скалистые стены, на каменные нары и на люки, в которые проваливались несчастные, попадая прямо на железные острые зубцы и затем — в водоворот.
Шильонский замок для англичан — в первую очередь место действия поэмы Байрона «Шильонский узник», так что образованные аристократы просто не могли не повести неотесанную швейцарскую родню приобщаться к поэтическому наследию своего великого земляка и современника. Здесь тянет саркастически хмыкнуть, но победителей не судят: пускай не склонный к рефлексии Руди не оценил страданий байроновского героя, а все-таки два дня, за которые была написана поэма, действительно сделали для популяризации Шильонского замка больше, чем шесть лет заключения в нем Франсуа Бонивара. Согласно официальной статистике, на настоящий момент Шильонский замок является самым посещаемым историческим объектом Швейцарии, а дешевые издания «Шильонского узника» на разных языках — самым ходовым товаром в окрестных туристических лавках.
Впрочем, тут, наверное, надо рассказать всю историю — ну или хотя бы ее часть.
Шильон
Когда в 1761 году, за сто лет до «Девы льдов», вышла «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, Швейцарская Ривьера моментально превратилась в объект литературного паломничества. Сам Руссо в предисловии к роману, написанном якобы от лица издателя, кокетливо отнекивался от реальности своих персонажей и правдивости описания места действия — но это, естественно, только подогревало интерес. Одни поклонники романа упрямо отказывались верить в то, что все персонажи вымышленные, и отправлялись в Кларан и его окрестности искать их следы. Другие, менее наивные, ехали туда же, просто чтобы окунуться в атмосферу описанного Руссо «райского уголка». Ну а поскольку рыбак рыбака видит издалека, то в первых рядах паломников оказались и коллеги Руссо по писательскому цеху. Полученные ими впечатления, естественно, тут же увековечивались в их собственных произведениях, и популярность места росла, как снежный ком. Из наших соотечественников первопроходцем стал Николай Карамзин, прошедший с томиком «Новой Элоизы» по берегу Женевского озера от Лозанны до Шильона и отчитавшийся потом об этом в «Заметках русского путешественника». Позднее его примеру последовали Василий Жуковский и Пётр Вяземский, а Лев Толстой со свойственным ему размахом так и вовсе поселился в Кларане на два месяца и впоследствии поставил Руссо в один ряд с Евангелием по степени влияния на свою жизнь. Но все-таки самого громкого шороху навели здесь англичане во главе с Джорджем Гордоном Байроном и Перси Биши Шелли — причем началась эта история, несмотря на масштаб задействованных лиц, как банальнейшая семейная драма.
В начале 1816 года, всего через год после свадьбы, жена Байрона, забрав с собой только что родившуюся дочь Аду[99], внезапно съезжает к родителям и подает на развод. Причины развода не афишируются, и за неимением твердой почвы под мозгами английский высший свет подключает фантазию, вешая на Байрона всех мыслимых и немыслимых собак. Тот какое-то время стоически терпит, но слухи разрастаются, подпитывая сами себя, так что просто «пересидеть» не получается, и через два месяца опальный поэт продает часть недвижимости и уезжает на континент — как оказалось впоследствии, навсегда.
Дела Шелли по части семейной жизни и общественного мнения на тот момент тоже обстоят не очень. Разошедшись незадолго до этого со своей первой женой, он начинает встречаться с дочерью своего наставника Уильяма Годвина, Мэри Годвин[100], раздражая апологетов нравственности ничуть не хуже Байрона. У Мэри же есть сводная сестра, Клэр Клэрмонт; она влюблена в Байрона, и перед его отъездом на континент у них случается короткая интрижка. Узнав о том, что Байрон направляется в Женеву, Клэр видит в этом удачный шанс для продолжения банкета и подговаривает Шелли и сестру отправиться вслед за ним — по официальной версии, чтобы уже наконец познакомить между собой двух поэтов, а заодно и переждать скандал. Однако перспективная многоходовка мисс Клэрмонт захлебывается на первом же этапе: Байрон полностью замыкается на Шелли, проигнорировав ухаживания Клэр (хотя и подарив ей между делом дочь). Одной из точек соприкосновения новоиспеченных друзей-поэтов оказывается творчество Руссо, и вскоре они покупают в складчину парусную лодку и отправляются на ней в путешествие по местам «Новой Элоизы». Особенно впечатляет Байрона Шильонский замок и история заточения в нем Франсуа Бонивара. После посещения замка друзья на два дня застревают в одной из деревушек неподалеку от Лозанны из-за затяжных дождей[101] — там-то Байрон по свежим впечатлениям и пишет черновую версию «Шильонского узника». Поэма выходит из печати в том же году и сразу обретает бешеную популярность, провоцируя вторую волну литературного паломничества на Швейцарскую Ривьеру — с ней-то и приносит на берег Женевского озера Андерсена, и именно так «Шильонский узник» вместе с замком попадают в сюжет «Девы льдов». С этого момента туда начинают ездить поклонники не только Руссо и Байрона, но и Андерсена, и данная глава — наглядный тому пример.
Впрочем, Руссо, Байроном и Андерсеном дело, естественно, не ограничилось. На Швейцарской Ривьере отметились буквально все: здесь можно найти следы и Виктора Гюго, и Альфонса Доде, и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, и Эрнеста Хемингуэя, и Сары Бернар, и Чарли Чаплина, и Фёдора Достоевского, и Владимира Набокова, и Петра Чайковского, и кого только не — даже действие самой известной песни Deep Purple происходит угадайте где[102]. Задача увековечить такое количество знаменитостей — причем одновременно и достойным образом, и так, чтобы у гостей не начало рябить в глазах, — кажется нерешаемой, но местные власти нашли удивительно простой и красивый выход. Решение настолько скромное по форме, что если не знать о нем заранее, то можно запросто пройти мимо — и со мной бы так и произошло, если бы не счастливый случай и все тот же вездесущий Байрон со своим «Шильонским узником».
Когда я добрался до Монтрё, был уже поздний вечер, и до закрытия стойки регистрации в гостинице оставалось всего полчаса. День выдался насыщенный, я немало прошел пешком и здорово устал, поэтому в ближайших планах было перекусить и лечь спать пораньше — наутро предстояли поиски пансиона крестной. По счастью, хозяйка отеля держала небольшую продуктовую лавку, поэтому далеко ходить не пришлось; я купил немного хлеба, сыра и ветчины и из принципа «think global, drink local»[103] попросил хозяйку порекомендовать бутылку местного вина. «Вам красного или белого? — спросила она. — Если у вас все хорошо с сердцем, то я бы предложила белое — но с красного лучше спишь». В итоге мы сговорились на красном, и я уже собирался было идти к себе в номер, как хозяйка спросила: «А хотите бокал?» — «Конечно, хочу, — опешив, проговорил я. — Но как я его вам верну? Вы ведь скоро закрываетесь». — «А не страшно, — сказала хозяйка, — просто принесите потом и поставьте вот сюда, на столик. Вы ведь на озеро пойдете?» — «Еще бы!» — хитро расплылся в улыбке я, мысленно благодаря хозяйку за подсказку и одновременно выговаривая себе за тугодумие.
Гостиница располагалась на юго-восточной окраине Монтрё, ближе к Шильону, и до берега Женевского озера было всего метров пятьдесят. Ночная подсветка Шильонского замка уже была включена, и оставалось только найти красивый ракурс. Вскоре, чуть пройдясь по берегу в сторону замка, я обнаружил идеально подходящую скамейку — береговая линия в этом месте делает изгиб, и замок виден как на ладони. Расположившись, я налил себе бокал вина и приготовился предаться гедонизму, но все никак не мог устроиться: что-то мешало сидеть. Наконец любопытство пересилило, и пришлось включить фонарик. Как выяснилось, я сидел прямо на вмонтированном в скамейку кнопочном пульте, рядом с которым красовалась голубая табличка с надписью: «Джордж Гордон Байрон, "Шильонский узник"». Подписи к кнопкам, соответственно, гласили: «Английский», «Немецкий», «Французский» и «Достаточно». В результате вкусив на той скамейке пищи не только физической, но и духовной, я, однако, не сделал из этого тогда систему, а зря: впоследствии оказалось, что таких скамеек на Швейцарской Ривьере больше двух десятков; каждая посвящена какой-либо творческой знаменитости, черпавшей здесь вдохновение, расположена в специально выбранном, характерном месте и умеет цитировать отрывки из соответствующих произведений на трех языках. В своем вечернем припадке эстетизма я напоролся на байроновскую скамейку, а есть, конечно, и андерсеновская — мы до нее еще доберемся, это совсем рядом, но сначала заглянем в замок.
Андерсен называет Шильонский замок мрачным, хотя с первого же взгляда становится ясно, что в этом больше наносной байроновщины, чем непосредственного впечатления. Байрон, куда глубже погруженный в мировую скорбь, нежели в историю Швейцарии, увидел во Франсуа Бониваре в первую очередь собственное отражение и настолько увлекся эмоциональной стороной вопроса, что визуальную исказил в ее пользу, а исторической и вовсе пренебрег[104]. Исследователи и поклонники творчества Байрона живо подхватили эту песню, в результате чего вокруг замка наросла масса легенд, одна чудовищнее другой: и темница, выдолбленная в материковой скале ниже уровня воды[105], и дорожка, вытоптанная Бониваром за четыре года в каменном полу вокруг колонны, к которой он был прикован…[106] Андерсен тоже внес свою лепту, написав про ямы с острыми зубцами на дне и водоворот, хотя там и течения-то нет. Если же на секунду абстрагироваться от этого международного чемпионата по литературному нуару и посмотреть на замок невооруженным взглядом Руди, то впечатление получается совершенно иным.
Скалистый островок, на котором стоит Шильонский замок, настолько мал, что архитекторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы впихнуть на него все необходимое. По плотности компоновки и эффективности использования пространства замок скорее напоминает самолет (не дело это, говорят авиаторы, — воздух в самолете возить), а снаружи куда более похож на орешек, чем одноименная крепость в Шлиссельбурге. Игрушка, да и только (особенно если Байронов не читать), даже конические крыши башенок — широкополые, как у грибков на детской площадке. Внутри замка тоже есть на что полюбоваться: хороши и внутренний двор, и оборонительные галереи,Илл. 27 и вид на озеро с верхних этажей донжона.Илл. 28 Но самый посещаемый туристический аттракцион — это, конечно, все-таки темница. Илл. 29
Илл. 27
Оборонительные галереи Шильонского замка
Илл. 28
Вид на Женевское озеро и Савойские Альпы из донжона Шильонского замка
Илл. 29
Темница Шильонского замка
Байрон воспел и опоэтизировал это ужасное место, но Руди видел в нем лишь то, чем оно было в действительности, — место истязаний.
Наверное, есть что-то в этой вездесущей практике переводить нелицеприятные достопримечательности в развлекательную плоскость. Руди, впрочем, было не до веселья: тюрьма есть тюрьма, а эти все англичане мало того что ходят медленно и цирк какой-то манерный развели, так еще и невеста с ними заодно… Как тут не захотеть сбежать на уединенный остров, особенно если он виден прямо из окна?
Окно, через которое байроновский Бонивар и андерсеновский Руди мечтали об острове, два автора описывают по-разному, и поначалу возникает желание ласково пожурить кого-то из них за неправдоподобность. Герой Байрона, чтобы добраться до окна, выцарапывает в стене своими оковами ступеньки (см. XII строфу); это, несомненно, усиливает драматизм происходящего, но никак не клеится с тем, что герой Андерсена смотрит из окна, просто «облокотившись на его каменный выступ». На месте, впрочем, оказывается, что, как в анекдоте про юридическую практику Ходжи Насреддина, правы оба. Подземелье замка состоит из нескольких секций, и в той, где томился Франсуа Бонивар, окна действительно находятся на высоте чуть больше человеческого роста, а вот в соседнем помещении они расположены гораздо ниже, поэтому там запросто можно облокачиваться на подоконники. Выходит, Руди просто ушел «от этой болтливой компании» в другую комнату и уже там стал смотреть в окно, что в описываемой Андерсеном ситуации очень похоже на правду.
Илл. 30
Вид на остров Пе из окна темницы Шильонского замка
Он облокотился на каменный выступ окна и смотрел на глубокую зеленовато-голубую воду и на уединенный островок с тремя акациями. Как ему хотелось туда, уйти от всей этой болтливой компании!
С видом из окнаИлл. 30 тоже интересно. В байроновском описании пейзажа почти отсутствует цвет — может быть, виной тому подкачавшее с погодой лето 1816 года? Между тем, Руди у Андерсена смотрит «на глубокую зеленовато-голубую воду», да и Жуковский в своем переводе «Шильонского узника» поправляет Байрона, раскрашивая голубым все пространство вокруг острова[107], — и это очень неспроста. Каменные стены темницы Шильона имеют изжелта-серый оттенок, а окна, представляющие собой фактически щелевидные бойницы, обращены на запад, так что солнечного света в них попадает очень мало. Сейчас своды подземелья подсвечены желтыми электрическими лампами, и это слегка разбавляет атмосферу, но во времена Байрона и Андерсена искусственное освещение могло быть только газовым, то есть «холодным» — если присутствовало вообще. На таком унылом фоне пейзаж за окном должен был смотреться особенно мучительно: ярко-бирюзовая толща воды, в которой угадываются темные силуэты рыб, на противоположном берегу — синие горы со сверкающими снежными вершинами и зеленой полоской леса у подножия, над всем этим — голубое небо… Но попасть туда нельзя, можно только подглядеть — и то в щелочку.
Островок же, которым любуются из окна герои Байрона и Андерсена, — это остров Пе (le de Peilz), расположенный в полукилометре от берега напротив устья речки О Фруад (Eau Froide), текущей к югу от Вильнёва. С любованием, правда, оба автора — и особенно Байрон — малость перегибают палку: на самом деле из окон Шильонского замка остров Пе не очень-то и разглядишь. Во-первых, он настолько мал (чуть больше двадцати метров в диаметре), что даже отмечен не на всех картах — мне в свое время приходилось искать его по спутниковым фотографиям. Во-вторых, на южном берегу озера за островом тоже растут деревья, так что для наблюдателя, находящегося вровень с поверхностью воды, остров с его растительностью совершенно теряется на фоне берега, по крайней мере, летом. В-третьих, окна, через которые смотрели из темницы Руди и Бонивар, выходят так, что если первому сектор обзора из его окна все-таки позволял худо-бедно видеть устье Роны и остров Пе, то второму пришлось бы для этого высунуться наружу. Ну и, наконец, в-четвертых, от замка до острова почти два километра — на таком расстоянии двадцатиметровый остров можно вообще не заметить, не то что деревья на нем сосчитать.
Кстати, о деревьях.
Остров Пе
Если верить Андерсену, изначально остров Пе был просто куском скалы, торчавшим из воды. Затем, лет за сто до событий «Девы льдов», по прихоти некоей дамы эту скалу «обложили камнями, покрыли землей и засадили акациями» — три из этих акаций прижились, и именно их видели
Руди и Бабетта с борта пароходика. Это хорошо стыкуется с версией Байрона: герой «Шильонского узника», описывая остров, говорит, что «цвели три дерева на нем»[108] (предположим на минуточку, что у него была-таки сверхспособность считать деревья на расстоянии двух километров). «Шильонский узник» был написан за сорок пять лет до «Девы льдов», что вполне сопоставимо со средним сроком жизни акации. Вроде бы все сходится…Или нет?
Первая же нестыковка выплывает из местной легенды об утонувшем женихе, которая, по версии Андерсена, возникла из истории Руди и Бабетты. Легенда эта действительно существует — вот только упомянутый Андерсеном путеводитель рассказывает ее несколько иначе. Согласно путеводителю, жених и невеста были английскими туристами, приехавшими в Шильон отдыхать; жених утонул во время купания, и его тело нашли на берегу напротив той самой скалы, после чего безутешная невеста распорядилась в память о возлюбленном превратить мертвую скалу в зеленый остров. Назвали его соответственно — «Островом покоя» («Isle о! Peace»/«le de Paix»), что впоследствии трансформировалось в «Остров Пе» («le de Peilz») — не спрашивайте, как. Получается, что Андерсен разнес по времени события легенды и, клонировав невесту, отослал один ее экземпляр на сто лет в прошлое озеленять остров, а вторую вместе с женихом превратил в Бабетту с Руди.
Легенда из путеводителя подкрепляется рядом источников, утверждающих также, что облагораживание острова началоь в 1797 году, но деревья на нем появились лишь в 1851-м — иными словами, остров сначала «обложили камнями и покрыли землей», а вот «засадили акациями» только через полвека (а не век спустя, как у Андерсена), то есть всего за несколько лет до гибели Руди. Еще те же источники пишут, что это были вовсе не акации, а платаны, но у Андерсена же всегда было туговато с ботаникой — взять хотя бы «Бронзового кабана», в тексте которого он кипарисы соснами назвал (см. соответствующую главу). Однако главный вопрос в другом: а Байрон-то тогда откуда взял три дерева? «Шильонский узник», вспомним, был написан в 1816 году, а тогда на острове Пе еще ничего не росло!
Здесь, впрочем, как писал Высоцкий, мне представляется совсем простая штука. Возвращаясь к пресловутым двум километрам между островом и замком — не исключено, что свои три дерева Байрон выдумал, а местные жители решили подыграть и посадили их — неважно уже, в честь утонувшего туриста или просто для красного словца. Если предположить, что это произошло в том самом 1851 году, то на момент написания «Девы льдов» платанам на острове было чуть больше десяти лет — а значит, они были около десятка метров в высоту (в первые пятнадцать лет платан растет очень быстро). Кто знает — возможно, издали десятиметровый платан действительно мог сойти за взрослую акацию.
Один из тех самых трех платанов дожил до наших дней (платаны живут очень долго — порядка двух тысяч лет) и сейчас накрывает своей кроной, как балдахином, весь остров. Особенно волшебно это выглядит зимой, когда он стоит без листьев, — его кора имеет необычный белый цвет, в результате чего его часто сравнивают с Белым Древом Гондора из толкиновского «Властелина колец». Объяснение, правда, у этого волшебства вполне (а то и чересчур) прозаичное: платан облюбовали в качестве зимнего гнездовья рыбачащие в Женевском озере бакланы, и за полтора с лишним века и дерево, и сам остров оказались покрыты птичьим пометом с ног до головы. Знай об этом Бабетта, возможно, Руди бы и не утонул.
К несчастью, захват острова бакланами растянулся на десятилетия, и все это время остров напрашивался на роль декораций для трагической развязки не хуже висящего на стене ружья. Андерсен чутко уловил эти вибрации и постарался от души (пишут, что он с раннего детства любил трагедии: чем больше народу в конце умирало, тем лучше). Закат на Швейцарской Ривьере — действительно картина в стиле «остановись, мгновение», особенно если смотреть его с воды, а главное, повернуться спиной к Монтрё с его курортными многоэтажками. Интересно, что Руди с Бабеттой именно так и поступили: в андерсеновском описании панорама почти круговая, и плотность деталей зашкаливает, но про северный берег озера там нет ни слова. Зато все остальное — традиционно как в аптеке:
Все кругом было залито сиянием заходящего солнца. Горные сосновые леса приняли лиловатые оттенки цветущего вереска, голые же выступы скал сияли, словно освещенные изнутри. Облака горели ярким пламенем, озеро алело, как свежий розовый лепесток. Но вот мало-помалу на снежные вершины Савойских скал стали ложиться темно-синие тени; только самые верхние зубцы еще горели, точно раскаленная лава… <…> Руди и Бабетте сдавалось, что они никогда не видели подобного «альпийского зарева». Покрытая снегами Dents du Midi блестела, словно только что выплывший на небосклон полный месяц.
Дан-дю-Миди (Dents du Midi) в этом пейзаже выделена неспроста: из всех гор, на которые открывается вид из этой точки, она самая высокая (более трех тысяч метров). То есть формально, конечно, в округе есть горы и повыше, но вид на них загораживают те, что подступают вплотную к озеру, а Дан-дю-Миди видна в створе долины Роны, уходящей от Вильнёва на юг. В результате, когда закатные тени начинают заполнять долину, постепенно поднимаясь по склонам, Дан-дю-Миди держится до последнего, и под конец ее вершины (их семь) остаются единственными отражающими закатное зарево[109].
К сожалению, увидеть всю эту картину с острова мне так и не довелось: владелец лодочной станции в Вильнёве сослался на то, что у него куча работы, и предложил мне либо дождаться следующего дня, либо взять напрокат каяк. Одет я был, мягко говоря, не для каякинга, а наутро пора уже было уезжать в Цюрих, поэтому пришлось довольствоваться близлежащим волноломом и той самой литературной скамейкой у пристани. Место для андерсеновской скамейки выбрано с любовью: плакучая ива над головой, длинный узкий пирс на фоне Савойских Альп и где-то там вдалеке — крохотный островок в шапке из платана.Илл. 31 Цитирует скамейка, конечно же, «Деву льдов», и к концу фрагмента ловишь себя на шальной мысли: метров шестьсот же всего — может, вплавь? И тут же следом: нет, врешь, дорогая, не возьмешь. Хотя забавный, конечно, мог бы выйти анекдотец — повторить все маршруты Руди, а под конец еще и утонуть для полной достоверности.
Илл. 31
Вид на остров Пе от Вильнёва
Рона скользит у подножия высоких снежных гор Савойи; неподалеку от впадения реки, на озере, лежит островок, такой маленький, что с берега кажется просто лодкой. Собственно говоря, это небольшая скала, которую лет сто тому назад одна дама велела обложить камнями, покрыть землей и засадить акациями.
Прочитав «Деву льдов», многие знакомые Андерсена пришли в ужас. «Милый, добрый друг! — писал Андерсену в 1862 году Бьёрнстерне Бьёрнсон. — Как это у Вас хватило духа разбить перед нами эту чудную картину вдребезги!» Однако, вчитавшись внимательнее, понимаешь, что вдребезги-то вдребезги, да не совсем: в финале истории содержится подвох, полностью переворачивающий ее восприятие. Концентрация переживаний в последней главе настолько велика, что на подходе к кульминации начинаешь глотать текст большими кусками и по инерции проскакиваешь эпилог, а между тем именно в нем заключено самое главное: история-то эта совсем не про Руди.
Руди жил как приключенец и погиб как приключенец. Он и сложного решения-то ни одного за всю историю не принял, просто ехал себе по рельсам: путал бес — путался, возникали трудности — совершал подвиг. Характер трудностей мог, конечно, сильно измениться после свадьбы («звоночки» на этот счет были, и не раз), но Господь Всемогущий предпочел не портить картину, вняв Бабеттиной молитве и организовав для Руди скоропостижное окончание земной жизни в момент наивысшего счастья. (Ирония судьбы: тогда, на экскурсии в Шильонском замке, Руди мечтал спастись от болтливых родственников на острове — по большому счету так и вышло.) Другое дело Бабетта: у нее со смертью Руди все только начинается. Не случись трагедия — сон из XIV главы мог оказаться в руку, и тогда не поздоровилось бы всем. К счастью, Бабетта вовремя поняла намек свыше и встала на путь праведный — и с христианской точки зрения это абсолютно счастливый финал, в свете которого и Руди, и даже саму Деву Льдов можно считать во всей этой истории персонажами второстепенными.
Что же, разве это печальная история?
Вен и Глен
Дания: Хольстейнборг
Все вы, наверное, помните анекдот про то, как конферансье всю ночь перед концертом выпивал с друзьями-медиками и чем это для него обернулось. А теперь представьте, на что способен сказочник, вдохновленный работами Эрстеда, за ужином в компании мечтательно настроенных инженеров. Особенно когда этот сказочник — Андерсен, а предмет обсуждения виден из окна.
Отсканируйте QR-код, чтобы открыть электронную карту
В последние двадцать лет своей жизни Андерсен ездил в замок Хольстейнборг,Илл. 1 как к себе домой: в 1856 году у него там даже появилась персональная комната, и с тех пор (и почти до самой смерти) он гостил у хозяев как минимум раз в год. Естественно, к моменту написания «Вена и Глена» (1867) он успел облазать все окрестности вдоль и поперек, а некоторым из них даже посчастливилось попасть в его сюжеты — например, действие «Блуждающих огоньков в городе» и «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях» (см. соответствующую главу) разворачивается в усадьбе Борребю, расположенной всего в дюжине километров от замка. Общее число произведений (не только сказок и историй), написанных или задуманных Андерсеном во время визитов в Хольстейнборг, приближается к пятидесяти — но историю
Илл. 1
Замок Хольстейнборг
Близ Зеландского берега, напротив Хольстейнского замка, лежали когда-то два лесистых островка — Вен и Глен — с селами и поселками. Они и от твердого берега лежали недалеко, и друг от друга тоже.
«Вен и Глен» среди них можно выделить особо. Дело в том, что вид на остров Глен (Gln) — фирменный пейзаж тамошнего побережья, а предание о затонувшем острове Вен (Vn) было в том же сборнике Тиле 1843 года издания, из которого Андерсен взял сюжет «Хольгера Датчанина» (см., опять же, одноименную главу). Иными словами, все необходимое для написания этой истории Андерсен не просто носил в своей голове четверть века, но и регулярно освежал — и ничего. Возможно, никакой истории так и не было бы, но, по счастью, божественные искры, при всей своей непредсказуемости, нередко вспыхивают во время доброго застолья в правильном кругу.
О чем говорят инженеры на отдыхе? Правильно — о работе. Профильный состав инженеров, собравшихся в тот день в замке у графа (и, к слову, без пяти минут премьер-министра) Людвига Хольстейн-Хольстейнборга, нигде не упоминается, но судя по всему, они имели отношение либо к строительству, либо к мелиорации — иначе беседа вряд ли зашла бы в эту степь. Работы по этим направлениям в Дании всегда было в буквальном смысле пруд пруди: государство островное, земли мало, рельеф низинный, обширные заболоченные территории — одним словом, есть за что повоевать с водой. И один из таких потенциальных объектов борьбы — целых двадцать квадратных километров — как раз под самым носом, буквально в двухстах метрах от обеденного стола.
Если посмотреть на окрестности острова Глен со спутника, то не сразу и разберешь, где суша, а где море. Остров и примыкающие к нему с двух сторон косы отгораживают от моря мелководный Хольстейнборгский залив (Holsteinborg Nor). Заросший буро-зелеными водорослями, он почти не отличается по цвету от прибрежных полей, так что смотришь и думаешь: а не соврал, что ли, Андерсен — прирос-таки Глен к Зеландии? Потом переводишь взгляд на карту — нет, как ни крути, это остров, кругом вода. Может быть, болото? Скажем, отвоевать у моря эти двадцать квадратов смогли, а вот удержать — нет, как в случае с Фельстед Ког в Ниссум-фьорде (см. «На дюнах»). Уж больно эти косы похожи на описанные Андерсеном дамбы, хотя рукотворными и не выглядят.
Так исчезал остров или не исчезал? А если исчезал, значит, и его затонувший близнец тоже существовал? В общем, пока Андерсен говорил свой тост, мы снова заделались «разрушителями легенд». И вот что из этого получилось.
Добираться до Хольстейнборга проще всего автобусом от Корсёра. Прямых автобусов, правда, нет, и придется делать пересадку в Скельскёре (Sklskr), но этого в любом случае не избежать, если вы захотите убить всех зайцев сразу и заодно попасть в Борребю и Баснес ради Вальдемара До и его дочерей. Главное — заранее подготовиться к двум основным проблемам автобусного сообщения в стране с неизвестным или нетривиальным языком: купить билет до нужной остановки и потом ее не проворонить. Вторая проблема сейчас запросто решается при помощи GPS, но первая скорее всего потребует общения с людьми — и тут встает вопрос произношения топонимов. Знание английского в случае с датским языком не помогает никак: если вы не владеете датской практической транскрипцией и не упражнялись в фонетике перед зеркалом, то каждая ваша фраза «мне до точки Б, пожалуйста» будет делать из вас героя анекдота про два билета до Дублина. Дело в том, что в датском языке, во-первых, связь между звуками и их буквенными обозначениями, мягко выражаясь, не всегда очевидна (я вообще с трудом понимаю, зачем датчане выбрали в качестве алфавита латиницу), а во-вторых, некоторые звуки попробуй еще правильно произнеси. В общем, после пятой неудачной попытки выговорить что-нибудь типа «Karrebksminde Bugt» сдаешься и молча тыкаешь пальцем в карту, клятвенно пообещав себе к следующей поездке составить топографический разговорник. Проверено — помогает.
С Хольстейнборгом, впрочем, эти проблемы не так актуальны: у него и название удобопроизносимое, и внешний вид узнаваемый, да и автобус останавливается прямо у моста передо рвом. «Передо рвом», впрочем, громко сказано: от него сохранился только небольшой сегмент собственно перед воротами. Однако и этого достаточно, чтобы ненавязчиво задать тон: всходишь на мост и сразу понимаешь, что замок — настоящий. Немножко, правда, смущают припаркованные неподалеку тракторы: сейчас, как и во времена Андерсена, Хольстейнборг и прилегающие территории работают в режиме фермы, и ренессансная архитектура на службе агропрома, конечно, смотрится непривычно, хотя после усадьбы Нюсё (см. главу про «Маленького Тука») этому уже не так удивляешься. Впрочем, разгуляться здесь все же есть где: поместье включает в себя парк, а также более пятисот гектаров леса. Окрестные домики — аккуратно выбеленные, с замшелыми соломенными крышами — в теплое время года тонут в облаках сирени, цветущего терновника и прочих барбарисов, а вокруг расстилаются ярко-желтые рапсовые поля — Андерсен неспроста писал в 1873 году из Хольстейнборга, что провел там «целую цветочную эпоху». Одним словом, красота.
Вдоль берега залива идет обсаженная каштанами дорога, илл. 2 с которой хорошо виден остров Глен. Но чтобы попасть на остров, придется сделать небольшой крюк: сначала отправиться на запад до Эрслева (rslev), а сразу за ним свернуть на юг. В итоге от замка до острова получается примерно полтора часа ходьбы, однако прогулка того стоит. Там, где, согласно Андерсену раньше переправлялись вброд через пролив, «разлучавший» Зеландию с Гленом, сейчас по узкой насыпи проложена автомобильная дорога. С насыпи на залив, побережье и остров открывается отличный панорамный вид,Илл. 3 который уже сам по себе достаточно красноречиво свидетельствует против Андерсена: непохоже, что еще каких-то полтора века назад на месте воды колосились фермерские поля. То есть на всякое, конечно, способен инженерный гений (иначе в Петербурге не было бы метро), но чутье подсказывает: даже потерпи здесь неудачу хищный глазомер мелиоратора, не могла матушка-природа в такой короткий срок отремонтировать все настолько идеально. В антропогенных ландшафтах всегда чувствуется искусственность, а тут уж больно все на месте, все по писаному, даже глубина залива у насыпи та же — «до оси телеги». Ох уж эти сказочники! Обманул, видать, в кои-то веки? Не дождался, значит, Глена Вен?
Илл. 2
Окрестности замка Хольстейнборг близ побережья
Ты идешь по лесу, по полю, на берег моря… Где же Глен? Перед тобой нет никакого острова, одно открытое море! Неужели Вен пришел за Гленом, как говорило поверье?
Илл. 3
Вид на остров Глен с переправы между Гленом и Зеландией
Может быть, ты еще вчера только был на берегу и любовался на диких лебедей, нежившихся на воде между Зеландией и Гленом, смотрел, как скользила около лесистого берега лодка с распущенными парусами, сам переезжал на остров вброд — другой дороги ведь не было, — и лошади шлепали прямо по воде, которая плескалась о колеса.
Пройдя по насыпи метров четыреста, оказываешься наконец на острове. Там дорога сразу разделяется: основная, асфальтовая, идет вглубь острова, а налево сворачивает грунтовка, в направлении которой примерно в километре виднеется небольшой лесок. Андерсен пишет о Глене как о «лесисто», но сейчас это не так: большая часть острова занята посевами, и от леса сохранился только этот небольшой участок у северного берега. Если у вас есть лишние полчаса, не поленитесь, прогуляйтесь до него — не столько ради ощущения, что Глен когда-то был лесистым, сколько ради того, чтобы посмотреть оттуда, как «по-прежнему блещет своими золочеными шпицами» Хольстейнский замок. Расстояние до него через залив — километра полтора, так что бинокль или телеобъектив лишними не будут, но увидеть замок ближе с этого ракурса все равно вряд ли получится, разве что с лодки.
Если близнец Глена когда-либо и существовал, то он должен был располагаться южнее, за пределами залива, а значит, в поисках его следов нужно пересечь весь остров с севера на юг. Насквозь через лес, к сожалению, не пройти (через пару километров грунтовка упирается в частный дом), поэтому, чтобы добраться до моря, приходится вернуться на асфальт. Эта дорога змеится по диагонали через весь остров до его юго-восточной оконечности. Сбиться с пути невозможно, потому что просто некуда свернуть: по бокам либо все распахано, либо чем-то засеяно, либо кто-то живет. В результате идешь, как по рельсам — куда выведет, туда и выведет, а что ищешь, и сам не знаешь: по спутниковым фотографиям ничего не разобрать, море на них вообще «закрашено», а любительских снимков в Сети всего несколько штук, что косвенно говорит о посещаемости места. Но тем приятнее сюрприз, ожидающий в конце. Казалось бы, дорога прагматично заканчивается парковкой, однако сразу же за ней земля вдруг обрывается, и по заросшему откосу можно спуститься на потайной пляж — узкую песчаную полоску метров в десять шириной. Полоска эта тянется сначала вдоль всего южного берега Глена,Илл. 4 а затем по косе, примыкающей к нему с запада, до самого фарватера — в общем, угадав с отливом, можно нагулять вдоль моря в полном одиночестве километров пять. Следов второго острова, конечно, не обнаруживается, но если повезет, можно расслышать в шуме ветра звон его утонувших колоколов. По крайней мере, прислушаться точно стоит.
Илл. 4
Южная оконечность острова Глен
В эту-то ночь остров Вен и исчез в морской глубине, и следа от него не осталось. Но часто потом в летние тихие ночи, когда море ясно и прозрачно, рыбаки, выслеживавшие угрей при свете укрепленного на носу лодки фонаря, видели (особенно более зоркие) в прозрачной глубине остров Вен, белую колокольню его церкви и высокие церковные стены.
Покидаешь остров Глен с двойственным ощущением: впечатлений — масса, фактов — ноль. Едешь в пустом автобусе до Скельскёра и размышляешь, выполнена ли миссия или провалена. С точки зрения «Разрушителей легенд», наверное, провалена: ни на один вопрос толком ответить так и не удалось. А вот с точки зрения погружения в сказку, наверное, выполнена: раз видел все собственными глазами, значит, так оно и было. Избыток фактов сказкам вреден: сказка живет фантазией, ей среди фактов не развернуться. А вот в условиях избытка впечатлений сказки, наоборот, растут как на дрожжах.
Так, очевидно, и произошло в тот вечер у графа. Свежие впечатления от прогулок по окрестностям Хольстейнборга и увлекательная дискуссия сотрапезников вдохновили Андерсена на тост за людей, преобразующих землю, — из этого-то тоста в сочетании со старой легендой из сборника Тиле и выросла сказка про Вен и Глен. А поскольку сказка сказывается скоро (если не считать двадцать четыре года вынашивания), то и свет она увидела раньше, чем прояснилась судьба проекта по осушению Хольстейнборгского залива. И неважно даже, идея ли потеряла актуальность, дамбы ли размыло, или выяснилось, что осушить залив труднее, чем бокал вина, — важно то, что проект в результате не осуществился, а сказка живет до сих пор, как бы намекая: что не всегда под силу группе профессионалов, часто становится возможным благодаря вере одного сказочника.
Впрочем, инженер, вдохновленный сказкой, бывает способен на чудеса ничуть не меньшие, чем сказочник, вдохновленный прогрессом, так что неплохо бы таким дружным компаниям почаще собираться за одним столом. Главное — следить, чтобы им при этом не попались под руку сибирские реки или Гибралтарский пролив…
Предки птичницы Греты
Дания: Тьеле — Орхус — Копенгаген — Калё — Нёрребек — Стуббекёбинг — Уледиге
Норвегия: Осло
Марию Груббе неспроста называют «Золушкой наоборот». Немногие женщины в европейской истории могут похвастаться настолько картинным нисхождением по социальной лестнице «из князи в грязи», причем ладно бы по душевной слабости или под давлением обстоятельств — так нет же, по собственной воле, гордо, напролом. Впрочем, идейная составляющая, в конечном итоге сделавшая Марию «сильной женщиной с удивительной и драматической судьбой», в этой истории всплыла далеко не сразу (и, к слову, не без помощи Андерсена) — а когда всплыла, то со временем претерпела такие метаморфозы, что на этом примере теперь можно изучать принцип «окна Овертона»[110].
Отсканируйте QR-код, чтобы открыть электронную карту
Первым, кто посмотрел на жизненный путь Марии Груббе как на картинку, достойную пера, был упомянутый в заключительной части «Предков птичницы Греты» Людвиг Хольберг (см. также главу про «Обрывок жемчужной нити») — они с Марией действительно познакомились при описанных Андерсеном обстоятельствах. Внимание магистра, правда, в результате ограничилось коротеньким эссе, известном как «Эпистола № 89» (1748), хотя и в нем Марии Груббе отводится роль даже не персонажа, а скорее своего рода экспоната кунсткамеры: абстрактно рассуждая о «странных браках», Хольберг приводит союз Марии с Сёреном как пример того, насколько изобретательной может быть матушка-природа, чтобы каждой твари стало по паре и никто не ушел обиженным.
Век спустя к истории Марии Груббе возвращается Стен Стенсен Бликер в повести «Отрывки из дневника сельского пономаря»[111] (1824) — кстати, считается, что тоже не на пустом месте: отец Бликера служил преподавателем в Тьеле (Tjele), фамильном поместье Груббе, и в его бытность рассказы о яркой судьбе представительницы рода еще могли быть живы в памяти местных жителей. Однако, будучи священником, Бликер видит в Марии скорее пример для осуждения и выстраивает свое повествование с позиции «вот что бывает, когда потворствуешь страстям, вместо того чтобы укреплять волю и развиваться как личность». Это, конечно, соответствовало взглядам, доминировавшим тогда в датском обществе: мысль о том, что страсти могут являться неотъемлемой частью человеческого «я», до сих пор является причиной священных войн — что уж говорить о плюс-минус начале XIX века. Однако морализаторство — всегда палка о двух концах: чересчур активно пытаясь насадить табу, рискуешь вместо этого пробудить любопытство. Не исключено, что если бы не Бликер, то о Марии Груббе лет через двести никто бы и не вспомнил — мало ли было в истории опустившихся дворян. Собственно, к тому и шло: даже место погребения «матушки Сёрен» обнаружилось только в наши дни, и то чисто случайно (см. ниже), то есть хоронили ее, как и писал Андерсен, без особых почестей (к слову об отношении современников) — земелькой присыпали да и забыли. Однако волшебная сила искусства, как обычно, все перевернула. (Если вы делали домашнюю работу по публичной политике, то знаете: так обычно и происходит первичный «сдвиг окна».)
В 1843 году вышел сборник Юста Маттиаса Тиле «Датские предания» — тот самый, к которому Андерсен впоследствии неоднократно обращался за сюжетами (см. предыдущие главы). В нем семейству Груббе тоже досталось на орехи — основной удар, правда, пришелся на голову Эрика Груббе, отца Марии. Предание народными устами разоблачало злодеяния его молодости, а «непотребное поведение» его дочерей и их бесславную кончину расценивало как справедливое возмездие — иными словами, служило дополнительным подтверждением тому, что в целом отношение к истории Марии Груббе (среди тех, кто ее еще помнил) на тот момент было не ахти.
После выхода сборника Тиле Андерсен оказался, как тот владелец домика на берегу океана, окружен предками птичницы Греты с трех сторон. Не хватало только искры — и ею, со слов самого маэстро, послужила прочитанная им газетная заметка о Марии Груббе в «Областных ведомостях Лолланна-Фальстера». Заметка ссылалась на Хольберга, сборник Тиле ссылался на «Датский атлас», с творчеством Бликера Андерсен был также знаком — словом, «богатый материал для поэтического произведения» собрался почти мгновенно. Удивляет, кстати, что для своей трактовки истории Андерсен выбрал именно романтическую окраску, а не морально-этическую, хотя уж где-где, а здесь поводов для морализаторства было хоть отбавляй — и персонаж, мягко говоря, неоднозначный, и предшественники задали тон, да и самому Андерсену было не чуждо делать из человеческих судеб далеко идущие религиозные выводы. Тем не менее в «Предках птичницы Греты» (1869) нет ни оценок, ни выводов, только сама история — почти как у Хольберга, только с розовыми очками вместо микроскопа: Мария предстает в ней в роли героини хоть и своевольной, но честной — а значит, положительной.
Перенос истории Марии в сказочную плоскость предсказуемо нарушил сцепление с реальностью: по андерсеновскому тексту восстановить ход событий в их естественной среде практически невозможно. Эрик Груббе у него живет в фамильном замке под Орхусом, Сёрен служит матросом, Палле Дюре хозяйничает в Нёрребеке… То ли Андерсену на старости лет изменил его фирменный перфекционизм, то ли слишком далеко было тащиться вновь в Ютландию за зарисовками с натуры, то ли еще что — так или иначе, маэстро ограничился теми источниками, которые были под рукой. В результате характерного для Андерсена многослойного повествования, где под сказочной картинкой скрывается историческая, научная, географическая и прочие «взрослые» реальности, из «Предков» не получилось. Отдуваться за это пришлось уже следующему автору, который, впрочем, не заставил себя ждать — им стал современник Андерсена Йенс Петер Якобсен со своим историческим романом «Фру Мария Груббе. Интерьеры XVII века» (1876).
Будучи апологетом реализма, Якобсен подошел к вопросу фундаментально: засел в Королевской библиотеке и не успокоился, пока не изучил все источники по теме, до каких смог дотянуться, включая протоколы бракоразводных процессов. Именно благодаря въедливости Якобсена исторический фон в романе обрел столь детальную проработку, которая в результате помогает восстановить нарушенное Андерсеном сцепление. Образ главной героини у Якобсена, кстати, тоже щедро пригубил из чаши реализма: его Мария Груббе — уже не одномерный персонаж сказок и легенд. Биолог по образованию и дарвинист по научным убеждениям, Якобсен всерьез задался вопросом мотивации своей героини и поиском баланса между духовным и физическим в ее характере. В результате Мария получилась у него женщиной из плоти и крови, настолько густо замешанных со всем остальным, что Андерсен от такого персонажа сбежал бы впереди собственного крика.
Однако ознакомиться с романом Якобсена маэстро, — вероятно, к счастью, — не довелось: «Фру Мария» вышла только через год после смерти Андерсена. Впоследствии образ Марии [112] перекочевал в «женскую литературу» как пример чудесного самоосознания и несгибаемой воли, потом некоторое время служил иконой для второй волны феминизма, а затем постепенно уступил «окно дискурса» более актуальным персонажам, в проработке которых особенно отличились такие современные мастера, как Катрин Брейя и Ларс фон Триер. Но оставим лучше развитие этой сложной темы тем, кто хорошо в ней разбирается, а сами вернемся-ка к «Предкам птичницы Греты» — благо теперь у нас есть почти все, чтобы рассказать их историю в деталях. Для этого нужно всего ничего: перечитать роман Якобсена, вытянуть из него факты и аккуратно подклеить их с изнанки к андерсеновскому сюжету. В результате получится то самое многослойное повествование, которого не хватало двумя абзацами выше: сказка в нем — от Андерсена, а якобсеновские изыскания послужат источником сносок там, где они необходимы (то есть практически везде).
Хауребаллегор и Тьеле: детство, отрочество, юность
Топографический кавардак начинается в «Предках птичницы Греты» с первых же строчек. Теоретически на роль «старой, исчезнувшей, усадьбы» в первую очередь напрашивается ютландская усадьба Тьеле (Tjele), где Эрик Груббе провел свои последние сорок пять лет, — но она, наперекор Андерсену, стоит до сих пор, и птичника там никакого нет (по крайней мере, теперь). Если же отталкиваться от того, что «старую усадьбу» снесли, то можно предположить, что под ней подразумевается усадьба Хауребаллегор (Havreballegard) близ Орхуса (Arhus) — Андерсен как раз ссылается на те места. И действительно, семейство Груббе некоторое время жило в Хауребаллегоре. В тот период поместье было собственностью датской короны, и, получив пост главы округа, Эрик переехал туда с женой в 1636 году; в 1643 году там родилась Мария, и там же четыре года спустя умерла ее мать. И все могло бы даже сойтись, не переберись Эрик с дочерьми[113] в 1651 году в Тьеле, где и разворачивались последующие события. По всему выходит, что Андерсен, то ли решив пренебречь подробностями, то ли намеренно запутывая следы, сделал образ старой усадьбы в сказке собирательным: в период детства и юности Марии роль отчего дома, судя по всему, играет усадьба Хауребаллегор, затем события «перескакивают» в Тьеле, а под конец эстафету снова принимает Хауребаллегор — его-то и сносят и строят взамен птичник.
Сейчас на месте предполагаемого домика Греты под Орхусом стоит Марселисборгская гимназия, построенная в 1898 году, и это соблазняет поначалу думать, что описанные в тексте «утиные казармы» во времена Андерсена действительно располагались там, а впоследствии уступили место казармам для школяров. Но как раз с расположением птичника в этой истории путаницы меньше всего: известно, что Андерсен срисовал его с натуры во все том же поместье Баснес (см. главу про «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях»), где в очередной раз гостил летом 1869 года. Изначальным планом было поселить туда одну из дочерей Вальдемара До, но потом Андерсен, с его собственных слов, передумал в пользу воображаемой внучки Марии Груббе. Теперь ни от самого птичника, ни от «островка в саду», на котором он стоял, не осталось и следа — впрочем, как мы знаем из главы про «Вен и Глен», в тех местах исчезновение островов — обычное дело.
Окрестности ХауребаллегораИлл. 1 за почти четыреста лет с момента событий «Предков птичницы Греты» тоже изменились до неузнаваемости: город разросся и поглотил все, что могло бы напоминать о временах Эрика Груббе.
Илл. 1
Орхус. Дворец Марселисборг близ бывшей усадьбы Хауребаллегор
И вот поздним ноябрьским вечером в Орхус приехали две женщины: супруга Гюльденлёве — Мария Груббе и ее служанка. Они прибыли туда из Вайле, куда приплыли на корабле из Копенгагена. Скоро они въехали и в обнесенный каменной оградой двор замка господина Груббе. Неласково встретил отец дочку, но все же отвел ей комнату.
«Большое озеро», ставшее, по Андерсену, болотом, даже если и существовало, то, похоже, до наших дней не дожило (хотя несколько чахлых прудов неподалеку от Марселисборгской гимназии действительно есть). От самой усадьбы не сохранилось ни одной постройки — последнюю снесли в 1911 году (накаркала-таки старая ворона); осталась лишь липовая аллея на улице Биркетингет (Birketinget). Единственное, что сейчас хоть как-то соответствует эстетике сказки, — это «дикая чаща кустов и деревьев», в роли которой выступает Марселисборгский лес. Впрочем, такая же чаща есть и в Баснесе, так что для полноты картины имеет смысл заехать и туда тоже — заодно и разобраться с птичником.
Усадьбе Тьеле, считающейся одной из самых старых в Дании, повезло куда больше: там сохранились, в числе прочих, даже постройки, ведущие свою историю с тех времен, когда и Эрик Груббе еще не родился. Например, каменный дом в южной части усадьбы датируется аж началом XVI века; пишут, что во время «Графской распри» (1534–1536) восставшие крестьяне пытались его сжечь — но попробуй сожги строение со стенами в метр толщиной. За пять веков существования усадьбы в ней накопилась масса интересного, включая, как утверждают, внутреннее убранство в стиле французского ампира. Но удостовериться в этом лично, к сожалению, нельзя: сейчас весь комплекс находится в частном владении, и публичный доступ на его территорию закрыт, так что даже фотографии внутреннего двора и исторических построек — большая редкость, что уж говорить об интерьерах. Большинство доступных в Сети снимков усадьбы сделаны с одного и того же ракурса,Илл. 2 и вовсе не из эстетических соображений: только в этом месте можно просунуть камеру через ограду. Кое-что можно разглядеть и с противоположной, восточной, стороны, но только зимой: летом вид загораживают кроны деревьев прилегающего сада.
Илл. 2
Усадьба Тьеле, фамильное имение Груббе
Птичница Грета была единственной представительницей рода человеческого в новом, красивом домике, выстроенном при усадьбе для кур и уток. Стоял он как раз на том же самом месте, где прежде возвышался старинный барский дом с башнями, кровлей «щипцом» и рвом, через который был перекинут подъемный мост. В нескольких шагах от домика начиналась дикая чаща кустов и деревьев; прежде тут был сад, спускавшийся к большому озеру, которое теперь стало болотом.
Единственное, куда пускают всех подряд и с удовольствием, — это в приусадебный ресторан, который называется угадайте как. Что ж, очень похоже на старика Груббе.
Эрик купил Тьеле в 1635 году, но окончательно перебрался туда, как уже было сказано, только в 1651-м, когда оставил службу при Хауребаллегоре. Больше переездов в его жизни не было: до самой своей смерти (1692) старик Груббе жил там в режиме «скупого рыцаря», не принимая никакого участия в общественной жизни. После смерти своей жены, Марии Юль, он так и не женился, но завел себе в Тьеле любовницу из числа прислуги. Злые языки говорили, что это подало девочкам плохой пример, но Андерсен об этом тактично молчит: в сказке таким подробностям не место.
Однако чай с булочкой да печка с дурочкой — неплохой способ провести старость, но никак не молодость. В окрестностях Тьеле и сейчас нет ровным счетом ничего, кроме одноименного озера (Tjele Langs) и бескрайних полей с редкими клочками леса — можно себе представить, какая глухомань там была в первой половине XVII века. При всей своей тяге к затворничеству Эрик не мог не понимать, что тихая сельская жизнь на периферии — не самый удачный расклад для богатой красавицы на выданье.
И тут мы естественным образом переходим к истории первого брака нашей героини.
Копенгаген, Осло и Калё: Ульрик Фредерик Гюльденлёве и воображаемый замок Груббе