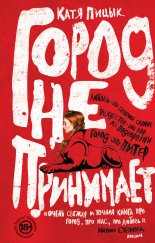Я не ушел Караченцов Николай

Много разных открытий принес нам Париж. Например, пивной ресторан с пятьюстами сортами пива, включая вишневое. Потом я прилетал в Париж не один раз. Однажды с композитором Владимиром Быстряковым сбил ноги о Монмартр, ночь, жарко, зашли в какую-то пивную, взяли по кружке пива. На столбик, к которому раньше привязывали лошадей, я положил свои уставшие ноги. И только сделал первый глоток…
– Господи, что же здесь делает Коля Караченцов?
Лена Цыплакова! И тащит нас с собой куда-то.
– Я уже ничем шевельнуть не могу, – отвечаю. – Куда это надо на ночь плестись?
– Пойдем, пойдем. Тут есть такая пивная, где пятьсот сортов пива.
Я с видом пресытившегося старожила:
– Я уже там был, когда жил в Париже прошлый раз.
Однажды мы зашли в карденовский магазин. Нас знали, поскольку все продавцы ходили на «Юнону». Мы-то думали, что русским артистам продадут подешевле, – шиш. Гордо повернулись, пошли на выход. Продавцы выбегают из магазина за нами. Я думал, сейчас скидку предложат, нет – автограф просят.
В тех парижских гастролях в труппе царила удивительная атмосфера сплоченности, мы же доказывали свою состоятельность. Любые гастроли – это экзамен. Но подобное единение труппы я видел до Парижа лишь раз, в восьмидесятом в Польше! Я помню, что творилось с публикой, когда мы привозили «Тиля» в Краков. Но там перед Захаровым замаячило, что обратно он может приехать, уже не будучи главным режиссером «Ленкома». Слишком хорошо нас принимали, скажешь какую-то реплику, а зал встает, потом начинает петь, кончилось тем, что они стали всякие знамена подымать. Поляки этот спектакль видели по-своему.
Был общий выезд «Ленкома» в Версаль. Тоже по тем временам событие. Спустя много лет я услышал, что над парком Версаля прошел ураган, деревья вырывало с корнями, они полетели и даже разрушили какие-то строения.
Странно, но это событие воспринималось как разрушение чего-то родного. К концу гастролей мы все истосковались по дому, и пора пришла уже возвращаться, но, с другой стороны, не хотелось уезжать, так здорово нас принимали. Мы понимали, что сделали хорошее дело не только для себя, для театра, но и для страны, а кто-то в Москве говорил:
– Да они там, в Париже, прости господи, перед столиками в ресторане чего-то играют.
Как так! Какой ресторан! Мы же знаем, как нас принимали.
После того как «Ленком» отыграл «Юнону» в Нью-Йорке, на Бродвее, а это уже когда наступила перестройка, демократия, я на улице около своего дома встречаю Авангарда Леонтьева. Постояли, обменялись новостями, потом он спрашивает: «Говорят, вы там не очень пошли». Я начал его тащить в дом, чтобы показать видеозапись со спектакля. Несмотря на то что в зале категорически запрещали снимать, что на видео, что на фото, я попросил, чтобы на мою видеокамеру местный американский завхоз снял хотя бы фрагменты того, «как нас принимают». «Завхоз» втихаря забрался в последнем акте на колосники за занавес.
…Играли мы в «Сити Сентр» – втором по значимости театре на Бродвее. То есть если открываешь страницу справочника, что идет в театрах Нью-Йорка, то под первым номером – «Карнегги-холл», под вторым – «Сити Сентр». Прежде всего, это балетный театр, нередко на его сцене выступает знаменитая труппа «Джеффри-балет», ну и мы там работали.
…Когда незадачливый оператор поднялся наверх, охрана его быстро вычислила, как – неизвестно, скорее всего, настучали, но только он начал снимать, тут же у него на плече – рука, полисмен. Мой американский папарацци объясняет:
– Да я для русского актера снимаю, это его камера, он только аплодисменты хочет оставить себе на память.
– Нельзя.
Тогда он уже в самом конце гастролей пролез куда-то за кулисы и оттуда на последнем спектакле снимал, как зритель нас принимает. И хотя на пленке видны только кусочки партера, но и так понятно, что зал битком, и хорошо слышно, как они орут. Я взмолился: «Гарик, пойдем, посмотри, если ты не веришь». Леонтьев испуганно: «Коля, я верю, верю». Вероятно, я стал орать на всю Москву, какая у нас вышла победа. Так мне было обидно.
Фатальное совпадение
Масштаб авантюризма графа Резанова – за гранью. Можно быть игроком, можно рисковать, на чем-то заводиться, куда-то заноситься, но здесь уже непостижимый размах. Графа можно отнести к тем уникальным людям, которые двигают вперед человечество. Вознесенский написал красивые слова: «Он мечтал, закусив удила, свесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку – спасибо».
Мне Андрей Андреевич давал книги, напечатанные в разных странах, которые в какой-то степени касались графа Резанова и его времени. И в поэме, и в спектакле есть то, что называется художественным вымыслом, хотя история графа реальная. Действительна и история с Кончитой, девочкой, фактически правящей в Сан-Франциско в начале ХIХ века. Она сама пришла к Резанову на корабль, благодаря ей были подписаны первые контракты. То, что у нас с Резановым совпали имена и отчества, Вознесенский называл фатальным совпадением. Граф считался одним из богатейших людей в России. Шесть домов только в Петербурге. Он заметен уже при дворе Екатерины, был любимцем императора Александра. В спектакле возник такой социальный посыл: граф рвется снова в Америку, а его царь не пускает. Он пишет прошения Румянцеву, еще кому-то, его не пускают. Но в конце концов прорывается. В настоящей жизни было не совсем так. После смерти при родах 22-летней жены 40-летний Резанов находился в страшной хандре. Роль графа при дворе видна по такому факту: сам император выехал к похоронной процессии, чтобы поклониться праху молодой Анны Резановой. Граф был вхож в знаменитую туалетную комнату дворца, где ночью решались судьбы империи. Именно там обсуждался вопрос о связях с Америкой. Так что царская охранка его никак не гноила. Но что делать – спектакль «“Юнона” и “Авось”» был выпущен в советские времена.
Если продолжить настоящую историю графа, он, несомненно, образованный человек, свободно владеющий испанским, и, похоже, именно поэтому, а также чтобы отвлечь его от тоски, царь распорядился сделать графа начальником экспедиции из русской тогда Аляски в испанскую тогда Калифорнию. Знаменитый мореплаватель Крузенштерн оказался под началом Резанова. И отношение к графу моряков было неоднозначным, похожим на отношение карьерных мидовцев к новому послу, который до того служил секретарем обкома. Но Резанов был человеком очень сильным и по-российски широким, сумел изменить ситуацию.
«Уитменовские» трупы
На телевидении снимался телеспектакль «Стихи Уолта Уитмена». Тогда снимали только так: с самого начала и до победного конца, процесс нельзя было остановить. То есть, если случится накладка, надо отматывать назад и опять все сначала. Мы стояли в каких-то рубищах, на каких-то кубах и в таком виде декламировали.
Стихи, что мы читали, были заунывно-трагические: про какие-то свежевырытые трупы, в общем, о малорадостном.
Артисты большей частью молодые, съемка – дополнительный заработок. Тогда на телевидении показывали много телеспектаклей, более того, существовало понятие «поэтический театр», совершенно дикое сейчас.
Телевизионные спектакли снимались обычно с трех до шести, то есть в перерыве между репетицией и спектаклем в обычном театре. Из разных московских театров артисты сбегались или в Останкине, или на Шаболовке, где и происходили съемки. Но в силу всеобщего разгильдяйства, которое творится, надо думать, со времен Христовых, обычно начинали снимать только к пяти. До этого последнего рубежа работники телецеха находились в состоянии раскачки. На репетиции «Стихов Уитмена» мы сначала собирались в Театре Маяковского. Потом уже трактовая репетиция в Останкине – это когда уж с камерами. Только после этого – съемка. Наконец все к ней готово, а Николай Аркадьевич Скоробогатов, уже ушедший от нас, удивительно талантливый актер, находится в слегка приподнятом настроении, проще говоря, выпивший. Он вообще был смешной мужик и замечательный дядька. Всегда с красным лицом. Перед съемкой он рассказал, как прошел чей-то день рождения. Что нас здорово развеселило. А потом тут же, войдя в роль, начал в той же интонации завывать про все эти «уитменовские» трупы, причем стоя, точнее – балансируя на кубе. Слушать это было выше всяких сил. Причем Николаю Аркадьевичу – хоть бы что, а все вокруг раскалываются. Следующий за ним должен читать стихи Борис Николаевич Чунаев, ныне заслуженный артист России, мой сосед по гримуборной, а тогда такой же молодой актер, как и я. Боря говорил текст с каменным лицом, но голос его выдавал, какие фиоритуры он выписывал от сдерживаемого смеха. Это меня доконало.
После их декламирования у меня была всего одна реплика. Вообще-то текста мне досталось много, но в ту секунду полагалось произнести реплику, состоявшую из четырех слов: «И их невозможно убить».
Я до смерти не забуду эту фразу. Я сказал, причем снимали меня крупным планом: «И их невоз… – после чего заржал, закрылся рукой и прокричал: —…можно убить!»
За мной бежала по коридорам режиссерша, кричала, клялась всеми святыми, что этой рожи, то есть моей, больше на телевидении не будет никогда. Я от нее удирал, я же понимал, что переснять мой кусок невозможно. Кончилось дело тем, что во время эфирного показа я приехал в студию, и телевизионщики вставили меня в передачу «вживую», это называлось у них «через вазочку». Меня сажают на крупный план, и, когда на телеэкранах у граждан подступает опозоренное мною место, в студии уже готова вазочка. Камера снимает сначала ее, потом переходит на меня. Я трагически:
– И их невозможно убить.
Потом опять вазочка и продолжение стихов Уитмена.
По-научному называется «перебивка». Я давно не видел эту режиссершу, звали ее Дана, хотя впоследствии у нас сложились очень милые отношения, она даже гордилась, что когда-то в юности она со мной работала.
Идейный фанатик
Один из лучших операторов на «Ленфильме» Евгений Мезенцев по праву может считаться моим крестным в кино. Именно он работал главным оператором на моем первом фильме «Одиножды один». Спустя несколько лет Мезенцев переквалифицировался в режиссера-постановщика, но меня не забыл.
Однажды, в конце семидесятых, Женя Мезенцев прислал мне сценарий фильма «Товарищ Иннокентий». Я сразу вспомнил первый том истории КПСС. Именно в нем все про девятьсот пятый год и попа Гапона. И вдруг у меня все в голове переворачивается, я же не сомневался, что Гапон – толстый, вечно пьяный поп, готовый за трешку продать народ. Оказывается, Гапон – интеллигентнейший, умнейший, холеный человек, знающий языки, прекрасно понимающий, что делает, вероятно, честолюбивый и тщеславный, к тому же обладающий огромным авторитетом.
Мезенцев под свой партбилет вытащил его личное дело то ли из Смольного, то ли еще из какого-то архива. Передо мной открылась такая история, которую ни в каких учебниках тогда узнать было невозможно. Магические слова для моего поколения: закрытые материалы из спецхрана. Я увидел фотографии Гапона в петле, потому что «соратники» его повесили. Уничтожили, потому что Гапон через год после 9 января вернулся в Россию и оставлять политику не намеревался. Он в тот январский день все просчитал, одного лишь не ожидал – что царь даст команду стрелять, тогда подобное казалось невозможным.
Максим Горький писал для Гапона воззвания. Популярность небывалая. Большевиков в тот момент никто не знал и знать не хотел. А за Гапоном шли люди. Я думаю, его и уничтожили в страхе, что за ним опять пойдут массы.
Он обладал невероятным ораторским талантом и даром внушения. На заводе в цехе собиралась ровно тысяча человек, их число ограничивали, так как микрофонов тогда не было. Он читал им проповедь, после чего люди, даже неверующие, шли за ним на баррикады. Я видел записки члена боевой дружины, который присутствовал при «проповедях» Гапона. Тот описывает, как у Гапона срывался голос, поскольку каждый час входила новая тысяча, а он все говорил. И дружинник вспоминает, что каждый раз к концу проповеди он рыдал, хотя знал ее наизусть, помнил, что за чем, каждую секунду. Гапон давил на публику страшным образом.
Я пытался сыграть идейного фанатика. Вероятно, получилось, поскольку редакторы и руководители отечественного кинематографа велели Мезенцеву три четверти моей роли из фильма вырезать, да и кино пустили на окраины самым маленьким числом копий.
Сорок восемь спектаклей
Гастроли в Нью-Йорке, и тоже по инициативе Пьера Кардена, прошли через семь или восемь лет после Парижа. В Париже мы были в восемьдесят третьем году. Значит, Нью-Йорк случился то ли в девяностом, то ли в девяносто первом. И тоже в Новый год. Но если мы заканчивали в Париже в Рождество, то в Нью-Йорке, наоборот, гастроли начинались с Нового года. Получился уникальный рейс, я впервые так «въезжал», точнее – влетал в Новый год. Первый раз мы его встречали в воздухе, в самолете.
Как этот самолет не свалился в океан или на землю – не знаю, но мы очень дружно праздновали. Наконец привезли нас в отель. Только мы в нем расположились, предлагают:
– А теперь пошли в «Максим» встречать Новый год по местному времени.
В Нью-Йорке тоже есть ресторан «Максим», как и в Париже, а Пьер Карден всегда в «Максиме» устраивает Новый год.
Так как в Нью-Йорк Пьер Карден привез нас не на следующий год после Парижа, значит, верность нашему спектаклю он сохранял довольно долго. Тоже, в общем, показатель. Было бы понятно – оседлать успех в Париже и тут же давай-давай… Перед тем как театр отправился в Нью-Йорк, на три дня раньше труппы туда полетели Марк Анатольевич, Олег Шейнис, завпост Саша Иванов, Лена Шанина и я. Нам полагалось участвовать в пресс-конференции, посвященной будущим гастролям «Ленкома», художнику и постановщику осмотреть площадку, мы с Леной тоже походили по нашей будущей сцене.
Я потом в Нью-Йорк приезжал много раз и иногда просто ходил к «Сити Сентр» поклониться, отметиться.
Отель, где мы жили, не раз менял название. Сейчас он называется, по-моему, «Сентрал парк-отель». Это рядом с Центральным парком, буквально на Бродвее, который в этом месте разрезает Седьмая авеню. Бродвей – индейская тропа к водопою – единственная кривая дорога в Нью-Йорке. Театр на пересечении 7-й и 56-й улиц, а отель – пересечение 7-й и 57-й, а 58-я или 59-я – это уже Централ-парк, отель «Плаза», в который однажды, непонятно с чего, нас поселили с Инной Михайловной Чуриковой.
А тогда нас во главе с Марком Анатольевичем встретил лимузин, что в девяностом году считалось нерядовым событием.
Спустя несколько лет мы приехали в Нью-Йорк с Инной Михайловной. Усаживаясь в лимузин, которым импресарио страшно гордился, я его расстроил заявлением:
– Я в них, можно сказать, изъездился.
Тогда-то нас и привезли в отель «Плаза». Я и не знал, что в отеле тоже есть VIP-вход. Там меня и Инну Михайловну посадили в какой-то зальчик, тут же принесли всякие напитки, кофе, чай, а документы без нашего участия в этот момент оформлялись, а наши вещи уже отнесли по номерам.
Правда, и время торопило, потому что нам полагалось ехать на телевидение, давать интервью. Вероятно, чтобы еще подсобрать зрителей. Спектакль «Sorry» мы с Инной Михайловной играли для русской диаспоры, причем тоже на самом Бродвее, два спектакля при полном аншлаге. Но это уже байки на другую тему.
Новогодний Нью-Йорк представлял собой сплошную толпу, и мы вместе с ней опаздывали на вечеринку. Пусть и недалеко от отеля до Пятой авеню, где расположился нью-йоркский «Максим», но толпа не давала идти быстро, все друг друга обнимали, хлопали по плечу, орали:
– Хэппи нью йер!
Пробегали мимо знаменитого небоскреба на Таймс-сквер. По нему в полночь под страшные визги съезжает яблоко – символ Нью-Йорка. Американцы, по-моему, на Таймс-сквер и отмечают Новый год, все же главный и домашний праздник у них Рождество, Новый год принято отмечать в толпе. «Максим» поразил нас обилием и разнообразием парфюмерии в туалетных комнатах. Там же, в «Максиме», проходил банкет в честь «Юноны», и, когда он уже заканчивался, ко мне подсела женщина и сказала: «Я – Наташа Макарова». Это была наша знаменитая балерина, сбежавшая на Запад. Еще несколько лет назад меня бы ветром от нее сдуло, а тут мы мило пообщались, вспомнили общих знакомых. Похоже, большинство дипломатов явились на этот прием. Его осеняли советский, французский и американский флаги. Наш посол и французский посол, представитель Соединенных Штатов в ООН и наш представитель в ООН принимали гостей. То есть круче театрального приема я не припоминаю. Киссинджер сидел за соседним столиком. Карден (зачем ему все это надо?) хватал меня за рукав:
– Надо, Николя, вас с тем японцем познакомить, он очень богатый человек, для вас это будет полезное знакомство…
Что мне тогда казалось странным, сегодня удивления не вызывает. На всех презентациях и тусовках и у нас, оказывается, теперь происходит то же самое, этим пропитаны все подобные приемы. Карден пытался для меня сделать нужное дело. А что я могу из этого азиатского миллионера при советской власти (кто же знал, что она на излете) выкрутить? Позвоню японцу, скажу: «Привет, банзай».
В Нью-Йорке нам полагалось работать совсем не так, как в Париже. В Париже мы имели два выходных дня – понедельник и четверг. Тяжело, но работать можно. В Нью-Йорке мы играли по восемь спектаклей в неделю. Один выходной – понедельник. Суббота, воскресенье – два выхода. Когда речь зашла о таком сумасшедшем графике, американцы нам сказали, что вы, собственно говоря, волнуетесь, так весь Бродвей работает. Вы должны привезти дублеров для исполнителей главных ролей, и никаких проблем. Оказывается, четверг у них в Нью-Йорке, а может, и по всей Америке считается не очень театральным днем, уж не знаю почему. То ли середина недели, то ли еще что-то – в общем, традиция. И в четверг, как правило, звезд на Бродвее заменяют дублеры. Получается, что у основных исполнителей два выходных дня. Более того, в субботу и воскресенье утренники тоже играет дублер. И мы, соблюдая американские правила, готовили на роль Резанова артиста Юрия Наумкина. Репетировали с ним в Москве довольно долго. Готовили не только его, но и на замену Лены Шаниной на роль Кончиты Алену Хмельницкую, дочку той самой Валентины Константиновны Савиной, помощницы Володи Васильева. Когда зашла речь о дублерше на Кончиту, то пробовалось много разных актрис, и не только из нашего театра, даже в основном не из нашего. Искали молодую девочку, а найти не могли. Однажды я приехал откуда-то, то ли с концертов, то ли со съемок, меня долго не было в Москве, встречаю Захарова: «Коля, уже не ищем никого». Алена Хмельницкая в этот момент училась на третьем курсе Школы-студии МХАТ. Можно сказать, что она выросла на «“Юноне” и “Авось”». Спектакль же создавался, когда ей было десять лет. Она уже тогда его наизусть знала. До этого Алена училась в хореографическом училище, потому что и папа, и мама у нее балетные из Большого театра. Однажды они поняли, что вряд ли их дочь станет звездой в танце, и совершили мудрый и мужественный поступок – изъяли ее из балета. Позже Алена поступила в Школу-студию МХАТ на актерский факультет. Конечно, ее балетная подготовка пошла ей не во вред. Когда она показывалась Марку Анатольевичу, мало того, что она наизусть спектакль знала, у нее от зубов отскакивали все испанские тексты, она еще стала показывать танцы из «Юноны». Марк тут же вынес приговор: «Все, можно больше никого не смотреть».
Мы репетировали с ребятами в Москве, мы репетировали с ними и в Нью-Йорке и через пару недель ввели в спектакль Алену Хмельницкую. Получилось очень здорово, Кончиту украсило то потрясение, которое испытала молодая душа Алены. Еще бы, ввестись в самый модный спектакль Москвы на главную роль да еще во время гастролей, да еще и на Бродвее, это мало кто воспримет хладнокровно. Но все ее волнение пошло на пользу роли.
Все получилось так трепетно, так насыщено нервными переживаниями, и в то же время ее юность привносила какой-то свежий ветерок, особое очарование.
Играем мы с Аленой сцену любви, ребята ее за кулисами смотрят, а дальше у нас сцена с Сашей Абдуловым, драка с последующим примирением. Мы с ним обнимаемся, и он мне шепчет:
– Коля, я смотрел вашу сцену, это божественно.
Мы всегда болели на «Юноне» друг за друга, и это нужно отметить, потому что у нас декорации травмоопасные, щели между станками на сцене довольно широкие, а с подъемом по ним все выше и выше опасность возрастала. И падали мы с них, и ломались. У меня случилась беда, тяжелая травма – это произошло в городе Куйбышеве в восемьдесят пятом году – разрыв связок в коленной капсуле и травма мениска. Боль ужасная. Я лежал на больничной койке и не знал, буду ли ходить, а не то чтобы прыгать и танцевать.
У станка, стоящего на сцене в «Юноне», помимо крутого подъема и щелей есть еще один неприятный фактор: он сделан из оргстекла, поэтому скользкий. Придумывали миллион способов бороться с этим скольжением. Начали традиционно, с канифоли, которая вначале дает крепкое сцепление, а через какое-то время все наоборот, превращает поверхность в каток. Пробовали поливать его кока-колой – нога прилипает. Спиртом протирали, чего только не делали.
В Нью-Йорке прогон смотрели представители профсоюза работников сцены и сказали, что на спектакль положено такое-то число работников постановочной части, приблизительно раза в два, а то и в три больше, чем у нас. Они не просто поглазели на представление, нет, все проверили: кто, откуда и как выходит. И вынесли свое решение: именно столько рабочих, и никак иначе. Здесь должны два человека стоять, здесь еще два… Даже на каком-то минимальном переходе артист ими страхуется. Меня всегда встречал на выходе со сцены американец и с фонариком провожал до выхода на следующий отрывок. В Москве я все делал сам: ходил в темноте кулис без поводыря. Но они считают, что каждый шаг премьера должен быть под присмотром.
Однажды, а я в «Юноне» появляюсь на сцене не с самого начала, иду на выход, меня встречает актер Радик Овчинников:
– Коля, там сегодня уж очень скользко.
Я и сам знаю, что скользко. Шутит, не шутит? Выхожу. «Еретик» Саша Абдулов кричит:
– Граф Николай Петрович Резанов!
Резко поворачивается от зрительного зала, выкидывает руку наверх в направлении того места, где я стою, и меня мгновенно освещает луч света. Становлюсь в позу «графьевую» и чувствую, что не стою, а еду – фью. Не знаю, чем уж вцепился в пол, но дальше мы все падаем, падаем и падаем. Это все происходило после выходного – во вторник. Выяснилось, что поскольку персонал «Сити Сентра» полюбил нас, то они очень постарались и каким-то шампунем промыли все станки. Ничего не помогает, удержаться на них невозможно. Когда мы «доехали» до любви, Лена мне тихо говорит:
– Коль, может, ты сапоги снимешь?
Я в ответ:
– А когда я их потом успею надеть? Что ж, мне до конца спектакля босиком бегать? Ничего, Ленок, сдюжим, я тебя выдержу. Все будет хорошо. Но только ты не бойся, доверься мне. Если я тебе шепчу парольное слово, сразу ложимся. То есть как только я почувствую, что поехал, скажу «стоп», тут же падай.
Лене необходимо стоя провести всю любовную сцену, в которой надо пропеть арию «Ангел, стань человеком», а потом изобразить пластический дуэт. Я понимаю, что если при этом сделаю полсантиметра ногой в сторону, то покачусь. Значит, полагается так встать, чтобы все проделать, не отрывая ног от станка в той точке, где я оказался.
Что и было исполнено, чисто отработали. За кулисами я наткнулся на одного нашего актера:
– Коля, мы молились за вас.
В советские, прошу заметить, времена, пусть уже девяностый год. Вот атмосфера, в которой мы работали в Нью-Йорке.
В Америке я сыграл за полтора месяца сорок восемь спектаклей. По восемь в неделю. Такой нагрузки я никогда не испытывал. Я и не представлял, что смогу выдержать такое. Но куда денешься, работал. Все же вторая площадка Бродвея. По нашей аналогии: Большой, затем Малый или МХАТ. Такой вот, не хухры-мухры, уровень. Не на задворках или в ресторанах. Нет, нью-йоркский Малый театр.
Марк так и не дал сыграть моему дублеру. Через две недели после начала гастролей он подошел ко мне и сказал, что только мне доверяет роль. Лучше бы он этого не говорил. «Я знаю, сорвете ли вы голос, сломаете ли ногу, но все равно будете играть. Я боюсь его выпускать, мы не имеем права ошибаться». У меня будто внутри натянутая струна оборвалась. Раньше я знал, что сзади есть хоть какой-то тыл, а тут выясняется, что опереться не на что. У меня вдруг выбились локти, причем сразу оба. Если кто-нибудь из тех, кто читает эти строки, испытывал боль «теннисного локтя», тот меня поймет. Я стакан поднять не мог, хотя это и звучит двусмысленно. Все от перенапряжения.
Каждый день, а то и два раза за день, я таскал на себе женщин, сжимал микрофон, дрался. А тут отработал неделю, вчера, в субботу, сыграл два спектакля, а сегодня – утро воскресенья. Иду по пустому Манхэттену на утренний спектакль, но помню, что еще есть вечерний, какой кошмар! Расслабиться не имею права ни на секунду. Каждый спектакль должен быть только победой, и ничем иным. Причем победой сногсшибательной. Но я довел себя до того, что локти болят не то что не утихая, а все сильнее и сильнее. Отвели к врачу в американскую поликлинику. Хуже ничего не видел. Человек помирать станет, а они тупо будут заполнять анкету на пятнадцати листах. Вопросы: сколько чашек кофе в день пьете, чем болел ваш прадедушка? Садисты законченные! Тем не менее ответил на все, ничего не скрыл. Там же, на соседнем стуле, сидел больной СПИДом. Мне показали на него пальцем. Прием закончился тем, что врач дал мне какое-то лекарство: «Я не буду вас колоть, потому что, если сделать укол, в этот день вы не сможете играть спектакль. А вы сказали, что у вас нет свободного дня». И на микстурах, таблетках, через дикую боль я довел до конца гастроли.
Однажды один наш артист, что ездил тогда с нами в Америку, по прошествии нескольких лет вдруг появился у меня в доме, прямо скажем, не совсем трезвый. Люда где-то моталась с очередным ремонтом дачи, я куковал один. Он позвонил в домофон снизу: «Я тебе на всю жизнь благодарен и поэтому хочу, чтобы ты выпил со мной». Он поднялся, я накрыл стол, вытащил из холодильника все, что там было. Приняв еще, гость признался, что все гастроли ждал, когда я сломаюсь. И во время последнего спектакля он сказал: «О! Сейчас Караченцов точно не выдержит. Ты же, Коля, бело-зеленый шел на сцену. Сыграл! Петрович, я перед тобой снимаю шляпу».
А мой дублер так ни разу в роли Резанова на сцену не вышел. Более того, отработав все гастроли, он остался в Америке. В «Юноне» у него была и другая роль.
Мы работали в Нью-Йорке полтора месяца. И в день отъезда или за день до него нашей заведующей труппой позвонил актер, который жил в одном номере с моим дублером:
– Юры нет. Только его пустой чемодан. Я не знаю, что делать.
Заведующая труппой Инна Георгиевна Бомко несется с этой новостью к Марку Анатольевичу, но тут выясняется, что у портье на стойке в ячейке номера, где жил Захаров, лежит письмо. В нем исчезнувший актер пишет, что честно отработал все гастроли, но просит прощения, он не поедет в Москву, а остается в Нью-Йорке. После такого ошеломляющего сообщения к Захарову подошел еще один актер, Юра Зеленин, секретарь комсомольской организации нашего театра. «Марк Анатольевич, – сказал лучший комсомолец, – я здесь, пока мы гастролировали, поступил в духовную семинарию, так что в Москву я не вернусь».
Марк схватился за голову:
– Юра, я вас умоляю, когда у вас начинаются занятия в семинарии?
– Первого сентября.
– Я вас из Москвы отпущу. Мне уже Наумкина хватает.
Хотя все привыкли к Горбачеву и невиданным либеральным временам, но еще существовал Советский Союз, а следовательно, и КГБ, но главное – все советские рефлексы пока сохранялись. Хотя в Нью-Йорке, в отличие от Парижа, за нами никто не следил, мы могли гулять по Бродвею – кто, как и когда хотел. Комсомолец вернулся с нами в Москву. Марк свое слово сдержал, и Зеленин действительно уехал в Штаты. Совсем недавно Юра приезжал в Россию, заходил к нам в театр. Уже священник, уже со стажем. Я с ним потом не раз встречался в Америке.
Пьер Карден сделал еще один подарок нашему театру. Собрал группу из работников театра: актеров и не актеров, которые оказались не заняты в «“Юноне” и “Авось”», и их за свой счет привез в Нью-Йорк. Единственная разница: мы там сидели полтора месяца, а они – две недели. И жили в другом отеле, попроще, но он и им суточные платил!
С этой группой мы смогли привезти в Нью-Йорк своего ребенка. Сын пробыл с нами, правда, немного больше, чем две недели, потом они вместе с нашей актрисой и моей сокурсницей Аней Сидоркиной, которая тоже чуть-чуть задержалась в Нью-Йорке, вернулись в Москву.
В Гренландии есть такой перевалочный аэропорт Гандер, раньше все наши самолеты перед и после «прыжка» через океан там садились. В Гандере есть стена, на которой люди пишут, что хотят, отмечаются. Там тебе дают какой-то квиток, на который ты можешь, пока по этому аэропорту гуляешь, выпить чашку кофе или колу. И еще одна достопримечательность, я потом с таким сталкивался где-то в Азии: там время не на час сдвигают, а на полчаса.
Взял я то ли чашку кофе, то ли кружку пива. Ходим, гуляем. Пересменок. И вдруг Саша Абдулов кричит:
– Коля, тебе твой сын привет посылает.
А там, на этой стене, где все расписываются: «Папуля и мамуля, я лечу хорошо». Я достал видеокамеру, Саша сжигает пальцы, освещая стену зажигалкой. Я ему: «Не видно ни хрена. Поближе поднеси!» Он: «У меня пальцы горят». Но, рискуя здоровьем Абдулова, я снял Андрюшкину запись на видео.
В этой же туристической группе приехала в Нью-Йорк актриса нашего театра Марина Трошина. Марина успела за две отпущенные ей Карденом недели выйти в Америке замуж. Позже она открыла на Манхэттене кафе, которое называется «Дядя Ваня». Буквально через улицу от того отеля, где когда-то мы жили. И именно в этом кафе-ресторанчике «Анкл Ванья» мы, ленкомовцы, через некоторое время встретились. Пришел и Юра Наумкин, который немножко играл у Саши Журбина, тот организовал в Бруклине русский драматический театр, где работала Лена Соловей. Юра сел к синтезатору, начал играть и петь всю «Юнону», от начала до конца. Потом еще из «Тиля» запел песни. Мы сидели и рыдали. После чего Марина сказала:
– Коля, клянусь, я никогда в жизни этого вопроса Юре не задавала. Но сейчас спрошу: «Юра, если бы в те наши памятные гастроли ты хотя бы раз вышел на сцену и сыграл Резанова, остался б в Америке?» Тот чуть не прокричал: «Никогда!» Так вот в жизни все сложилось.
Полтора месяца, сорок восемь спектаклей, цифры убедительные, но с публикой поначалу были проблемы. Начиналось, как в Париже, с половины зала. Первый показатель успеха – нам перестали давать контрамарки, поскольку Карден не Карден, но это бизнес. Когда пустой зал, то плевать, а когда народ начал покупать билеты, сказали: «Извините, но пусть ваши гости тоже обращаются в кассу».
К концу гастролей зал уже битком. Через переаншлаг мы тоже прошли.
Не знаю, был ли еще прецедент, когда иностранный драматический театр играл с полным залом на Бродвее, и играл не для своей диаспоры. Все-таки девяностый год, наша новая эмиграция, кто знал, что такое «Ленком», на ноги не встала, про «новых русских» только-только заговорили. Поэтому билеты в театр на Бродвее нашим были не по карману. И если из Брайтона кто-то и приезжал, то единицы. Тем не менее именно благодаря мне Володя Зеленов, проработавший уже тогда в Штатах в общей сложности лет пятнадцать, он и по сей день крупный чиновник в ООН, впервые попал в ресторан «Одесса» на Брайтоне. Он только-только перешел работать в ООН из советской миссии. Теперь Зеленов, можно сказать, гражданин мира. Но в девяностом он, по-моему, первый из советских дипломатов, кто совершил подобную акцию и, вероятно, порядочно рисковал, как любой первопроходец. Выгонят из партии, не пустят в Союз, потеряешь Родину! Но время показало, что он совершенно правильно поступил. За столиком он мне признался: «Я раньше сюда и носа показать не мог». Вот прошло с того вечера лет пятнадцать, и я уже не помню, кто нас на Брайтон пригласил.
Объяснить, почему пресса на родине о парижских и нью-йоркских гастролях рассказывает более чем скромно, не могу. Есть, наверное, присущее нам некое своеобразное восприятие чужого успеха. Скажем, в Америке проходит церемония награждения специальным «Оскаром» женщин, работающих в кино. В отличие от нормального «Оскара», в нем нет номинаций, приз один, а претендуют на него представительницы самых разных кинопрофессий. От актрис до художниц, от композиторов до режиссеров, от монтажников до звукооператоров. Получила главный приз, «Оскара», Алла Ильинична Сурикова за картину «Человек с бульвара Капуцинов». Кто про это знает? Я увидел две строчки в двух газетах, больше нигде и ничего. Почему? Она вернулась в Москву королевой, она прошла такое сито, а ее никто даже с букетом не встречал. Какие там камеры, какие теленовости? Нет гордости за своих.
Я это не могу понять, но, вероятно, существует некое переживание, почему ты, а не я? Думаю, если бы приз такого уровня получили Соловьев или Михалков, сообщение это прозвучало бы позвонче. Они определенного рода фигуры в нашем кинематографе, имеющие вес, а Алла вроде как… ну, одним словом, дама. А для нее такая награда – гордость: и человеческая, и профессиональная, и патриотическая, и какая угодно.
Режиссер Саша Муратов в начале девяностых поехал в город Коньяк, есть такой во Франции. Его срочно вызвали, потому что впервые за всю историю нашего кино там в конкурсе полицейских фильмов номинировалась на приз его детективная лента. Ни разу в жизни ни одна наша картина на этот фестиваль не попадала: ни до, ни после. Муратов «вышел в финал» с картиной «Криминальный квартет» и завоевал второе место. Никто и нигде про это не написал и не сказал. Может быть, я пропустил, и где-то напечатали две строчки? Причем когда он на свои кровные поехал во Францию, то не знал, получит ли хоть какой-нибудь приз. Саша переживал за родное кино. Он рассказывал: «Я смотрю их фильмы, и мне стыдно, когда я вижу, как в кадре сразу взрывается сто автомобилей. Я понимаю, чего это стоит и какие деньги там тратятся на то, что называется кинематограф». Для нас же он из всех искусств важнейшим является. При нищенском существовании. Побираемся, где только можно. Одну машину в кадре перевернуть – это событие. Но картина Муратова победила, потому что она добрая, она человеческая. Этот «человеческий фактор» и сыграл главенствующую роль в присуждении приза. Только этим мы пока и можем брать.
Если бы Владимир Викторович Васильев поставил в «Юноне» танцы, которые можно было сравнивать с прославленным «Хоруслайном» или с чем-нибудь еще, похожим на бродвейские, мы бы стопроцентно проиграли. Но он нашел индивидуальную пластику для спектакля. Пластику неповторимую, не сравнимую ни с чем. Мы убеждали американцев не слаженностью движений, не пиротехническими эффектами и сценическими трюками, а именно русской душою, скажу вот так, высокопарно. То, на чем стояли и стоять будем, то, о чем я рассказывал, когда вспоминал про Париж, про Щелыково, про школу-студию… Мы сильны именно этим.
Я посмотрел на Бродвее все знаменитые шоу: и «Фантом», и «Кэтс», и «Хоруслайн». Невероятная радость для глаза, эффектно до безумия, но сердце так не трогает, как трогает наше скромное искусство. Этим, я думаю, мы привлекательны, этим и должны убеждать. Другое дело, что нельзя на одном замыкаться, хорошо бы себя развивать во всех направлениях, но тем не менее, я думаю, причина успеха спектакля «“Юнона” и “Авось”» в Нью-Йорке – в непривычных для Бродвея душевных страданиях.
Вышли десятки рецензий, и мы, естественно, волновались, как о нас скажут: хорошо или плохо? Что критики напишут? Вдруг обругают? У нас в те времена, да и сейчас нередко, все наоборот, если «несут» – надо бежать смотреть, значит, что-то интересное. «Нести» – это традиция, успешно сохранившаяся с советских времен.
С театральной критикой у нас всегда сложно. Это другая тема, и не обязательно мне ее касаться, но тем не менее «у них», если критик посмотрел и обругал, никто на представление не пойдет, если похвалил – будут ломиться. Критик – авторитет в театральной жизни. Черта американского менталитета: человек может делать что-то одно, но в этом одном он профессионал, а если достиг успеха – критик в большой газете, то суперпрофи, которому доверяют. «У нас» слишком много дилетантов. Знаем все, но по верхам. Там взрослый человек – нередко как индивидуум серее нашего десятиклассника, и делает он даже не целиком ботинок, а только каблук к нему прибивает, но всегда качественно, без брака. Он – профессионал. Они попусту свои нервы, а тем более деньги тратить не хотят. По большому счету им не нужен Достоевский, его в Америке массово никогда не будут читать.
Конечно, в Штатах есть интеллигентные люди, но средний американец знает американскую литературу хуже, чем, скажем, я, когда был школьником. Я с этим сталкивался, поражаясь, что они не читали Хемингуэя, не читали Сэлинджера, не читали Фицджеральда, не говоря уже о Марке Твене – стоп, уже начинаешь дергаться. Спрос определяет предложение. Раз люди не хотят тратить нервы, значит, им хочется, чтобы было весело. Поэтому полагается, чтобы во время представления с ног до головы облили водой, а еще лучше – залепили в морду тортом. Чтобы встали в ряд сто девочек – и нога в потолок! На каждое место из этих ста стоит толпа желающих в три тысячи. Американцы в своем большинстве хотят такое искусство и умеют его делать. Более того, в нем они достигли неимоверных высот. Вот почему Бродвей – это, в первую очередь, шоу, а психологическое и драматическое искусство, то, что не собирает стадионы, – это оф-оф Бродвей. Мы, в общем-то, вторглись на чужую территорию, где вроде бы нам делать нечего, однако на ней не только устояли и сумели так выступить, что нас встречали и провожали хорошо.
История любви
Я познакомился с Людой уже в театре. Она младше меня на пять лет, училась, как и я, в школе-студии, но у Массальского и Тарасовой. И о ней Тарасова писала в своей книге, считала ее первым появившимся за многие годы редким, причем мхатовским, талантом.
Пока Люда училась в Школе-студии МХАТ, она считалась любимой ученицей Аллы Константиновны. И та собиралась, как говорили, передать ей свой репертуар. Амплуа героини, чем славилась Тарасова, как ни странно, очень редкое, а у Люды развитие в этом направлении шло хорошо. Есть документальный фильм о Тарасовой, а в нем фрагмент: урок Аллы Константиновны с ученицей, и эта ученица – Люда. Сюжет о том, как они репетируют одну из любимых ролей великой актрисы. Они часто работали у Тарасовой дома. У Аллы Константиновны муж ходил то ли в адмиралах, то ли в генералах. И вот они репетируют «Гамлета», когда принц датский в сцене с королевой Гертрудой кричит, что здесь «крысы завелись», и через занавес убивает Полония. В результате они дошли до вершин проникновения и полностью окунулись в суть образа, Тарасова у мужа спрашивает: «У тебя есть какая-нибудь шпага, сабля, на худой конец, в общем, что-нибудь военное?» Он дал им свой кортик парадный. Потом переспросил: «А бинокль не надо?»
Люда, естественно, после школы-студии получила распределение во МХАТ. И одновременно начала сниматься в кино. По-моему, экранизировали Шекспира «Много шума из ничего». Мы тогда с ней даже знакомы не были.
В самом начале театральной карьеры ее подвел директор картины, сказав, что он договорился с дирекцией театра, и она может спокойно оставаться на съемках еще три дня. Она и осталась, поверив человеку. А он, оказывается, ничего не предпринимал, нигде и ни с кем не договаривался. Получился скандал, молодая актриса не явилась на спектакль. Все это произошло в те времена, когда Олег Николаевич Ефремов еще не набрал во МХАТе всей той силы, какую он получил потом. Ему полагалось на подобный проступок дебютантки для острастки остальных реагировать серьезно, поскольку он пригласил в труппу много молодых ребят, а тут такое ЧП. А еще живы старики, им тоже требовалось доказать свою принципиальность. Олег Николаевич Люду уволил. Но поскольку Алла Константиновна дружила с Ольгой Владимировной Гиацинтовой, то рекомендовала ей свою любимицу: есть чудная девочка, посмотри. Ольга Владимировна посмотрела, и Люду взяли в «Ленком». И почти сразу же в «Ленком» пришел Марк Анатольевич. Захарова утвердили главным режиссером, а Люда ввелась в спектакль «Музыка на одиннадцатом этаже» в постановке Владимира Багратовича Монахова, где я играл главную роль. На «Одиннадцатом этаже» и начался наш роман, который длился довольно долго и в конце концов первого августа 1975 года завершился бракосочетанием. А спустя три года, уже в 1978-м, 24 февраля родился Андрей Николаевич, который является нашим отпрыском. С той поры и до Андрюшкиной женитьбы мы жили вместе.
Наша семейная история не имеет ничего особенного или неординарного. Если вспоминать, как я первый раз Люду увидел, как и что во мне загорелось или забилось в сердце, – это выглядит слишком сопливо. Но прежде всего я считаю все это настолько лично моим, что не хочу об этом распространяться. Зачем я должен рассказывать о каких-то вещах, дорогих только нашей семье, остальным они не должны быть интересны.
Естественно, я Людмилу Андреевну сразу после свадьбы потащил в Щелыково. Про Щелыково я ей рассказывал взахлеб, Щелыково – ведь особая статья в моей жизни. Заставлял Люду ходить по лесам и горам, когда она уже была беременна, а потом и маленького сына туда вывозил.
Дальше, поскольку я сам из-за загруженности почти перестал ездить в отпуск, да еще и каникулы у нас в театре несколько раз выпадали на позднюю осень, а в Щелыкове в это время делать нечего, мы стали ездить в Сочи, в санаторий «Актер».
Раз уж я не рассказал о нашей с Людой красивой истории любви, могу взамен только вспомнить, что до свадьбы мы с ней отправились в тот же «Актер». Но ее не пускали в мою палату, так в этом санатории называли обычную комнату. Уборщицы санитаркам, а те врачам жаловались, что у актера Караченцова постоянно ночует посторонняя женщина. Теперь они себя считают чуть ли не нашими крестными, мол, они с самого начала так полюбили и Люду, и меня, что теперь ждут нас с самой зимы.
Женились мы без помпы, регистрировали брак не в знаменитом Дворце в Грибоедовском переулке, а на Ленинском проспекте в обычном ЗАГСе. И свадьба была скромная, не в ресторане, а дома. Пришли мои друзья и Людкины подруги, ее родители и моя мама. Вот и все гости. Люда не из актерской семьи. Отец у нее – специалист в издательском деле, он был заместителем директора «Профиздата». А Надежда Степановна, Людина мама, по инженерной линии, работала на заводе Орджоникидзе в конструкторском бюро, чертила на уже исчезнувших огромных кульманах. Совершенно не богемная семья. Зато у Люды изначально была одна лишь цель – стать актрисой, и больше ничего. Без родственной привязанности скажу, что она действительно талантливый человек. Сегодня Люда – заслуженная артистка России, но я осознаю, что, будь у нее другой муж, иначе бы сложилась ее судьба в нашем деле. Она слишком много отдала семье, дому, мне и сыну. Люда котлетки мне в театр приносила, я же после спектакля бежал на «Красную стрелу», мотался на съемки в Ленинград, возвращался и снова уезжал. А в 1975 году я еще не был тем самым известным артистом Караченцовым, все только началось. Мы поехали на медовый месяц в Питер, где я снимался в «Старшем сыне». Евгений Павлович Леонов ходил к директору гостиницы «Ленинград», чтобы нам дали большой номер, тогда на деньги ничего не мерилось, просто все приличное считалось дефицитом.
Ангел, стань человеком
В театре герой-любовник – Мордвинов, Остужев, Астангов, в кино – Лановой, Видов. А в «Ленкоме» я оказался в этом амплуа благодаря рискованному характеру Марка Анатольевича, и, я не знаю… звезды так встали. Я шут, хулиган, Тиль. Но Тиль ведь не герой-любовник?
Скорее, я считаюсь универсальным артистом. Точнее, мне бы хотелось, чтоб это было именно так. Во всяком случае, одна из моих профессиональных задач – постоянное расширение диапазона. После фильма «Старший сын» мне предлагали роли в направлении «социально-психологическом». После «Собаки на сене» пошла другая ветвь – комедийно-гротесково-музыкальная. Да, в спектакле «“Юнона” и “Авось”» моя роль внешне, безусловно, роль героя-любовника. Но в ней есть еще и роль первопроходца, каким, собственно, и был граф Резанов. Роль человека, который не мог спокойно жить. Все вокруг тянут лямку – карьера, деньги, все последовательно, а он так не может. Необыкновенный человек! Или нормальный авантюрист.
Театр закрыли на две недели. Так всегда бывает перед премьерой. Потому что возникает масса сложностей, службы входят в абсолютно новый режим, который потом превращается в привычный спектакль. Полагается научиться устанавливать новые декорации. Научиться собирать их быстро, мобильно и четко. Декорации обычно у нас сложные, и, если утром мы на главной сцене репетируем новую пьесу, а вечером на ней играется репертуарный спектакль, это означает, что уже в два часа полагается заканчивать репетицию. Иначе рабочие сцены не успеют разобрать утренние станки, а потом вместо них поставить новые. Такое ограничение сильно тормозит работу над спектаклем, когда он находится на стадии выпуска. Вот почему наступает момент, и все в театре останавливается, все работает только на премьеру. Так в «Ленкоме» заведено давно.
Так происходило и с работой Глеба Панфилова в период ее сдачи. Тем более что Глеб требовал к ней полного внимания. Как тишины на затаившейся подлодке. К этому времени роль у артистов должна отскакивать от зубов. Хотя Евгений Павлович Леонов мне говорил: «Коля, никогда не учи текст, никогда не учи текст». Казалось, как это? Пусть у тебя огромный опыт, но ты же на сцене можешь забыть слова. Такое, конечно, не должно произойти, но несчастье может случиться с любым артистом. Заклинило, и все. Нет ни одного человека, кто бы, выходя на сцену, не испытал подобного. И со мной бывало, и не раз… Самое страшное: перед глазами вдруг белый лист! Суфлера же в театре сейчас нет. Как я выхожу из этой ситуации? Все же в памяти остается общая линия, про что спектакль, а я всегда найду, что сказать своими словами. Выеду. Хуже, когда музыкальный спектакль. Музыка идет, пауз в ней нет, тут уж никак ничего забывать нельзя.
И ночами мне, пусть нечасто, но регулярно снится этот ужас, как снится он всем артистам. Типичные актерские кошмарные сны: ты не успеваешь одеться, а уже три звонка, твой выход на сцену, бежишь сломя голову, декорации падают, наконец ты на сцене, но не помнишь и строчки текста. У меня подобное в жизни бывало редко, но оттого, наверное, и редко снится. Никто, ни один артист от подобного не застрахован. У актеров память, как правило, никакая не особая, например, как у шахматистов. Никто не работает, чтобы специально развивать память. При большом количестве спектаклей, следовательно, заученных текстов, естественно, нарабатываются определенные навыки. В «Петербургских тайнах» мне досталось по нескольку страниц монологов. Как их выучить? К тому же они таким языком написаны, каким нормальные люди сейчас не говорят. Но я быстро научился запоминать большие куски текста. Наверное, отвечающая за память часть мозга тренировалась все то время, что я в профессии, и приводила сама себя в пограничное состояние. Недавно я принимал участие в съемках «Саломеи». Женя Симонова удивлялась: «Караченцов, я точно знаю, заранее текста не читал, он при мне в гримерной первый раз сценарий раскрыл. Я два дня готовилась и все равно несколько предложений никак не могу выучить. Меняю слова местами и все равно забываю. А у него от зубов отскакивает. Хорошо, он профессионал, а я – кто?» И это говорила Симонова – прекрасная, абсолютно профессиональная актриса. Прогоняли на сцене «Юнону»:
- Ангел, стань человеком,
- Подыми меня, ангел, с колен,
- Тебе трепет сердечный неведом,
- Поцелуй меня в губы скорей.
Я: Марк Анатольевич, я забыл, что дальше. А! Поцелуй меня в губы?
Марк: Вы такое забыли? Это конец, Николай Петрович, вы уже старый человек, пора с вами прощаться.
Причем у Вознесенского здесь определенная двусмысленность:
- Ангел, стань человеком.
Что это означает? Ну ладно, предположим, если уж совсем пошло шутить, требование стать в другую позу.
- Подыми меня, ангел, с колен.
Значит, надо, чтобы он немножко все-таки поднялся. И:
- Поцелуй меня в губы.
И еще:
- Там храм Матери Чудотворной,
- От стены наклонились в пруд
- Белоснежные контроферт,
- Будто лошади воду пьют…
Ну ладно, в общем, там все время какая-то двусмысленность:
- Мне сорок лет, нет бухты кораблю.
…Бухта, значит, и корабль должен в нее войти…
- Позвольте ваш цветок слезами окроплю.
Значит, оп!..
И у других актеров, я это видел, ступор наступал, и не раз… Бывало, я выручал, бывало, меня выводили из короткого замыкания. Я, например, помню, что говорить дальше, в отличие от партнера, а как подсказать? В голос же не могу! Значит, надо развернуться спиной к залу и на ухо шепотом… Всякое бывает…
Великая партнерша
Мы с Инной перед премьерой «Sorry» безумно волновались. Сгорел мужской склад нашей костюмерной. Сгорели перед самой сдачей спектакля все мои костюмы: пальто, смокинг. Театр не встал, но некоторые спектакли были временно сняты с репертуара, во что артистов одевать? Так, кстати, «Тиль» ушел с афиши и не вернулся обратно. Все театры Москвы дали «Ленкому» что-то из подбора, из того, что у них хранилось в запасниках, в гардеробах. А мы – на пороге выпуска «Sorry». Но наш гениальный модельер Слава Зайцев, уже будучи «Славой Зайцевым», очень быстро для меня все заново пошил у себя в Доме моды и подарил костюмы театру. А ведь у него же пошить обычный костюмчик стоит сумасшедших денег.
Мы репетировали долго. Чуть ли не год. Захаров ближе к сдаче, естественно, к нам приходил. Давал советы, делал замечания, но старался не вмешиваться.
И что бы потом ни писали – Марк Анатольевич всегда и везде доброжелательно отзывался о спектакле. Когда мы сдавали спектакль, в зал пришли все, не только худсовет, но и ребята, коллеги. Помню, Саша Збруев меня оттащил в сторону. Даже какую-то мою знакомую отогнал. Говорит: «Коля, ты нашел какую-то новую форму существования. Она очень непривычная, но получилось очень здорово, надо ее развивать». На следующий день, когда мы репетировали, подошел Олег Янковский: «Коля, мы вчера на вас смотрели, как на пособие по актерскому мастерству».
Мы с Инной «Sorry» бережем. Этот спектакль играется прежде всего на нашей родной сцене, тем не менее мы его довольно много возим. Меня раз спросили: «Почему вы его никому не отдаете? Почему никто, помимо вас, его не играет в других театрах?» К нам этот упрек не относится: отдаете или не отдаете? Это уже дело Александра Михайловича Галина. Любому автору хотелось бы, чтобы его пьеса шла во всех театрах страны и мира. Вместе с нами начинали репетировать «Sorry» в театре у Додина в Петербурге. По-моему, Игорек Скляр и Лика Неволина. Мы с Ликой вместе снимались, и она рассказывала, как идут у них репетиции. Но, видимо, они так и не доехали до премьеры. Что-то у них застопорилось. Додинцы, когда приезжали в Москву, приходили, смотрели «Sorry» у нас. Мы вывозили спектакль за границу, обычно играли его перед русскоязычной публикой. С этим спектаклем Инна Чурикова и я не раз бывали в Америке, в Израиле, ездили с ним в Германию. Гастроли в Америке проходили дважды, впрочем, как и в Германии. В Германии – с перерывом чуть ли не в два месяца. Что же так частить? Нет, недокормили, давай еще. И поехали, и сыграли. Везде собирались полные залы, везде хорошо принимали. В Нью-Йорке «Sorry» попал даже на Бродвей.
Мы поехали с «Sorry» в Венесуэлу на театральный фестиваль. Причем, как выяснилось, фестиваль такого масштаба, что аналог в Европе найти непросто. Со всех концов Земли съехались в город Каракас лучшие театры. Причем мощнейшие, громадные коллективы. Странно, как они в Каракасе сумели поместиться. Мне Венесуэла всегда казалась маленькой страной с большой наркомафией и красивыми женщинами. Про наркомафию ничего нового не узнал. Женщины действительно очень красивые, и они этим справедливо гордятся. На всех мировых конкурсах красоты если не первое, то уж в финале обязательно одно место занимает девушка из Венесуэлы. Там у них, видимо, намешано столько кровей, что девочки все получаются длинноногие, пухлогубые, но без негритянского выворота, нет и китайско-японских корявых женских фигур. Скорее всего, в крови красавиц доминируют индейцы с испанцами. Плюс климат хороший. Круглый год – 25. Ничего не надо делать. Плюнь, и в том месте, куда попал, начинает расти дерево. Разные живые символы у разных стран и в разных городах. В Берлине – медведь, в Испании сейчас вроде как бык. У них, в Венесуэле, попугай – ничего себе символ, обалдеть можно! И еще у них есть помимо роскошных девушек и попугая на гербе – нефть. Благодаря ей они в тот год, когда мы туда приехали, были богатые. Сказать богатые – не точно. Они тогда были очень богатые. Они жили на бочке с нефтью. Я впервые в жизни увидел: бензин может стоить дешевле, чем вода. Так не бывает! Я смотрел, не отрываясь, на доску с ценами, там хотя в галлонах, но все равно, как ни складывал и ни делил: три цента – дешевле, чем вода.
Перед началом выступлений проходит репетиция для переводчицы, ведь ей предстоит на спектакле работать синхронно. Переводчица – актриса. Причем довольно популярная в Венесуэле. Она много снималась, но попала в автоаварию. Вся страна за нее переживала, популярность у нее бешеная, с нее начались местные сериалы, она все главные роли в них играла. Актриса, грубо говоря, уже не девочка, но буквально возродилась после катастрофы. Я не знаю, как она восстанавливалась, но ходит – не хромает, в прекрасной форме, правда, вроде не снимается. Все это происходило в середине 90-х.
Мы персонально для нее играем, а перед ней уже лежит переведенная пьеса, по которой она должна сопоставить языковые различия. Она же должна не просто переводить, а озвучивать нас. При этом еще и интонации зрителю в уши вложить. Актриса по происхождению русская, но никогда не жила в России. Но оттого, что она по-актерски талантлива, то есть музыкальна, умеет подражать и запоминать, она свободно, почти без акцента говорит по-русски. По ее словам, язык она выучила и всего пару раз побывала в России. Чудес не бывает, вероятно, ее бабушка тоже чему-то внучку учила…
Что она в тот день видит? На сцене за столом сидят всего два человека, а, поскольку репетиция для переводчицы, мы, естественно, помня, что вечером спектакль, себя экономим, не работаем на выхлесте, на полную катушку, чтобы зря нервы не тратить. По мизансценам осваиваем площадку, это тоже закон: всегда при выезде на гастроли обязательно полагается провести репетицию по освоению площадки. Каждая площадка индивидуальна, здесь, например, она значительно меньше нашей московской. Оттого меняются местами выходы, ты появляешься на сцене не из правой кулисы, предположим, а почти по центру.
Итак, венесуэльская звезда смотрит: два каких-то русских артиста сидят и что-то себе под нос бурчат.
Она не интересуется русским театром, наши фамилии ей по фигу. Мы тоже удивлялись, как она в такой важный момент успевает не только курить, но даже что-то там выпить. Ноги у нее на спинке сиденья переднего ряда. Она вяло заглядывает в текст пьесы, а иногда и не заглядывает. Думаем: «Что мы для нее стараемся?» А у нее, вероятно, ощущения: я все слышу, я все понимаю, о чем они говорят, переведу это без напряжения хоть сто раз.
Начинается спектакль, я чувствую, она неточно переводит. Не там, где полагается, реакция зрителей или не такая, как должна быть. О, вдруг попала! Потом опять не очень. Но бывали моменты, когда публика замирала, вероятно, на нее действовала сила той самой русской души, о которой я уже говорил, а душа имеет еще и завораживающее качество… вдруг люди вообще сняли наушники и стали просто смотреть. Потом начали рыдать, и наконец – зал встал! Чумовая овация, происходило что-то явно ненормальное. В этот вечер переводчица постеснялась прийти к нам за кулисы. Думаю, она поняла, что недооценила пьесу, недооценила русских артистов и таким отношением к делу слегка об…ла и себя, и нас. Только после третьего спектакля она пришла к нам с цветами. Пришла в слезах, просила прощения, говорила, что таких актеров она не видела никогда в жизни. Актеров такого масштаба, такой силы, такой глубины, такого темперамента.
Венесуэла все же особая страна. Складывается впечатление, что ее население делится на две категории. Те, которые хоть как-то палец о палец ударяют – мультимиллионеры. А те, которым лень руку для этого поднять, – бомжи. То есть не имеют ничего. Причем там вокруг города целые поселения бомжей, куда полицейские даже не заходят. У них в хибаре может стоять телевизор самой последней марки, с экраном в полтора метра. Трущобы выстраиваются в бесконечную цепочку, одна к другой липнет. Естественно, наркомания. Естественно, все воруют. И мастерство воров крайне высокое. Жара может быть не больше, чем 25 градусов по Цельсию, но солнце очень опасное, страна расположена близко к экватору. Центральная Америка. Оттого, если солнышко в зените на тебя попадает, мало не покажется. Нас с Инной пригласил к себе российский посол, и мы два дня у него отдыхали на даче на берегу океана. Дача – это не вилла, а апартаменты в каком-то пансионате. И всего в часе езды от Каракаса. А в городе мы жили в роскошном отеле, в нем и так все было очень здорово, но еще работала служба фестиваля, которая нас обслуживала. Насчет солнышка. Мы приехали в посольские апартаменты и сразу пошли купаться. Я на пляже растянулся на спине и заснул. Инна сперва меня чем-то укрыла, потом меня даже куда-то перетащили. Вечером общий стон: «Ты сгорел!» Хотя я никогда не обгорал, даже часами находясь на солнце.
Каждый вечер мы ужинали в разных местах, потом, по традиции, ко мне заходил Давид Яковлевич Смелянский. Эта фигура играет ключевую роль в спектаклях «Sorry» и «Чешское фото», именно он – продюсер этих спектаклей. И в отличие от всех остальных работников нашего театра, два артиста, которые выходят в спектакле «Sorry» на сцену «Ленкома», получают иную зарплату. У нас в театре введена система баллов. Их присуждают за число выходов на сцену и в зависимости от значимости роли. Каждая роль оценивается определенным числом баллов. Если ты в спектакле еще и поешь, то небольшая надбавка. Если танцуешь – надбавка. В «Sorry» же мы получаем процент от сбора. Как я понимаю, прибыль от представления делится между театральным агентством Смелянского и театром «Ленком». Никаких иных подробностей об их финансовых соглашениях я не знаю, но мне и не полагается это знать.
«Sorry» – начало настоящего продюсерства у нас в стране. Спектакль вышел чуть раньше «Игроков» во МХАТе, поставленных на аналогичных финансовых условиях. Спектакль, где играли Юрский, Невинный, Гена Хазанов, Евстигнеев, царство ему небесное! Ставил пьесу, если не ошибаюсь, Юрский. Когда умер Евстигнеев, его роль он взял себе. По-моему, Давид Смелянский, ныне самый знаменитый в России театральный продюсер, с «Sorry» и «Игроков» и начинал. Сегодня он преподает на факультете менеджеров в ГИТИСе, он профессор, масштаб его деятельности от представления на Красной площади (поставленного Кончаловским на юбилей Москвы) до опер, которые ставит и которыми дирижирует Ростропович. Наверное, Давид Яковлевич продюсировал уже десятки, если не сотни постановок, но все же начинал он с «Sorry». С первого дня знакомства у нас установились очень добрые отношения. В Венесуэле мы их закрепили навсегда. Там мы не расставались, встречались на вечер, а получалось – на всю ночь. Давид Яковлевич приходил ко мне в номер, и мы чуть ли не до рассвета сидели и разговаривали. Это даже стало традицией. Спектакль сыгран, все спокойно, расходимся, но я спрашиваю: «Давид, а традиции?» Он в ответ: «Коля, иду». Мы сидели до первых венесуэльских петухов. Он рассказывал мне о своей жизни, и я с ним делился своими радостями и горестями. Для меня Давид – не просто продюсер нашего спектакля, не просто человек, который вкладывает деньги и дает зарабатывать артистам. Прежде всего он друг, что особенно приятно.
Спектакль «Sorry» – вроде не совсем спектакль нашего театра. Ленкомовский он, во всяком случае, лишь наполовину. Поэтому, когда театр едет на гастроли с любым спектаклем, неважно – «Фигаро», «Чайка», «Юнона», это звон на весь мир. Это значит, все рецензии, которые в этой местности выходят, вывешиваются в служебном вестибюле «Ленкома» и читаются всеми артистами и службами. «Sorry» в такой помпе не нуждается, а мы с Инной все равно переживаем: «Что ж такое делается? Мы так здорово прошли, о нас писали, хотя бы что-нибудь на стенку повесили. В конце концов, рецензии на нас мог бы и Давид Яковлевич собирать». Он болеет за спектакль, он его держит, он за него готов, я не знаю, жизнь положить, но не очень ему удобно, вероятно, заниматься этим звоном. Идет спектакль хорошо? Замечательно. Аншлаги собирает? Собирает. Зритель восторженно уходит? Уходит. Что же еще надо?
Я понимаю, что и этот спектакль, как любой другой, не вечен. Смешно сказать, но нам с Инной Михайловной Чуриковой кажется, что спектакль в качестве растет. Мы не устали его играть. Нет ни одного выхода, который бы получился похожим на другие. Иметь партнером такую актрису, как Чурикова, – уже чудо. Я не говорю о том, что она органически не позволяет себе сыграть «в полноги» хотя бы маленький кусочек. Нет, она всегда на пределе сил, до самого конца. И настолько разнообразна у Чуриковой актерская палитра, что даже в течение маленькой сцены представления, сыгранного сотни раз, могут родиться совершенно неожиданные повороты, интонации, импровизационные ходы. Она мне в любой момент может задать маленькую задачку, на которую я должен в полсекунды дать ответ. Иногда, когда мы оба находимся в идеальном актерском режиме, могут выискиваться какие-то удивительные, очень тонкие, сумасшедшие ходы, которые уносят нас куда-то в выси неоглядные. Это и есть то самое, очень редкое состояние, что можно назвать актерским счастьем, хотя я не знаю, что означает слово «счастье» в русском языке. Оно для меня необыкновенно объемное и очень неконкретное. Но если поставить его в каких-то скобках, но не в кавычках, нет – это, наверное, то самое, ради чего стоит заниматься нашей профессией. Объяснить подобное состояние можно только приземленно, например, через мой любимый теннис. Мой организм испытывает восторг, если я идеально попаду по мячу. Такой восторг, что мне может даже ночью присниться, как я слева соперника обвел. Здесь, конечно, в сто раз серьезнее, здесь восторг от моей профессии, а она моя боль, моя жизнь. И, когда выискиваются в старом спектакле какие-то новые необыкновенные вещи, я бесконечно благодарен Иннусику за то, что она может мне такое удовольствие подарить.
Мне в жизни повезло с партнерами. Но на первом месте из тех, с кем я выходил на сцену, всегда будет стоять Инна Чурикова.
Инна и Глеб
Не помню точно, в каком году мы познакомились, но впечатление, что с Инной Михайловной мы всю жизнь дружим семьями. Началась наша дружба с «Тиля», с ее прихода в театр. Захаров ее пригласил, увидев в ней Неле. К тому времени Чурикова уже довольно мощно заявила о себе в двух картинах у Глеба Панфилова: «В огне брода нет» и «Начало». Инна дала согласие Марку Анатольевичу, пришла в театр, и с той поры мы дружим семьями, домами, дачами, собаками, поездками. У нас дети родились с разницей в две недели. Я помню, как мы с Людой, молодые, пришли к ним в гости. Глеб уехал куда-то, и мы просидели с Инной всю ночь. Слушали музыку Вивальди. Утром я их собаку выводил гулять. Не подсчитать, сколько за эти годы переговорено, сколько всего обсуждено и осуждено.
У нас с самого начала возник контакт, хотя Инна – непростой человек. Она работяга, она не позволит себе расслабиться даже на репетиции. Всегда выкладывается до отказа, всегда навыхлест, всегда на полную катушку. Не помню совместного выступления, чтобы у нее не работал на пределе нервный аппарат. Такое, естественно, подстегивает всех партнеров, и я – не исключение. Ответ же складывается по тому, с какой силой послан партнером импульс.
Я находился в Казахстане, когда по одному из российских каналов показывали мою первую картину «Одиножды один». Позвонила Инна: «Ты там такой молоденький». А я сидел в гостинице, смотрел и видел ошибку на ошибке: здесь неверно сыграл, здесь неточно, здесь передавил, здесь недобрал. Она же при всем своем профессионализме смотрела на меня не как на артиста, не как на персонаж, а как на друга. Я благодарю Бога, судьбу, жизнь, что так она сложилась, что мы до сих пор в очень близких отношениях.
Однажды Инна сказала: «Глеб нашел пьесу и хочет поставить ее на нас с тобой». Панфилов пригласил меня на «Мосфильм», а не домой, вероятно, чтобы встреча получила с самого начала статус серьезного мероприятия и определенного ранжира во взаимоотношениях.
Поговорим, мол, исключительно о работе. Я приехал на киностудию. И там, в кабинете, он дал мне почитать пьесу, при этом заметив, что его в принципе на тот момент современная тема не интересует совершенно, поскольку у него в голове только «Венценосная семья». Но все же добавил: «Я прочитал пьесу, и она меня невероятно увлекла, роскошная роль, ее можно сделать очень интересно, ты такого еще не играл».
Я принес пьесу домой, но так дальше сложилось, что я много мотался и никак не находил время на чтение, Люда, по-моему, даже раньше меня ознакомилась с текстом. Глеб – человек обидчивый, а тут такое неуважение: «Как так, я артисту предлагаю отличную роль, а он все не звонит и не звонит. Ему что, пьеса не понравилась?» А я не звонил только потому, что никак не мог до нее добраться. Наконец выкроил время, прочитал и тут же позвонил Глебу – все замечательно.
Автор «Sоrry» – Александр Галин. Как автора я Галина знал, но лично с Сашей не был тогда знаком. Начали репетировать. После Марка Анатольевича процесс выглядел непривычно, потому что манера репетиций Глеба Анатольевича абсолютно другая. Театральный опыт у него имелся, в нашем театре Панфилов поставил «Гамлета».
Правда, тот опыт получился не совсем удачным. Помню, как мы с Инной что-то пытаемся сложить, он сидит, читает газету. Она спрашивает: «Глеб, ты что делаешь, мы же работаем?» Глеб ей отвечает: «А чего мне с вами репетировать? Вы не готовы». То есть по его киношной привычке надо, чтобы мы с первой репетиции текст знали назубок. Я прежде никогда так в театре не работал, и если в кино моментальное включение действительно необходимо, то в театре обычно идет более длительный процесс, а некоторые артисты чуть ли не до дня премьеры говорят вроде как полусвоими словами. Требуется много времени, чтобы пропустить через себя смысл, заложенный в тексте.
Я сам никогда не вызубриваю текст. Мой организм запоминает ходы, поступки, внутренний мир персонажа. А затем происходит нечто поразительное, когда вместо моей привычной речи с моего языка, как родные, начинают слетать слова автора. Хорошо, если это Шекспир или Чехов… или даже Галин, но все равно роль я никогда наизусть не учу, нет момента зубрежки.
Существует этюдный метод Эфроса. Разыгрывается ситуация, а затем идет разбор: про что этот кусок, о чем эта сцена? Мнений может быть очень много, вплоть до полярных. Вроде один человек написал, десять прочитали, но каждый увидел сюжет или характеры героев по-своему.
Потом выясняется, что режиссер все давно уже для себя решил. И если он убеждает актеров, а чаще всего убеждает, те должны попытаться выполнить его условия. Разыграть уже его, а не свою коллизию. Пускай своими приемами. А мизансцены – куда ноги потянут. Но прежде всего предлагается попробовать подстроить роль под себя.
В этом долгом процессе есть свое начало, так называемый застольный период, когда пьеса сперва разыгрывается за столом: проигрывается по фрагментам, проходится по тексту. Мы сперва ее просто вслух читаем, потом отставляем текст, начинаем его повторять своими словами. Тупая зубрежка всегда видна. «Мороз и солнце, день…» Ни мороза, ни солнца, ни черта не получится, я их не нарисовал. Все совсем иначе должно происходить, чтобы зритель понял: «день чудесный». Самое трудное, чтобы нужные слова возникали в тебе сию секунду, возникали именно те, которые нужны, зритель должен думать: он свидетель, они родились у него на глазах, более того – не могли не родиться! Так возникает правда духа человеческого.
Глеб Анатольевич меня поразил своим умением разгадывать глубинные и тонкие нюансы человеческого характера. Оставалось лишь удивляться, откуда он их так точно знает? Пользуясь нашей многолетней дружбой, я устраивал с ним страшные споры. Да, я себе позволял с ним спорить так, как с другим режиссером, вероятнее всего, и не подумал бы. А тут, поскольку я считал, что мы с ним говорим на одном языке, споры иногда переходили грани приличий.
Мне очень нравится финал спектакля. Когда мы с Инной потихонечку с горя начинаем напиваться. И с каждой рюмкой растет и растет масштаб трагедии. Она приобретает невероятный объем. Происходит не просто милое, трогательное мелодраматическое расставание, а драма двух раздавленных социальными условностями несчастных и красивых людей. Но если бы кто-нибудь видел, как я сцепился с Глебом из-за этого финала. Идея так заканчивать действие была исключительно его. Инна во всех спорах почти всегда, если не всегда, принимала мою сторону. И не в силу солидарности актерского клана, а так само по себе складывалось. Мы пробовали выходить на окончание без выпивки. Трезво. И нам самим это так нравилось, казалось, наша сцена выглядит так трогательно. Мы оба садились на чемоданы и грустили…
Я даже что-то показывал, дабы разубедить режиссера. Я говорил: «Ты хочешь так?» И начинал утрированно изображать пьянчугу, чтобы он понял абсурдность и кошмар своего предложения. Говорил: «Мы уважаем тебя и не хотим подставлять!» Он в ответ: «Гениально! Именно так и надо». Был момент, когда я ему прямо сказал: «Если бы ты у меня снимался, я бы тебя давным-давно с роли снял. Точнее, я бы тебя никогда и не приглашал». Ну, в общем, доходили до «а-а-а»… Но режиссер стоял как скала.
Все равно он – мой Глебушка, я его безумно люблю. Но он очень непростой человек. Удивительный, порядочный, талантливый, умный. Очень глубокий и очень цельный. Со своей жизненной позицией, которую он никогда не предает, что мне в нем тоже не может не нравиться. При всем при том Глеб Анатольевич жесткий человек.
Мы выпивали с ним не раз. Он всегда очень сдержанно относился к приему алкогольных напитков, за рулем это вообще исключено. Был день рождения сына Глеба и Инны. К нему в гости пришел мой Андрюша, ребятам тогда стукнуло лет по тринадцать-четырнадцать. Семья Панфиловых жила на Университетском проспекте, а Андрюшка – у бабушки с дедушкой, на проспекте Вернадского, по московским меркам недалеко. И вечером, когда праздник закончился, наш сын собрался возвращаться к бабушке. Вдруг Глеб вскочил, спустился вниз, завел машину, и, будучи слегка нетрезвым, вопреки своим принципам, повез Андрея. Я ему потом по телефону кричал: «Ты с ума сошел!» Он в ответ: «Это ты с ума сошел. Это твой сын! Мало ли… вечер, поздно, он один». В этом весь Глеб, знаменитый российский режиссер.
Панфилов – совершенно фантастическая фигура в нашем деле. Работа над «Sorry» шла очень долго и очень дотошно. Мы радовались открытиям. Как мы прыгали все трое, когда вдруг поняли: «Да это же про любовь спектакль! Не про эмиграцию, не про ностальгию, а только про любовь!» И совсем неважно, какая придумана заграница, куда и откуда эмиграция. Чушь это все собачья! Это лишь повод, фон. А главное – есть два человека, которые друг без друга жить минуты не могут, и смотри – двадцать лет в разлуке провели. Какой удар они перенесли при первом расставании, а сейчас опять разлетятся! Вернется он – не вернется? Да хрен его знает, как жизнь сложится. Скорее всего – нет, потому что слаб духом. Сколько мы вокруг всего этого понаговорили, нафантазировали.
Наконец пришел день сдачи спектакля. Малая сцена, мало зрителей. Тогда у театра еще имелась малая сцена. Уже к премьере Глеб потребовал десять дней репетиций и чтобы театр на это время снял все спектакли – нам полагалось освоить большую сцену. Одно дело, когда на ней сорок человек занято, а тут всего двое. Но театр пошел навстречу Глебу Анатольевичу. И десять дней в «Ленкоме» не шло ни одного представления.
Без замены
У меня так трудно все начиналось, что к любым комплиментам я отношусь спокойно. Одна только история, как меня утверждали на роль в «Старшем сыне»… Но этот фильм открыл мне двери для последующих работ у самых разных режиссеров. Так у меня появились в кино роли, требующие серьезной психологической разработки. Правда, кто-то, посмотрев «Собаку на сене», сделал вывод, что Караченцову полагается играть только комедийные роли.
И у этой роли была предыстория работы с Женей Гинзбургом – автором сверхпопулярной в то время телевизионной программы «Бенефис». У него тогда на телевидении мощно выглядела передача «Волшебный фонарь», снимаемая как шоу (слово в те времена ругательное). Своим «Волшебным фонарем» Гинзбург дал толчок моим музыкальным, танцевальным, пластическим работам. Так складывался широкий спектр всего того, что я наиграл. То роль обыкновенная, то вдруг озорная, то неожиданно очень серьезная.
Детскую картину «Приключения Электроника» показывают по телевидению раз в три месяца. Нет, наверное, ребенка в стране, который ее не видел. Потом они уже смотрят всякие страшилки, триллеры, все что угодно, но поначалу проходят все же через «Электроника». А кто-то с детства запомнил совсем другую работу, предположим, «Белые росы»… Но запомнили меня с середины семидесятых. Надеюсь, навсегда.
Помню, когда мы репетировали «Тиля», я очень дергался, боялся, что меня заменят, вокруг шептались: рано или поздно на главную роль Захаров пригласит Андрея Миронова, они же с Марком друзья. Наконец спектакль вышел со мной, причем без дублера, и то ли Захаров мне сам сказал, то ли кто-то передал, будто он Андрюшу спросил: «А ты так бы смог?» Разумеется, Миронов смог бы, и не только так, но получился бы совсем другой образ, другой спектакль.
Никакой замены за семнадцать лет у меня в «Тиле» не произошло. Никогда. Впрочем, я сам спустя годы стал просить Марка Анатольевича найти мне замену, поскольку мне казалось, что я образ перерос. Я по-прежнему прыгал по сцене козлом, мне по-прежнему не составляло физических усилий прокрутить любой кульбит, но делать все это полагалось пацану, а я уже что-то в жизни пережил, я уже сам себя по-другому видел. Джульетте и Ромео не может быть по сороковнику. Такой вот получился разворот.
Идет пролог, рождается Тиль, и папаша Кларенс, мой «отец», спрашивает: кем ты будешь, Тиль? Живописцем, музыкантом, художником, дворянином, кем угодно, только не монахом.
Тут моя первая реплика в спектакле. Вместо этого я говорю:
– Марк Анатольевич, когда папа спрашивает, кем ты будешь, Тиль, мне хочется ответить: «Папаня, уже поздно начинать учиться».
Захаров мне в ответ:
– Вы, Николай Петрович, доживете до лысины, седины, палочки, но будете у меня играть Тиля.
Я его уговаривал. Я его убеждал:
– Если вы хотите, чтобы жизнь этого спектакля длилась долго, надо менять не только актера, играющего Тиля, но и всю обойму основных ролей: Катлину, папашу, Неле.
Захаров ввел молодого парня на роль Тиля и девочку на роль Неле. Я принимал непосредственное участие в этом вводе, помогал молодым, занимался с ними дотошно, скрупулезно, старался все рассказать, ничего не пропуская. Они сыграли несколько раз, но все равно, хотя подобное отдает зазнайством, мне все чаще звонили: «Коля, Марк Анатольевич велит, чтоб ты был готов завтра, кто-то из важных гостей приходит на спектакль». И я опять напяливал на себя костюм Тиля. Оказалось, что эту роль передать нельзя.
А потом сгорели все мужские костюмы. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Из репертуара сняли спектакль «Тиль». Костюмы для «Sorry» тоже сгорели, но там смокинг пропал, а не фламандский костюм XVI века. У меня тогда еще свой смокинг не завелся. Но даже если б он был, есть негласный закон «в своем не играть», все равно ты на сцене должен быть в сценическом костюме. А откуда такое правило – черт его знает? Тем более что даже самый элегантный наряд всегда носит налет костюмерной. А самые обычные брюки тут же приобретают вид реквизита. Одним словом, неживые. Существует в театре время, которое так и называется – «обживать» костюм. Чтобы выглядел своим. Однажды я принес какую-то свою ковбойку, по-моему, в «Жестокие игры». Но это – единственный пример. И только для этого спектакля, и только для этой роли. В кино, наоборот, сниматься в своем очень распространено. Я в половине картин снимался в родной одежде. Лучше сидит, более ко мне прилипла, она естественная, не отвлекает, нет давящих воротников и нет накрахмаленных рубашек.
Был жуткий момент в начале работы над Тилем, когда появился в зале на репетиции какой-то длинноволосый парень. Сидит, смотрит. Может, будущий исполнитель Тиля? Может, Марк нового актера пригласил? Потом выяснилось, что это Валя Манохин, постановщик танцев. А я уже напрягся. Тем более что Захаров делал мне миллион замечаний. Я их пытался судорожно запомнить, судорожно выполнить. Вдруг он вообще перестал меня замечать. Он про меня забыл! Всем делает замечания, а я себе хожу, то так сделаю, то сяк – никакой реакции, работа идет и идет. Потом до меня дошло: Марк Анатольевич сильно меня загрузил вначале, а потом дал возможность, чтобы этот коктейль во мне разболтался, растворился, а на такое необходим определенный временной период.
Когда я перестал бояться, что меня могут заменить? Да, я дергался, что на «Тиля» придет Миронов. Но на «Юноне» я уже не думал, что может появиться другой Резанов. Хотя подобный страх живет в артисте постоянно. В принципе, такая потенциальная опасность есть всегда, ведь любая новая роль – это белый лист, а вдруг не получилось? Нередко роль распределяют на двух исполнителей. Нередко случается и так, что в дальнейшем они оба играют в очередь, но все равно есть суждение, пусть негласное, что один из них входит в первый состав, а другой – во второй. Иногда складываются равные составы. Артисты играют в прямую очередь, то есть через раз. Но все чаще – через два, через три, все же отдается предпочтение одному исполнителю. Есть примеры, когда в процессе репетиций один просто уходит, так и не дойдя с этой ролью до зрителя.
Когда мы репетировали спектакль «Школа для эмигрантов», то изначально на него заявили четырех артистов. На одну роль – Абдулов, Янковский, на другую – Збруев, Караченцов. В процессе репетиций мы менялись в сочетаниях, но, когда подошло время выпуска спектакля, составы определились четко. Один – Абдулов и Збруев, другой – Янковский и Караченцов. На тот момент не существовал ни первый, ни второй состав. Два равных. И не было никогда ни у кого превосходства в числе спектаклей, за исключением тех случаев, когда мы сами договаривались с дирекцией: мне нужно на съемку, я прошу выручить, подменить, Саша за меня сыграет или наоборот. Иногда менялись целиком составами: вы, ребята, сыграйте два подряд, потом мы тоже два раза подряд отработаем. Но, в принципе, очередь действовала абсолютно четко. Мы играли первый, премьерный спектакль, на вторую премьеру выходили уже они.
Премьера «Тиля» состоялась поздней весной семьдесят четвертого, нет, уже наступило лето. Не помню. Шоковое событие по тем временам для Москвы. Я боюсь брать на себя смелость, история сама все оценит по справедливости, но, на мой взгляд, лучше спектакля в «Ленкоме» не было. Во всяком случае, пока.
Мне сразу возразят: «А «Юнона»? «Но «Юнона» – произведение, крайне выделенное жанром. Поскольку в жизни люди не поют, то в соперничающем с «Юноной» спектакле спектр выразительных средств и красок резко сокращается.
Зато в «Юноне» нельзя что-то подвинуть, изменить какие-то сцены. В «Юноне» нельзя пошутить. А в любом драматическом спектакле, даже трагедийном, шутка всегда рядом. И чем больше мы будем оттягиваться, как в «Тиле», тем острее драма. В «Юноне» такое немыслимо. Плюс музыка – она железно встроена в действие. Я не могу затянуть паузу чуть больше, чем нужно или как мне хотелось бы сегодня, а завтра – по-другому. Я полностью ограничен, взят «в рамки». Вступление, четыре такта – и давай, пошел, никуда не деться. Другое дело, что, слава Богу (стучу по дереву), почти не случается, что я что-нибудь забуду! Мы же живые люди. Музыканты тут же меня «поймают», если я сбился. Я в них уверен.
«Юнона» вообще – что-то другое. Не обычное театральное представление. Здесь Боженька поцеловал сразу всех вместе, и все звезды сошлись, что случается раз за судьбу. Наверное, «Юнона» – это великое событие в театре, стоящее отдельно, хотя бы потому, что оно передается от пап и мам детям.
Тем не менее как драматический спектакль масштабнее, наверное, «Тиль». «Тиль» нигде и никем не снят на пленку. «Тиля» помнит только то поколение, что его видело. О «Тиле» почти ничего не написано, поскольку вовсю нам светила советская власть. «Тиля» мы сдавали семь раз. В конце спектакля я оживал, поворачивался спиной к зрителям, наклонялся и не только язык показывал, но и, грубо говоря, ж…у. Два часа Захаров эту ж…у отстаивал. Ему возражали: «А если кто-нибудь из важных гостей нашей страны придет в театр, вы представляете, кому артист зад показывает? А если вдруг из Политбюро или из ЦК попросят билеты?» А вокруг «Ленкома» – сумасшествие, милиция, как на футболе. Правда, и «Юнону» приходилось охранять милицией, и на нее ломали двери и вносили зрителей с толпой, можно было даже не перебирать ногами.
К сожалению, в истории советского театра «Тиль» не будет так отмечен, как «Юнона». И все из-за того, что он не снят на пленку. А по значимости он не меньше, если не больше, чем «Юнона».
Честно говоря, тема «Юнона» или «Тиль» – скользкая. Марк Анатольевич может немножко подобидеться, потому что он ушел вперед, он сделал прекрасные спектакли. Они пользовались громадным успехом – «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Варвар и еретик», не говоря уже о «Шуте Балакиреве». Но для меня во всех последующих его спектаклях видны самоповторы – и это повторы из «Тиля». По приемам, по ходам. Хотя, с другой стороны, их можно назвать и почерком мастера. «Тиль» – я убежден – этап в истории советского, российского театра. «Тиль» в принципе – новое слово на драматической сцене. У Захарова как-то спрашивали, что он проповедует. Он назвал термин «фантастический реализм». Откуда он его взял?