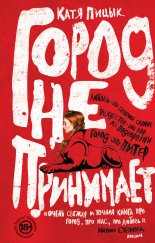Я не ушел Караченцов Николай

Я до сих пор боюсь поссориться с Марком Анатольевичем, но потенциально ссора между нами всегда висит, мы ведь в одной упряжке работаем, даже когда я репетирую не с ним. Если мы по-разному будем воспринимать решение роли, подобные несоответствия могут достигнуть взаимного неприятия, больше того – перерастут если не в скандал, то по крайней мере в напряженные отношения. Значит, меня снимут с роли, или я сам с нее уйду. Такая возможность существует всегда.
В «Юноне», в отличие от «Тиля», я более или менее знал расклад. Понимал: чтобы заменить меня, надо Мишу Боярского выписывать из Питера, потому что на тот день, что выпускали «Юнону», а шел восемьдесят первый год, в стране не так-то много существовало поющих актеров моего возраста, – тех, что с лету могли бы войти в спектакль.
Спасение Ивана
Я, несмотря на то что театр стал пустеть, а зрители перестали ходить в «Ленком», все равно верил, что все будет хорошо. Верил в профессию, в себя. Как выяснилось, верил не зря. Но если вспоминать то золотое студенческое время… Будущий «враг СССР» Андрей Донатович Синявский преподавал нам русскую литературу. Он не любил Горького и привил эту нелюбовь и нам, притом что МХАТ носил имя Алексея Максимовича. Синявский обожал Бунина. Диссидентское начало существовало везде, оно буквально было разлито в воздухе. То время сегодня молодым представить не то что трудно – невозможно. Человек, поэт по профессии, собирал стадион слушателей! Сегодня такое исключено. Сегодня на улице не смогут назвать ни одного современного поэта, если он не рок-певец – Шевчук или Гребенщиков. А тогда массы, именно массы знали имена Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулиной, Окуджавы – если продолжать, большой список получится. Но происходило и то, чего я не понимал. Как Евтушенко собирал такие же стадионы в Австралии или в Соединенных Штатах Америки, где читал стихи на русском языке? Он же не сочиняет по-английски. Может, эпоха 60-х, эпоха послевоенных годов, была эпохой поэтической?
К нам в студенческое общежитие приходил молоденький Сережа Никитин, сам, наверное, этого не помнит, пел песни бардов. Их тогда, правда, так не называли. Атмосфера поэзии и авторской песни. Лет пятнадцать назад я спросил одну девочку-студентку: что происходит в Школе-студии МХАТ? Она в ответ: «Я не знаю, я не так часто туда хожу, там не очень-то интересно». Что значит, не так часто хожу?! В наше время в школу-студию стремились так, что путали время, приходили на час раньше, удивляясь, почему еще закрыто.
Самый яркий пример атмосферы тех годов, и сравнение это не притянутое, – полет Гагарина, и общий восторг, слезы, ликование, его выход из самолета. У каждого общее и личное ощущение времени. У меня – спор о «Цыганочке» с Володей Высоцким на лестнице в школе-студии – личное, Гагарин – общее. Потом, когда Гагарин погиб, я помню, как рыдала заведующая костюмерным цехом, пожилая женщина Наталья Дмитриевна Бурлакова. Потому что Гагариным жили, этим гордились. Его уход – конец эпохи романтиков.
При той атмосфере я мог гулять по Москве бесконечно, днем и ночью. Не боялся, что нарвусь на неприятности. Хотя мог напороться и на кулак, и даже на нож, но надо отметить, что такое полагалось очень сильно «выпросить». Дрались. Да, дрались. Дрались довольно много. Но именно дрались, а не убивали друг друга: только до первой крови. Но чтобы забивать до смерти? Не помню такого зверства.
Я жил, когда поступил в школу-студию, у метро «Войковская». Там мама купила первую кооперативную квартиру. Потом она вступила в кооператив ВТО в центре, на улице Герцена. Мама долго ждала, когда он будет построен, и жила там до своего конца, но уже без меня. Поскольку «Войковская» считалась не ближним светом, я часто пользовался таким приемом. Я останавливал такси, где сидел народ, причем выискивал такое, чтобы оставалось только одно местечко, и спрашивал: «По пути без денег подкинете?» Меня подкидывали. Иногда те, кто платил, выходили из машины раньше, и водила у меня спрашивал: «Тебе далеко?» Я: «Бульвар матроса Железняка». Водитель: «Ложись на заднее сиденье, чтобы милиция не видела, что у меня кто-то едет, я включу зеленый огонек». Я научился по крышам домов определять: «Сейчас направо крути, сейчас – налево». Это моя молодость. Но это была и норма взаимоотношений между людьми. Метро – особая часть моей жизни, прошедшая под знаком «успеть на последний поезд». Не успел, а денег нет, и как до дома добраться? А завтра с утра в школу-студию, и хорошо бы хоть несколько часов поспать.
У нас учились разные люди. Некоторые, как я, – сразу после школы, а некоторые стали студентами уже после армии и рабочего стажа. Были и те, кто успел в другом институте пару курсов поучиться. Один из таких, прошедший сперва через технический вуз, следовательно, с аналитическими мозгами, взял и просчитал, что если все, что нам задано по литературе, прочитать хотя бы со скоростью страница в минуту, то надо года четыре только сидеть над книгами, к тому же не спать и не есть. Он, естественно, задавался вопросом: «А зачем нам тогда вообще такой ерундой заниматься?»
Это было время, когда стали появляться мини-юбки. О, как они волновали душу, кровь и тело! Мы же носили брюки клеш. Джинсы считались событием. Мечта – непонятного происхождения «Супер Райфл» из магазина «Березка». Сколько они там стоили, я уж не помню. Как называлось то, на что их продавали? Чеки. Чеки серии «Д». Считалось, что только привилегированные советские люди их имели. Но «привилегированных» в «Березках» была туча. И там стояли очереди, и там, как и везде, составляли на улице списки, чтобы просто войти внутрь. Но зато какое счастье выйти из «Березки» с пакетом, а в нем запечатанные в полиэтилен джинсы! Будь здоров, какое событие!
А как ухаживали в конце шестидесятых, и какие у нас случались трагедии! На четвертом курсе мне понравилась девочка, а ведь живет она в другой стране. Что означает расставание, причем навсегда. Случилась небольшая трагедия, девочка уехала к себе, но жизнь продолжается.
В конце учебы мы частью курса поехали по обмену в Чехословакию, в Прагу. Для меня уже не в первую заграничную поездку. Я же прежде к маме в Монголию и Вьетнам ездил. Принимали нас фантастически. Мы маленько растерялись, сможем ли соответствовать? По соглашению через какое-то время они к нам должны были приехать. Зато отъезжали с необыкновенной гордостью, поскольку произвели убийственный эффект на противоположный пол, местные девушки искренне считали, что все русские артисты гениальны, включая студентов.
…Я стоял на мосту, подо мной – их речка, Влтава. Под мышками – две студентки, одна чешка, другая словачка, я им читал стихи. Они в три ручья рыдали, твердя: «О, русская душа!» А меня несло. Я хваткий к языкам, слух хороший. И через пару дней одной девочке ответил по-чешски, причем точно в масть попал, сказал именно то, что нужно, причем без акцента, а так не бывает.
…Через полгода они приехали к нам. Если у них мы жили в общежитии, то они у нас – в гостинице.
Я в той гостинице не один раз ночевал, роман закрутился фантастический. Более того, я ту девочку даже привел к маме знакомиться. Я знал, что за ней ухаживает чешский парень, знал, что вызываю в его душе дикую ревность. Он психовал. Он орал на нее. Но со мной все равно братание, плюс выпивание в немереном количестве. Парня назвали русским именем Иван, в честь нашей победы, он родился в сорок пятом, его отец был известный в стране поэт. Мы сидели с ним большей частью в ВТО, тогда там давали выпить в долг. Обедать же ходили в пирожковую или в пельменную. Пельменные, аж две, расположились у нас в проезде Художественного театра. У нас, правда, еще и столовка внизу имелась, прямо в школе-студии. Но она была открыта и для людей с улицы. Хотя студенты в ней обслуживались без очереди. Я покупал за восемь копеек гарнир в виде синего пюре, за три копейки чай и кусок хлеба, а тетечка-повариха мне в гарнир, втихаря, потому что я худой был – смотреть страшно, заталкивала котлету так, чтобы никто не видел.
Мы очень дружили, весь курс без исключения. Но сложилась еще и неразлучная четверка: Женя Киндинов, Боря Чунаев, Коля Малюченко, ныне проживающий в Нижнем Новгороде, и я. Каждый вечер, на это у нас хватало денег, мы брали поллитру на четверых. И один сырок. С таким гастрономическим набором сидели в садике на Петровке, обсуждали искусство. Мы безостановочно говорили о своей профессии, о театре, мы не уставали на эту тему рассуждать. По молодости мы искренне считали, что все умеем, все понимаем и необыкновенно талантливы…
…Когда они уезжали, я повел Ивана и еще одного чеха в ресторан ВТО, где мы выпили на прощание водки, а к ней нам принесли две бутылки несвежего «Жигулевского». Я уже побывал в Праге и знал вкус настоящего пива (мы навестили даже знаменитую пивную «У Флека»). Тем не менее возмущенный тем, что чехи стали со страшной силой поносить «Жигулевское», я им в пику начал его расхваливать. Нас сидело за столиком четверо: два чеха, я и еще посторонний пожилой человек. Он невольно слышит нашу разборку, и, когда чехи вошли в раж, громко мне говорит: «Есть пиво вкуснее чешского». – «Какое же, интересно?» Он отвечает: «Немецкое». Попал, что называется, в болевую точку, тут же вечная борьба. Чехи аж встали: «Да г… – это немецкое пиво». Дядя покрылся пятнами, они в кураже алкогольном его несут и несут, а он сам к пиву не притрагивался, просто зашел пообедать. В общем, за пару минут они свалили на пожилого человека уйму дерьма, настоянного на юношеской иронии. Наконец ему был задан решающий вопрос: «Когда вы последний раз пили немецкое пиво?» Он сказал: «В сорок пятом году». Иван заплакал, встал на колени и стал у этого дяди целовать руки. Вот какое было отношение у чехов к нашим фронтовикам.
Спустя много лет Иван стал министром культуры у себя на родине. Вернувшись из поездки в Москву, он все же женился на той девочке, за которой я так недолго ухаживал. У них родилась очаровательная дочка. И вроде все в жизни сложилось нормально.
Прошло лет десять с того прощального обеда в ВТО, я уже был женат на Люде, когда мы приехали на гастроли в Чехословакию. Я жене говорю: «У меня здесь живут друзья, отличные ребята». И по справочной книге, что лежала в гостинице на тумбочке у кровати, выискал их телефон. Правда, с такой фамилией, как у Ивана, оказалось несколько абонентов. Начал набирать все по очереди. Никаких других сведений о нем я не имел. Где он работает? Чем занимается? Я даже не знал, что они поженились. Дозвонился, кричу: «Это я!» Мы же друзья. Довольно холодно, но тем не менее: «Жду вас в гости». Мы приезжаем с Людой вечером после спектакля, и начинается тихий кошмар. Я напоролся на врагов. Встретили меня два бутерброда и ожидание, что сейчас русская свинья начнет хлестать водку. На бутылку, пей! Тем более мы ее с собой принесли. Не вяжется беседа. У Ивана еще какие-то гости сидят, носы воротят. Только что с дерьмом нас не мешают. Какой темы ни коснись – они выше, они умнее, они интеллигентнее. Какой же это был год? Я оканчивал в шестьдесят седьмом, мы в том же шестьдесят седьмом дружили, значит, тот самый знаменитый шестьдесят восьмой с нашими танками в Праге случился после. Мы с Людой поженились в семьдесят пятом. Следовательно, попали в самое «яблочко». Семьдесят восьмой год. Десятилетний юбилей Пражской весны.
В Праге существовал театр Крейча. Позже они сбежали на Запад, как и те, кто придумал знаменитую «Латерну магику». В Чехословакии начинался тогда взлет театра. Я смотрел у Крейча «Последние» Горького, «Три сестры». Неожиданно я увидел ту эстетику, о которой Эфрос рассказывал, собираясь поставить в «Ленкоме» «Ромео и Джульетту», – вероятно, он тоже побывал у Крейча. И явно находился под впечатлением от этого театра, а потом, когда уже перешел на Бронную, на той сцене все-таки поставил великих шекспировских влюбленных…
Я не знал, как уйти от своих старых друзей. Я не знал, как объяснить Людке, куда мы попали, куда я ее притащил? Наконец выбрались на улицу, поймали такси, молча едем обратно в нашу ср…ю гостиницу. Люда спрашивает: «Это твои близкие друзья?» Кошмар. В тот вечер я для моего друга Ивана оказался представителем ненавистного Советского Союза. Тем не менее, пусть советский, и, как ни странно, воспитанный человек, я пригласил их на спектакль под названием «Тиль». Перед спектаклем я увидел Ивана, каким прежде и представить себе не мог.
С женой в вечернем платье, сам в смокинге, он пришел ко мне за кулисы. Заглянул на секунду. Я обалдел, увидев его в смокинге, потому что прежде он был хипарь – драные майки, джинсы в заплатах, а сейчас только монокля не хватает. Я спросил у его жены, кем она стала. Диктором на телевидении, ее знает вся страна. А он – драматург. Тут же сообщил, что точно так же ненавидит и свою социалистическую чешскую власть. «Я езжу в Австрию, переписываю с телевизора то, что в нем вижу, а эти придурки у меня покупают, как собственные авторские материалы». А дальше: «Вот я такой, у меня машина такая, дача такая…»
Пока шел спектакль, он, вероятно, понял, что я играю не последнюю роль в этом представлении. Дальше события потекли следующим образом. Сейчас такое и у нас начинает развиваться, а у них давно принято, что каждый театр имеет свой ресторанчик. Естественно, после спектакля те зрители, что считаются завзятыми театралами или имеют какое-либо отношение к театру, плюс местные актеры, что смотрели наш спектакль, пошли на ужин. Иван привел меня в этот зал. Мало того, он прошел со мной через все столики, каждый должен был знать: он – мой давний друг. В конце концов он накушался, как свинья, и моментально превратился в того Ваньку, которого я знал и любил в Москве. Где-то в середине ночи в этом ресторане появился человек – вылитый Иисус Христос. Вытянутое библейское лицо, худой и изможденный, с огромным крестом в расстегнутой до пупа рубахе. Оглядевшись вокруг, он сказал на весь ресторан Ивану: «Русской свинье ж… лижешь». Иван впал в транс. Истинно театральный выход из всей долгой истории.
«Ленком» потом довольно часто приезжал в Чехословакию. Мы привозили «Юнону», «Звезду и смерть…», «Оптимистическую трагедию». И каждый раз, когда я появлялся в Праге, в обязательную программу входило – в гости к Ивану. Они переехали в самый центр, к Вацлавской площади, улочка, где их дом, прямо на нее выходит. До конца любых гастролей мы из этого дома не вылезали.
История – это спираль. Приезжаю в Прагу, сразу захожу к Ивану, он мне: «Тихо, не шуми, Горбачев говорит». Сидит и смотрит по телику первый съезд народных депутатов! Свобода, твою мать! Понятно, что она к ним имела самое непосредственное отношение.
Ванька в мои приезды сбивал себе ноги, у них в те времена была своя «Березка», и он старался, чтобы я как можно дешевле купил джинсы, рубашки, куртки. Его жена, бедная девочка, сходила с ума, потому что за мной чуть ли не полтеатра к ним приходили столоваться. Она прежде не знала, что можно мыть столько посуды.
Я снимался в Праге, по-моему, в «Королеве Марго». Каждый день звонил, через день являлся, они всегда меня ждали. Однажды заскочил, Ваньки нет, только жена с дочкой. Мы уже как родные: «Заходи, давай-давай, устраивайся». Уехали и они, наступил период отпусков, и я один ночью шатался по Праге. Зашел в тот трактир, где мы когда-то пили с Иваном пиво. Сел за стойку. Думаю, сейчас меня опять будут шпынять, оттого что я русский. Нет, очень мило все прошло. Политика политикой, а человеческие отношения в итоге – человеческие отношения.
В том кабаке я вспоминал историю нашей дружбы и чем закончился тот знаменитый вечер. Я же на этого «Иисуса Христа» насел. Я вообще спортивный мужик, а тогда еще был и хорошо подкачанный. Это Иван впал в ступор, а меня, наоборот, понесло: «Сиди, сука, и молчи, а то убью». Я Ванечку спасал.
Развить и сохранить
Знаменитым я стал после серьезного, этапного театрального спектакля, поэтому первое, что ощутил, – уважение коллег, а у зрителей я стал модным артистом. Молодой модный актер, и не более того. Я в разных интервью цитировал Андре Моруа, повторяя не один раз его слова из конца первой части книги «Три Дюма», где он пишет, что Дюма фантастически повезло, что в трактирчик, где он заканчивал пьесу, зашла театральная звезда с директором театра, они разговорились, она прочитала рукопись, и ей понравилась пьеса, к тому же прима увлеклась самим Дюма. В конце концов состоялась премьера, и Дюма на следующее утро проснулся знаменитым. И дальше Моруа рассуждает, что жизнь предлагает каждому человеку порядка десяти возможностей ее изменить.
Мое цитирование – отличный пример того, как подводит память. Однажды я решил проверить утверждение Моруа. И выяснил дальше по книге: «…весной 1850 года, проходя по итальянскому бульвару мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера Ипполита Вормса и толстяка Буффе, Лукулла богемы, одного из театральных директоров. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол.
– Вормс сказал мне, что из вашей «Дамы с камелиями» вы сделали превосходную пьесу. Вскорости я стану директором «Водевиля»; подержите для меня с полгода вашу пьесу – обещаю вам ее сыграть».
Но согласитесь – рожденный мною рассказ, который я приписал Моруа, звучит поинтереснее.
Для меня «Тиль» – одна из отправных точек карьеры. Не знаю, насколько я прежде это делал успешно, но и сейчас постоянно себя «осаживаю» по всем тем понятиям, которые входят в слово «популярность». Во-первых, если шибко на этом зациклиться, можно сильно разбаловаться и в дальнейшем испортить свой характер. Во-вторых, чувство собственной исключительности обязательно отражается на профессии. Причем отрицательно. В-третьих, я знаю не одного коллегу из тех, кто довольно высоко поднялся в артистической славе, но потом очень больно падал в безвестность. Слишком легко вылететь из обоймы. Выбирают же нас, а не мы. Не пишем мы для себя пьесы и сценарии. Многое в нашей судьбе зависит от стечения обстоятельств и везения. Поэтому сиди себе спокойно, не вякай. К тому же есть масса примеров раздутых имен, не подтвержденных ни мастерством, ни талантом. Фальшивые идолы. Сегодня их много в шоу-бизнесе – туча мыльных пузырей. Но как только материальная подпитка кончается или еще что-то похожее происходит, пузырь тут же лопается. Не хочется числиться в этой компании.
Что удерживает «в рамках»? Боязнь, что снимут с роли, боязнь, что роль может не получиться, боязнь, что я еще многого не умею. Хотя кое-что в своей профессии уже изведал. Меня спрашивали, а степ-то вам на кой черт нужен? Но я с самого начала ставил себе задачу научиться в своей профессии всему.
Я знаю, такого никогда не достигнуть, но всегда буду к этому стремиться, буду совершенствовать свой актерский аппарат, в первую очередь – мою нервную систему, но также и все то, что называется выразительными средствами. Наконец, мне интересно учиться.
Я никогда не видел, но наслышан о двух знаменитых актерах. Первый – актер МХАТа Добронравов. Говорят, он всегда и везде играл одну и ту же роль, а именно самого себя. Но потрясал. Сумасшедший темперамент завораживал зал. На него ходили. Второй – актер Хмелев, которого, как вспоминают, родственники за кулисами не узнавали даже по рукам. Он уделял дотошное внимание гриму, костюму, манере говорить, каждой мелочи.
Два полярных направления. Мне интереснее второе: полное лицедейство. При этом я признаю, что Добронравов – один из лучших образцов актерства. Но представители этого направления чаще откровенно серы, зато во втором актеры нередко наигрывают, кривляются, выдают это за характерность, что на самом деле никакого отношения к роли не имеет. Вот он играет Одессу и начинает косить под еврея, грубо говоря, играть так, как рассказывают анекдоты. Но тут же исчезает среда, ведь надо внимательно слушать и точно передать мелодию речи.
Или изображают азербайджанцев как неких усредненных кавказцев. А ведь у них совсем другой акцент, чем у армян, и ничего похожего на грузин. У татар один акцент, у казахов совсем другой. Речь надо слышать, ею надо заниматься, и заниматься профессионально.
Насколько мне известно, в училищах при императорских театрах нашей профессии учили девять лет. Как и в хореографическом училище. И учили сызмальства. На последнем году обучения высокая комиссия решала: тебе быть Нижинским, будешь всю жизнь танцевать, тебе быть Мочаловым, будешь играть драматические роли в Малом театре, а тебе – Неждановой, будешь петь. Но каждый, кто пел или танцевал, владел актерским мастерством, каждый, кто выходил на драматическую или оперную сцену, до конца жизни делал балетный станок, каждый, кто занимался искусством балета или драмы, владел музыкальной грамотой, постановкой голоса.
Подобная система мне близка, более того, я хочу как можно дольше не терять в себе ощущение ученика. Это желание цепляет еще одну тему. Я убежден, что художник, творческий человек должен сохранить детское, непосредственное восприятие мира, лишь тогда он может совершить открытие. Взрослый человек знает: сюда нельзя, здесь тоже пути нет, дважды два – четыре, а у ребенка запретов нет. Он может лезть туда, куда не полагается, он открывает для себя иные миры. Великие ученые, вероятно, во многом благодаря своей наивности, совершали открытия. А в нашем деле? Я не знаю, но мне хочется думать, что Урусевский, великий оператор, новатор в своем деле – все помнят кружащиеся деревья в фильме «Летят журавли», – нашел это движение камеры импульсивно. У обычного, пусть даже высококлассного, профи, вероятно, все оказалось бы расписанным: такая-то в кадре экспозиция, такая-то диафрагма, так снять правильно, а так – неверно. А он, с одной стороны, не думал о правилах, с другой – не имел той техники, какой, предположим, работали на Западе. Он экспериментировал.
Великая актриса Татьяна Ивановна Пельтцер всю жизнь была как дитя. «Ленком» дружит с Владимиром Спиваковым. Несколько лет назад у нас в театре проходил концерт его оркестра. Слушать маэстро чинно собрались друзья театра. Но когда-то, кажется, совсем недавно, Володя как дирижер только-только начинал, и собранный им музыкальный коллектив под названием «Виртуозы Москвы» считался неким чудом. Они после своего концерта приходили к нам в театр, а мы, отыграв спектакль, собирались в репетиционном зале, где «виртуозы», не надевая фраки, расчехляли свои инструменты и играли для нас. Как слушала музыку Татьяна
Ивановна – она просто в ней растворялась, в нее погружалась. Ее внимание сродни детскости – так она удивлялась всему. Первейшее качество художника и творца.
Как хочется подобную непосредственность и открытость в себе развить и сохранить! Иными словами, как только я пойму, что все в этой жизни умею, значит, пришла пора уходить из профессии, значит, я уже не совершу ничего нового, светлые дали передо мной не откроются. А мне бы хотелось, чтобы любое откровение происходило не только для меня, но и для моего зрителя. Чтобы каждая новая роль не повторяла предыдущую. Чтобы ежедневно, пусть ненамного, но шло движение вперед и вверх. Не сомневаюсь, у меня достаточно брака в работе, есть неудачные роли. Но все сделанное идет на пользу. Благодаря тому, что мордой об стол бился, я чему-то еще научился. Я не верю, когда говорят: «Левой ногой – раз, и вышла гениальная роль». Все хорошее трудно дается. Действительно, бывает так, что роль получается легко, но это означает только одно – предыдущие десять лет были мучительно трудны, а тут совпало и легло. Но обычно поиск образа проходит даже если и быстро, то, как правило, нелегко. Я ищу такие движения, чтобы походка графа Резанова никак не напоминала походку Юрия Звонарева, героя «Sorry». Совсем иначе у меня ходит по сцене светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Я в своих персонажах никогда никакую мелочь не забываю.
Линька
Мама отработала срок своего контракта во Вьетнаме и наконец отправилась домой, в Москву. Ехала поездом. Поскольку считала, что возвращается навсегда, то везла с собой много скарба (накопилось за несколько лет работы). Поезд подошел к перрону, по-моему, Казанского вокзала, я встречаю маму, вдруг она прямо на платформе сует мне в руки какое-то существо в одеяльце. Существо сразу заорало громче, чем если бы одновременно прогудели десять паровозов. Но это еще что, я никак не ожидал, что в такой крохе может быть столько г…! Ср…т безостановочно, оттого что постоянно пугается.
Обезьянка к маме попала чуть ли не в семидневном возрасте. Если щенка от суки таким маленьким отрывать нельзя, он должен с мамой хотя бы месяц прожить, то у обезьян таких сложностей нет. Зато наша малышка была уверена, что моя мама – это и ее мама. Никого другого она с рождения не видела. И вдруг – чужие руки, чужие запахи. Орет и гадит. Гадит и орет.
Два года обезьянка прожила с нами. А потом мама вновь поехала во Вьетнам. И обезьянку, естественно, забрала с собой. В Ханое мама поработала еще два года, и вновь предстояло возвращение в Москву. Четырехлетняя обезьяна считается взрослым животным. Взрослая обезьяна – увы, не домашнее животное. Домашние животные – это кошки и собаки, а тут совсем другие действуют порядки и обычаи. Везти обезьяну можно только в клетке и только в багажном вагоне. Но теперь мама возвращалась в Москву зимой, а обезьяны крайне восприимчивы к холоду. Для них глоток морозного воздуха – как выпить яда и значит убить животное, потому что сразу начинается или воспаление легких, или туберкулез. Они фантастически подвержены любому простудному заболеванию. Если везти обезьяну по законам советской власти, а ей не поперечишь, значит, везти обезьяну на верную смерть. Мама вынуждена была свою любимицу оставить в Ханое. Хотя отдала в хорошие руки – ее взяла пара из Чехословакии. У них тоже жила обезьяна, но обезьяна-мальчик. Так что вроде воссоединение семьи получилось.
Обезьяну нашу звали Ли-Ни. Линька по-простому. Линька за неделю до маминого отъезда почувствовала: что-то должно произойти, какая-то беда надвигается. Мама рассказывала: Линька в какой-то момент сразу обмякла. Мама, уезжая, у этих людей не взяла ни телефона, ни адреса, чтобы отрезать навсегда. Такого характера человек.
Но в первый год после Линьки даже на слово «обезьяна» между нами было наложено табу, потому что маме его слышать было больно. Линька была членом семьи. Мама умела дружить с людьми самого разного возраста. Молоденькие девочки поверяли ей свои тайны и делились переживаниями, обычно из-за несчастной любви. У нас с Людой на всех праздниках присутствует семейство – Алеша и Марина Марковские. Для Марины мама была самой близкой подругой, хотя она моложе ее лет на двадцать. Она ни с кем не дружила так, как с мамой. Марина вышла замуж под руководством мамы, все время с ней советовалась. И в то же время мама дружила с женщиной старше себя лет на тридцать – Анной Владимировной Дуровой, матерью Прова Садовского и дочкой дедушки Дурова, Владимира Дурова. Она же – жена народного артиста Советского Союза Прова Михайловича Садовского из Малого театра. У знаменитого Прова Михайловича отца звали Пров Провыч. У Прова Михайловича и Анны Владимировны родился сын, тоже Провушка, тот самый, что опекал меня в Щелыкове. До последних дней своей жизни Анна Владимировна оставалась очень красивой женщиной, гордой, строгой, настоящей хозяйкой «Уголка Дурова». Ее кабинет был сохранен в том виде, каким он был в тот день, когда умер дедушка Дуров. Чуть ли не дуровский пиджак оставался висеть на вешалке. Естественно, она знала про животных абсолютно все и сказала маме, что Линька будет ее ждать всю жизнь, веря, что мама к ней когда-нибудь вернется. Линька была настолько привязана к маме, что, похоже, следила за движением маминых ресниц.
…Приехали мы с Линькой с вокзала домой. Как только я к ней подходил – дикий вопль, страшный обезьяний оскал, показывающий, что она готова меня разорвать. Сумасшедшая ревность к маме. Я подходил к ней, садился рядом, замирал на полчаса, не двигаясь. Она засыпала. Просыпалась и сразу начинала орать, поскольку рядом чужой. Потом, в какой-то момент, она поняла, что я, похоже, никогда не уйду из ее дома. Прошло время, я начал рядом с ней класть свою руку, а она же любопытная – потихонечку, потихонечку стала к моей руке прикасаться. Потом отпрыгивала метра на три – чужака тронула! Но любопытство ее раздирало. Я опять сажусь рядом. Сижу двадцать минут. Она вновь подползает. И все начинается заново. Потом Линька залезла мне на руку, она же была крохотуля. Наконец она заснула на моей руке. Свершилось. Но проснулась – те же вопли. А окончательно поняв, что эта сволочь будет здесь всегда, примирилась.
Линькина порода – голубой резус, невероятно красивая. Она на самом деле была серого цвета, но живот и тыльные части рук и ног – голубые. Очень нежная шерсть. А мордочка – как рисуют лик святых, тот же разрез глаз. На ней миллион выражений. Что-то невероятное. Руки – Ван Клиберн отдыхает. Длинные и очень красивые пальцы. Я ее как любимое животное тискал, гладил.
Потом понял: самое интересное – за ней наблюдать. Не оторваться. Редкий спектакль. Причем обезьяна с тобой будет разговаривать, если ты с ней начнешь общаться с самого начала ее жизни, буквально с первой секунды. Ты ее хочешь покормить, суешь ей конфетку, как собаке, поднося прямо к морде. Первое, что она делает, берет тебя за руку и дергает. И смотрит, что ей дали. Разворачивает. Изучает: надо ей это или не надо. С нашей собакой Люда разговаривает, но собака не отвечает, ну, может быть, кивает. Опустила голову, посмотрела, послушалась, пошла.
Линька же разговаривала все время. Миллион интонаций, ведь она существо высокой нервной организации и очень четко чувствует настроение. Страшно не любила мыться. Два раза из квартиры убегала.
Поехали мы с ней в Щелыково. Линька всегда рядом, на поводке, но, когда мы уходили в лес, мама ее отпускала. Поводок был необходим, чтобы она не кусала окружающих.
А в лесу что ее держать? Свобода. Как она носилась по этим веткам! Но она сама так боялась потеряться, что никогда далеко не убегала. Были моменты, когда Линька отвязывалась. Раз мы проходили по мосточку через речку Говнянку, и она в ней увидела рыбку. Она в речку – прыг… и свалилась в воду, как мешок. Четыре дня стояло сплошное «а-а-а».
Но, когда она оказалась в воде, все ее четыре конечности стали вращаться, как пропеллеры. Из воды выпрыгнуло нечто, похожее на крысу, шерсть сразу же намокла. Орала она, вероятно, о том, что к воде больше никогда близко не подойдет. Но все равно надо мыться, хоть тресни, банный день полагается соблюдать. В ванной ее намыливаю, она терпит. Руку дает тереть, вторую, пузо, спинку, ногу. Потом я ее растираю всеми своими ковбойками, полотенцами, в рубашку закутываю, она превращается в некий шар. Смотрит на меня. Я говорю: «Ну что?» И она начинает рассказывать, что она пережила, чего ей это стоило, эти муки в ванной, ты не понимаешь! Я: «Неужели так ужасно?» Она: «Да, не то слово как». Этот диалог я передаю почти дословно. Она любила смотреть телевизор. Вы можете смеяться, но она сознательно смотрела телевизор. Причем телевизоры раньше – не как сейчас: я включаю, и он сразу загорается; а тогда надо было ждать чуть ли не минуту, пока лампы нагреются, а Линька уже напротив устраивается, ей не терпится. Я ей говорю: «Сейчас, подожди немного».
Когда идет «В мире животных», на экран смотреть никакого интереса, наблюдать надо за Линькой. Если появляется змея – главный враг мартышек, – она моментально ныряет под стол и оттуда устраивает истерику.
Зажечь свечу
Юра Рашкин – ныне телережиссер, прежде радиорежиссер, а еще раньше – актер на радио, до того – актер театра «Современник», если ехать в обратной хронологии. А изначально – мой однокурсник. Он решил, что мой диск «Предчувствие любви» («Дорога к Пушкину») может быть исполнен в видеоряде. Появились разные предложения, копились синопсисы, заявки, был снят совершенно роскошный клип. Юра все собрал, принес, сказал: «Ребята, это оно, я чувствую». Дальше Боженька вел. Так начиналась наша дорога к фильму «Романс о поэте».
Люди годами ищут, чтобы сошлось… Я там то Пушкин, то так, только профиль.
Был один момент, когда оператор Григорий Беленький снимал-снимал и вдруг каким-то отрешенным голосом сказал: «Пусть работает сама». И ушел от камеры…
…Камера работала, пока падало в море солнце, и этот момент, называемый у профессионалов «режим», был снят без оператора. Гриша потом объяснял, что он боялся до камеры дотронуться, боялся сглазить, боялся что-то в кадре разрушить. Так обычно на съемках не бывает…
Когда-то много лет назад ко мне в дом пришли два человека. Один представился композитором, другой – поэтом. Я и так знал, что один из них композитор, потому что еще до этого визита я с ним познакомился, работая над мультфильмами «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В этой сказке я играл «белого рыцаря». Музыку к тем фильмам написал молодой киевский композитор Владимир Быстряков. Автор приезжал в Москву работать на озвучании. Я исполнил пару его песен, сделал вывод, что композитор, судя по его лицу, не шибко мною остался доволен. Не сомневался, что этого человека в своей творческой жизни я больше не встречу. И вдруг он появляется у меня дома. И говорит, что с пришедшим с ним поэтом, того-то я действительно увидал впервые, они написали поэтическо-музыкальный цикл.
Композитор Быстряков тогда работал чуть ли не со всеми ведущими эстрадными певцами, и работал лихо. Скажем грубо, его творческая лаборатория выглядела так – он распределял: «Эти две песни – точно для Леонтьева, а эту должна взять Пугачева, тут вроде не ее материал, хорошо бы чтобы пел мужчина».
После переговоров мы втроем решили, что безусловно потеряем в качестве вокала, но выиграем в том, что наша история приобретет характер личностный, авторский. В цикле должно получиться единое отношение к материалу, а значит, нужен драматический актер.
С того дня, как поэт пересек порог моего дома, я дружу с ним по сей день. Зовут его Владимир Гоцуленко.
Если посмотреть со стороны на этих двух людей, выглядят они достаточно странно. Композитор при первой встрече производит впечатление грузчика, причем из овощного магазина. Замечу, что магазина далеко не самого высокого разряда, на большее он рассчитывать не может.
Не тянет на директора или даже на замдиректора этого магазина и возникший у меня дома поэт – скорее, на бухгалтера. У него красноватое лицо, он лысоватый, со слегка бегающими глазками. Композитор же квадратный, вероятно, он «качается» на тренажерах, хотя я знал, что он по утрам бегает, сейчас не в курсе, но, по-моему, пока он жив – будет бегать, он такой. Пальцы у композитора не подходят под определение «пальцы пианиста», посмотришь, и сразу ясно – рядом не Рахманинов и не Рубинштейн.
В тот день они у меня дома показали, что сотворили. Сказать, что мне это понравилось, – значит, ничего не сказать. В результате я буквально заболел всем услышанным. И не один раз потом задумывался: «Ну не может такой человек такие писать стихи». Потом уже выяснилось, что Гоцуленко – директор Киевского издательства ЦК комсомола Украины «Молодь» (это что-то вроде нашей «Молодой гвардии»).
Первое, что я подумал: вероятно, ему на таком посту надо как-то подтверждать, что он тоже вроде творческая личность. Вероятно, он «заряжает» какого-нибудь молодого парня, а может, и не одного, те под его фамилией отписываются, а он им отстегивает? И никогда я так не радовался, что оказался не прав. Поэт – интеллигентнейший человек, у него удивительный дом, в доме – культ Пушкина, Гоцуленко про него знает все. Но его интересы не только в Пушкине, он – настоящий энциклопедист. Плюс ко всему сам – сумасшедший поэт.
Композитор Владимир Быстряков окончил консерваторию сначала по классу фортепиано, потом композиторское отделение. Лауреат международных конкурсов. Как он свои «пальчики» помещает на клавишах, не представляю. Быстряков готовил «болванку»: ритмическую структуру и гармонию. Дальше украшал ее под инструменты. Когда я приехал в Киев на первую запись, он в тот момент, когда я вошел в их дом, поднял на руки маленькую дочку: «Смотри и запоминай артиста Караченцова, когда ты вырастешь, он уже умрет». Вова – очень остроумный человек.
К поездке к композитору и поэту я готовился. Володя Камоликов, мой тогдашний аккомпаниатор, репетировал со мной несколько суток. Наконец я в Киеве… Визиты в эту столицу – особое дело. Через месяц со стопроцентной уверенностью я знал: в Доме композитора вечером накроют стол – будем праздновать очередную победу! Потом меня внесут в поезд. Поездов через Киев в Москву ходила тогда туча, с десяток проходящих, и если на этот не успели, все схвачено комсомолом… Если не на варшавский, то на софийский. Но когда в первый раз приехал на студию, Володя говорит: «Коль, давай для разминочки запишем одну песню просто так». «Здравствуй, паяц» – так песня называлась. С Быстряковым много работал Валера Леонтьев, «Куда уехал цирк» – это Володина работа. И он приблизительно в той же тематике написал песню, никакого отношения к пушкинскому циклу она не имела. Хорошая песня, ее забытый теперь перестроечный «Взгляд» несколько раз крутил в моем исполнении.
Для меня «Предчувствие любви» («Дорога к Пушкину») – значительный кусок жизни. Мне кажется, что история, которой мы занимались, может иметь долгое творческое продолжение. Она имеет право и на то, чтобы преобразоваться в музыкальный фильм. Диск, что мы записали, я даю его послушать друзьям только при одном условии: прошу в этот момент отключить все телефоны, потому что запись цикловая. Необходимо, чтобы одна часть за другой шли в связке, подряд. Под эту пластинку не получится потанцевать, лучше взять стакан водки и зажечь свечу.
Происхождение фамилии
Не имею представления, откуда взялась фамилия Караченцов, каковы корни ее и происхождение? Знаю, что первое упоминание Караченцовых идет с 1634 года, его нашли в записях донских казаков. Оттуда же герб этого рода. Девиз на гербе: «Бог мне надежда». По идее, если мы из казаков, то тогда все Караченцовы – мои родственники. Если искать в фамилии тюркские корни, то «кара» во всех восточных языках – «черный», «чены» в некоторых из них – «орел». Может быть, мы из татар, и татарские набеги сделали свое дело и вложили в нашу фамилию свои корни?
Я себя успокаиваю другим: возможно, кто-нибудь из скоморохов прыгал на карачках или карячился, и тогда я точно продолжаю фамильное дело.
У меня уже никого из родителей не осталось, у Люды отца нет, но жива мама, есть младшая сестра, муж сестры, они постоянно с нами. Я рад, что так сложилось. Сестра моей жены Ира в свое время блестяще оканчивает Менделеевский институт, ее берут после диплома в министерство.
Вскоре министерство разгоняют, точнее – сокращают штаты. Никто ее не терроризирует, на улицу не толкает, уходит сама. Поступает на курсы французского языка. Где он ей пригодится, этот язык? Но ей важно его изучить.
Потом вдруг увлекается бальными танцами. Зачем? Неизвестно, но ей это важно. Потом – чуть ли не на курсы кройки и шитья. Появляется в ее жизни молодой человек,
Андрей Кузнецов. Неординарная личность. Однако не все в их жизни складывается замечательно, прежде всего из-за социальных условий, во всяком случае, не складывается так, как им хотелось бы. Зато растет чудная дочка Наденька, она в честь бабушки названа. Случилась ошибка – они потащили девочку в балет. Я говорю: Андрей, посмотри на себя – а он сам такой крупногабаритный, какая она балерина? Не может она ею стать, хоть ты тресни. Все равно ей не быть Катей Максимовой, пушиночкой. Сейчас Наденька в ГИТИСе, на факультете директоров, или, как сейчас принято говорить, – продюсеров.
Надежда Степановна, мама Люды, по-простому теща, уверяет меня в том, что я – ее единственная радость, благодаря мне ей есть с кем иногда поговорить. Бывает, летом на даче все уже спят, а мы с ней сидим до первого рассвета, жизнь обсуждаем. Она поминает все свои радости и горести. «Колясик, дорогой…» Может признаться, что «иногда я думаю, что тебя люблю больше, чем Людочку». Для того чтобы получить такое признание, надо с тещей не часто видеться. Это мой рецепт. Я думаю, что Люда от матери получила такой моторчик внутри. Если бы Люда выросла другой, мы бы до сих пор жили на Юго-Западе в маленькой квартире.
Надежде Степановне вроде как за восемьдесят, уже пора передохнуть. Нет. С яростью трактора она прочесывает на даче весь участок. Я говорю: «Надежда Степановна, вы меня отвлекаете. Вы в такой рискованной позе стоите над грядкой». В ответ: «Сегодня я еще не успела постирать». Люда: «Мама, зачем стирать? У нас есть стиральная машинка, у нас есть домработница». «Нет-нет, я должна». Теща работала в конструкторском бюро на заводе Серго Орджоникидзе. Рейсшина, кульман-пульман, белый халат… В войну ждала своего мужа Андрея Григорьевича. Он, царствие ему небесное, воевал, попал в концлагерь, вернулся, восстановился. Обычная советская биография. Стал работать в «Профиздате». Очень крупном тогда издательстве, которое печатало все, что надо и не надо, в диких, миллионных тиражах. Под его началом трудились сотни людей. Был солидным государственным чиновником. С послом Зеленовым, отцом моего нью-йоркского друга Володи, он подружился на Рублевке. Там у них, советских начальников, были дачи и пансионаты.
Срочная операция
Девятого января 2000 года я судорожно переоделся после концерта и «полетел» на Кубок России. Есть такая торжественная теннисная церемония, подводящая итоги года, некий теннисный «Оскар». На нем я должен был вручить приз Марату Сафину. Лужков потом на фуршете после церемонии заметил: «Коль, ты лучше всех сказал, так сказал, что пронял меня до слез». Я в ответ: «Да ладно, вы тоже прилично выступили». «Нет, – он закручинился, – я после тебя уже ничего трогательного произнести не смог. Я, по-моему, что-то бессвязное выкрикивал». Я его успокаиваю: «Зато эмоционально».
Из «Рэдиссон-Славянской», где проходило теннисное торжество, я понесся на прием в Кремль. Я же теперь на большие приемы хожу. Я там теперь штатный гость. Вероятно, оправдывая домашнее прозвище «достояние нации». Прихожу в Кремль, смотрю – у меня тринадцатый стол. Там сидят одни генералы. Они мне: «Вон ваши». А через дорожку – Никита Михалков, Саша Розенбаум и Олег Табаков. Я не спорю: «Хорошо, я пойду к ним, но, вообще, у меня тринадцатый стол». – «Тогда садитесь». И я оказываюсь между двумя явно охранниками. Они сидят, ничего не едят и не пьют. А дальше – министр обороны Сергеев, министр внутренних дел Рушайло и секретарь Совбеза Иванов – ну и столик выпал мне! По-моему, еще и Патрушев, директор ФСБ, оказался рядом, я точно не знаю, как он выглядит. В общем, все «наши» собрались. А в то время, пока я выпиваю с силовиками, начинается катавасия с моим сыном. Андрей едет с работы на машине и неожиданно чувствует такую боль, что понимает – до дома не доедет. Звонит жене: «Ира, я до тебя не доберусь, если успею – только до мамы, боль кошмарная». Ира вызывает «Скорую помощь» уже на наш адрес.
По дороге Андрей останавливается у какой-то аптеки или медцентра, ему вкалывают но-шпу, но лекарство не помогает. В тот момент, когда я приезжал домой переодеваться между двумя приемами, они с мамой уже уехали в больницу. Домработница меня огорошила. Я все время из Кремля звоню, а у Люды села батарейка в телефоне, и я никак не могу с ней соединиться. Потом, наконец, через Ирину маму (кто она мне: кума, сноха?) узнаю, в какой они больнице и какой там телефон. Хоть что-то. Из ее рассказа я понял, что сын у нас симулянт: температуры нет, боли тоже уже никакой, он в приемном покое, и его осматривает врач. Врач ему: «Ну что, решил поваляться в больнице? Ну, давай. А чего, у тебя самого языка нет? Почему жена все время за тебя говорит?» Ира отвечает: «Дело в том, что я – ваш будущий коллега. Я медик. Я просто перечисляю симптомы аппендицита». Врач: «Ты на кого учишься?» – «На педиатра». – «Может, в педиатрии ты и будешь разбираться, но никогда в жизни не узнаешь, что такое острый аппендицит. А он не подтверждается. Все свободны. Родственники, вы здесь не нужны. Завтра придет другой врач, еще раз посмотрит, а утром мы парня выпишем».
Думали, а вдруг язва, не дай бог. У сына в детстве был панкреатит. Не на алкогольной, понятно, почве, а на природной. У него врожденный порок – кривой желчный пузырь. Мы мучились с этим все его детство. Прежде всего – строгая диета. Нельзя шоколадки, нельзя еще много вкусных вещей. Мне сказали: «Вы особенно не волнуйтесь, такое бывает, но, когда ребенок растет, у него чаще всего пузырь выпрямляется». Так и произошло. Мы забыли о тех детских волнениях.
А вдруг это какое-то последствие сам не знаю чего? Вдруг какое-нибудь повторение? Я звоню в больницу. Мне говорят, что женщины уже уехали. Но наша Ирочка, слава богу, дотошная девочка. Она потом объясняла: «Мне тон врача не понравился. Он вел себя крайне наплевательски. Но я не хотела сразу портить отношения, думаю, черт с ним…»
Но она побежала все-таки в приемный покой, попросила дать ей анализы мужа. До этого она у врача спросила: «Есть уже анализ крови? Какой там лейкоцитоз?» Врач ей ответил: «Девятка, не больше». То есть почти в норме, поскольку правильно шесть-семь. Но к этому моменту уже пошел по приемному отделению слух, что привезли Караченцова. Переспросили, как фамилия. Уточнили, случайно не родственник? Ах, сын.
И когда Ира вернулась чуть ли не в пятый раз в тот же кабинет (как же ее ненавидел тот врач!), ему уже сказали, кого привезла «Скорая». Оказывается, сперва Андрея записали по ошибке как Каранцева. Вернувшись, Ирочка ему заявила: «Вы сказали, у него лейкоцитов девять, а на самом деле семнадцать!» Это значит, идет какой-то сумасшедший воспалительный процесс.
Она потом рассказывает: «Я вижу, как на моих глазах лицо этого человека переворачивается. Оно становится сразу пунцовым, потом пошло пятнами: «Я не мог просмотреть, я не мог просмотреть. Это они виноваты, они даже фамилию правильно не могут записать». И этот взрослый человек начинает передо мной, девчонкой, извиняться. Я махнула рукой, мол, спасибо, и пошла. Действительно, вроде ничего пока страшного не происходит».
В этот момент я и дозвонился. Мне сообщают: «Все уже ушли. Завтра будет обследование». – «Какой хоть диагноз поставили?» – «Может быть, холецистит, – говорит мне медсестра. – Сейчас у нас дежурный врач проводит операцию, но скоро закончит, спустится, посмотрит вашего сына. Перезвоните минут через десять-пятнадцать».
Через пятнадцать минут звонит сын: «Папа, меня кладут на операционный стол!» (Он же слышал все, что говорили, и, понятно, не хочет, чтобы его впустую резали только за то, что он Караченцов.) Я не дам согласия, пока ты не приедешь, прошу, приезжай как можно быстрей».
Ноги в руки. Через пять минут я в этой больнице. Тимирязевка. «Скорая помощь» его привезла в пятидесятую больницу. Дежурный врач – Исмаил Магомедович Алиев, говорят, на него там молятся. Мне уже в дверях: «Как вам повезло, что он сегодня дежурит! Как вам повезло!»
Только я подъезжаю, открываются ворота. Я бросаю машину. Навстречу выбегают два человека. Холодно, ночь, сколько уже там – двенадцать часов, час. Они кричат: «Сюда надо, сюда». Я бегу к ним. Лифт. Уже у лифта стоит сын: «Пап, я не знаю, что делать…»
Дядька рядом говорит:
– О, пришел сам Николай Петрович. В общем, сто процентов, даже не девяносто девять, необходима срочная операция.
– Что?
– Аппендицит.
Я говорю: «Иди брейся, сын». Дальше все было тьфу-тьфу-тьфу. Единственное, не знаю почему, мой язык сказал:
– А можно посмотреть?
– Категорически запрещено!
И вдруг какая-то женщина говорит:
– Он сейчас начнет. Пойдемте.
Я в жизни видел многое. Видел проломленные головы, оторванные ноги, часто сам травмируюсь, поэтому проживаю в больницах регулярно, видел и не раз – трупы. Но когда лежит бездыханный человек: закатившиеся глазки, общий наркоз, вздымается искусственное легкое, какая-то прищепка на пальце, капельница, кровища, кишки – это мой сынок! Ощущение редкое. Меня спросили:
– А вы не упадете?
– Ладно, я уж как-нибудь устою.
Мне потом Марк Анатольевич Захаров выговаривал:
– Не надо было лезть, зачем такое смотреть.
Два фактора сработали. Первый, конечно, актерская любознательность: уникальное событие, я такого уже никогда не увижу. Ни по телевизору, ни в кинокартине «Скорая помощь». Вот, в действительности, четыре человека стоят над пятым и спасают ему жизнь. Как это делается, как работают их руки, какие взаимоотношения. Если б не операция, то к утру у сына случился бы перитонит, потому что аппендикс у него был по всем статьям приличного размера, от длины до толщины. Когда они его выкинули, мне врач сказал: «Во какой! Видал? А вы не хотели операции!» Потом, смотрю, он из брюшины достает что-то еще, вроде двух белых шариков, один с другим как спаянные. Размером чуть поменьше куриного яйца.
– Вы понимаете, что это такое? – спрашивают у меня.
– Наверное, – говорю, – какой-то жировик?
– Нет, это накопление гноя в брюшине.
То есть это уже начинался перитонит. Дальше все происходило хорошо, можно сказать, замечательно. Я сижу рядом с сыном. Тут и Ирочка подъехала. Его, бедного, трясло, потому что происходил довольно сложный процесс – опять учат дышать. Тут она меня и увела: «Это вам смотреть не надо». Потому что их бьют, выводя из судороги. Из искусственного дыхания переводят в свое. И даже когда Андрея уже привезли из операционной к палате и в коридоре поставили, его еще трясло.
Люда дома сидит, ждет. Она велела Ире, как только та в больницу приедет, ей позвонить. Ира забыла. Мы уже из машины позвонили:
– Накрывай на стол. Все в порядке. Едем.
Я лег в пять часов. Бессонная ночь. Я сына сам отвез в палату. Зажгли свет. Несчастные люди стали просыпаться. И, как ночной кошмар, по палате разгуливает в вечернем костюме артист Караченцов. Там палата на шесть человек, а то и на восемь. Андрей стал разговаривать, бредил. Потом он ничего этого не помнил. «Какие-то лица надо мной». Но видел, что папа, Ира. Меня потом спросил:
– Я себя достойно вел?
– Ты себя никак не вел. Ты лежал в отключке.
– Я не испугался, просто от того, что ты был рядом, мне было спокойнее.
Ладно, держался он молодцом.
Да, вторая причина, она тоже в подкорке. Я – отец, может быть, ему будет легче от моего присутствия. Может, ему будет передаваться моя энергетика, я же рядом стою, я нахожусь при нем, кто его знает, может, где-то что-то и летает? Вот по каким двум соображениям я и остался на операции у сына. Я знаю, что на Западе роды мужья у жен принимают вместе с врачами. Может быть, они по тем же причинам рядом стоят?
К чему столь длинный рассказ об Андрюшкином аппендиците?
Играем спектакль «В день свадьбы», я – в массовке. Мне двадцать три. Первый год в театре. И вдруг посреди спектакля у меня начинается дикая боль в животе. Добрые девочки-реквизиторы наливают две бутылки кипятка и кладут мне их на живот, чтобы, значит, не так больно было. Грелки в таком варианте – самое запрещенное. Мимо проходит артист Юрий Колычев, тогда молодой совсем был, и спрашивает:
– Коль, а у тебя аппендицит был?
– Нет.
– Убрать грелки сейчас же! Вы что, с ума посходили?!
Мне тем временем все хуже и хуже. Еле-еле доиграл спектакль. Старый Новый год. Плетусь в какую-то компанию. Редкий случай, когда я не то что не хочу, видеть водку не могу. Уговаривают: «Ты хоть шампанского бокал выпей».
Выпиваю. Меня чуть не выворачивает обратно. Тошнит, мутит, состояние отвратительное. Приезжаю домой. Мамочка, царствие ей небесное, меряет температуру – тридцать девять и шесть. Но уже не так болит, как днем. Аспирин, анальгин. Утром вызываем «Скорую помощь». Температура спала. Приезжает врач, женщина, смотрит меня и говорит:
– Наверное, у вас был приступ аппендицита. Но он прошел, и вы можете десять лет ждать, пока будет следующий.
Хорошо. Уехала. Я сижу дома. Перед отъездом она оставила мне на три дня бюллетень. Я же только принят в театр, ролей никаких нет, сиди, читай, образовывайся. Вдруг днем часа в четыре звонок: «Это из больницы. К вам приезжала вчера врач. Мы ей уже выговор вынесли. (Советская власть. Тогда все было сурово.) Она не имела права даже при малейшем подозрении на аппендицит не привезти вас сюда». Она осмотрела меня и оставила дома, потому что у меня ничего не болит и температура нормальная. Ну зачем меня еще куда-то таскать? Тем не менее привозят меня в больницу. Я сижу, курю, разговариваю с экипажем «Скорой помощи». Мама рядом. Приходит врач, смотрит меня.
– Черт его знает, – говорит, – вроде колики есть, а вообще, может быть, и нет.
Второго вызывают. Тот говорит:
– Нет, ты знаешь, все-таки надо его резать.
Я вмешиваюсь:
– Ничего не болит.
Второй, не обращая на меня внимания:
– Вот смотри…
А там у них вовсю пальпация, он давит руками на пузо, вроде остро не болит, но живот я чувствую. Короче, сам пошел на операцию. Какая-то старуха меня брила. Я ей: «Хоть волосню-то чужую с бритвы сними, должна быть хоть какая-то дезинфекция, гигиена…» (Опять же советская власть. Тогда все было просто.) Она меня, естественно, посылает, но не на операцию, а значительно дальше…
Пришел в палату. Сижу, жду экзекуции. Заходит чудненькая девочка, говорит:
– Идемте бриться.
– Опоздала, кума! Э-хе-хе. Раньше надо было.
Иду сам в операционную пешком. Смотрю, будущий мой резака моет руки. И вывозят от него какого-то мужика. Синюшный, б… Я спрашиваю: «Я такой же буду?» Он оптимистично: «Хуже будешь».
Тогда делали местный наркоз. Я видел, как он меня вскрывал. Сразу кровища пошла. Я начал дергаться…
– Да убери руки. Мешаешь.
Я держу руки на весу, говорю: «Они у меня затекают». Хирург показывает: «Делай вот так».
Я делаю «вот так».
Местный наркоз, все нормально. Но самое главное! Это была пятидесятая больница, та же Тимирязевка!!!
– Какая у вас больница? Пятидесятая? Да подождите, мне ж, по-моему, именно у вас аппендикс удаляли.
Я запомнил имя хирурга на всю жизнь – Виктор Ломако.
– Он у нас до сих пор работает. Но только он теперь старичок.
Елки-палки, что там фатум, что там телепатия. Именно в этой больнице, именно в это время, и не в восемь лет, не в десять, а точно так же в двадцать три, но с разницей в тридцать три года нас с сыном оперировали.
Удар справа, удар слева
С теннисом я познакомился в детстве, когда отдыхал в Щелыкове. Любой творческий дом в те годы был немыслим без корта. Здорово играл в теннис Пров Садовский. А поскольку он меня называл своим сыном и мы с ним жили в одной комнате, я не мог не взять ракетку в руки.
Садовский многому меня научил в этой жизни, не только теннису, за что я ему бесконечно благодарен. Бывало, что маме удавалось приехать не на весь срок. А я сидел в Щелыкове с самого начала лета и до школы. Я знал наизусть все окрестности и очень гордился своим положением названого сына Прова Садовского. Садовский – уникальная человеческая фигура. Он не достиг больших актерских высот, но нашел себе отдушину – Щелыково, и ею жил.
Так и существовал – от лета до лета. Была у него еще одна страсть – бега. Страсть самой высшей пробы. Азарт ужасный, азарт не денежный, он игрок по натуре, и больше всего его привлекала атмосфера состязания. С бегов – знакомство с маршалом Буденным. Знаменитые артисты на ипподром ходили, но Пров считался фигурой особой, ему присылали оттуда программки.
Теннис – такое же его увлечение, как ипподром. В Щелыкове я в первый раз увидел на корте людей, размахивающих ракетками. Я спросил, что они делают? Мне дали ракетку, поставили к стеночке, объяснили. И потихонечку я втянулся… Никогда теннисом специально не занимался, но влюбился в него тут же: раз и навсегда. Случались моменты, когда теннис по ряду обстоятельств уходил из моей жизни. Я не мог играть в институте; не мог и в первые годы в театре: учился и работал круглосуточно; не мог, когда сильно травмировал ногу.
После очередного теннисного перерыва как-то бреду по Питеру, возвращаясь из студии в гостиницу. Съемка проходила в первую смену, то есть с восьми утра до трех-четырех дня. А рядом с «Ленфильмом» – корт, там люди играют. Я спросил у кого-то из тренеров: «У вас нет лишней ракетки, я о стенку постучу?» Дали. И мяч в придачу.
Стою, стучу им о стеночку. А рядом собрались люди, и им, поскольку это теннис, четвертого не хватает. Игра же интеллигентная, не на троих. Они посмотрели, как я маюсь у стенки, и предложили: «Становись к нам». Я встал. Так вновь потихонечку втянулся.
В Питере я познакомился и подружился с уникальным человеком – Игорем Джелеповым. Невероятное соединение спортсмена и интеллектуала. Игорь и кандидат наук, и мастер спорта. Племянник академика и сын академика. Знаменитые братья-физики Джелеповы. Он в память о дяде и отце организовал в Дубне любительский турнир. Я не раз ездил на него, выступал. Но только в свободное от работы время. Моя занятость и моя профессия не позволяли играть, как нормальные люди – три раза в неделю: предположим, в понедельник, среду, пятницу. Я мог приезжать на корты пять дней подряд, а потом месяц их не видеть.
Но своего Андрюшу я теннису выучил. Он, в отличие от меня, занимался с детства в секции в ЦСКА, потом перешел тренироваться к удивительной женщине, великому тренеру – Ларисе Дмитриевне Преображенской, и несколько лет занимался у нее на Ширяевке в «Спартаке». Но наступил момент выбора. Или становиться спортсменом, потому что парень он вроде способный, или оставить спорт в малых дозах и погрузиться в учебу. Большой теннис довольно рано требует полной самоотдачи. Значит, или все побоку, теннис с утра до вечера – будущее непредсказуемое, или гармонично развиваться, нормально учиться в школе, успешно ее оканчивать, поступать в хороший институт. Он выбрал второе. Иногда переживает. Особенно когда у него на корте хорошо получается, он вдруг ощущает потерю. Сетует, что мог бы дальше пойти.
Есть в теннисе одна прелесть – кроме того что вид спорта сам по себе уникальный. Он собирает самых разных людей. Притом что по своей идее и природе теннис – интеллигентный вид спорта. Есть в нем непререкаемые законы. Предположим, если вы кидаете, то есть тренируетесь, то обязаны первый мяч партнеру подать удобно. Дальше бейте, как хотите. Если вы играете микст, то есть смешанную пару – мужчина и женщина, мужчина не имеет права бить в женщину. Вероятно, на профессионалов эти законы не действуют. Я как-то на Кубке Кремля давал интервью о любви к дорогому интеллигентному виду спорта, потом пошел в столовку, где питаются игроки турнира, чтобы уточнить правила микста. И один из ведущих наших профессионалов мне объяснил: «Первый удар – бабе в мясо, чтобы она бз…».
Тем не менее теннис наполнен традициями, а это мне очень нравится. Даже то, что большей частью костюм обязательно белого цвета. Уимблдон это правило держал дольше всех, когда почти везде костюмы стали делать с добавлением цвета или целиком цветные.
В теннис играли и играют тысячи самых разных представителей творческих профессий: и выдающиеся ученые, и деятели искусства. Шамиль Тарпищев называет теннис «шахматами в движении». В каждом Доме творчества, от подмосковной «Рузы» до «Актера» в Сочи, остался хоть один теннисный корт. У каждого своя история. Одни вспоминают: «А у нас сам Николай Николаевич Озеров поигрывал» или «Здесь сражается Никита Михалков». Теннисные люди помнят, как кто проиграл, кто у кого выиграл. Как в детстве – вышел во двор, зови друзей погонять в футбол. Кто вышел первым на корт, тот приглашает: давай, ребята, поиграем! Есть в этой игре некое единение и партнерство в самом широком смысле этого слова. На теннисном корте я встретил людей, ставших моими друзьями. В «Актере» я познакомился и подружился с Борей Ноткиным и Игорем Нагорянским, нынешними моими партнерами в «Большой шляпе». Мы с Игорем общаемся теперь постоянно не только на теннисном корте.
Лет десять-двенадцать назад меня включили в турнир «Большая шляпа», хотя я честно предупредил, что, к сожалению, не могу соответствовать и участвовать в большей части их турниров и мероприятий из-за занятости. «Большая шляпа» – это детище журнала «Теннис плюс», ему принадлежит идея проводить турнир среди пар «чайников» с известными фамилиями. На «Большой шляпе» я поиграл и вместе, и против с разными, но очень интересными людьми. У нас сложилась своя компания. Уже есть и своя история, потому что «Большой шляпе» много лет. Благодаря «Большой шляпе» я выходил на корт против президента страны. В одном из турниров «Шляпы» объявили, что главный приз для победителей – матч с президентом Ельциным. А наша пара, тогда я играл с Борей Ноткиным, турнир выиграла. Кстати, пара Караченцов – Ноткин распалась в первую очередь из-за меня, потому что на следующий турнир я выбраться не сумел, и Боря вынужден был играть с кем-то другим. Потом я пропустил еще одну «Шляпу». Затем явился на следующий турнир – а он в командировке. У нас с Борисом сохранились добрые отношения, но теперь я играю с Игорем Нагорянским, а Боря Ноткин – с другим партнером.
Но в тот самый раз, где ставкой был матч с президентом России, именно мы стали победителями турнира. Попав в полуфинал, я подумал: ну, дела, мы в первой четверке! Вышел покурить и вдруг понял: а мы ведь и выиграть можем! И выиграли. Прошло некоторое время, полное затишья, я успокаиваю себя: ладно, хоть майки какие-то подарили, уже хорошо. Вдруг звонок из администрации президента: удобно ли вам тогда-то, если нет – перенесем на другой день. Предлагалось воскресенье, а у меня в этот день как раз ни спектакля, ни съемки. Я говорю: «Удобно». Пригласили на улицу Косыгина в Президентский клуб. Я впервые увидел Коржакова не в теннисном или спортивном костюме (до этого мы встречались только на кортах), а в пиджаке. «Александр Васильевич, какой ты красивый!» Он пиджак раскрыл, а под ним оружие висит: «Сейчас увидишь, какой я красивый. Тебя президент уж пять минут ждет. Ты не имеешь права так себя вести. Хоть раз можно не опаздывать?»
Вскоре выяснилось, что Борис Николаевич – человек стеснительный, да и теннис не тот вид спорта, где он король. Главная его теннисная заслуга в том, что он взялся за эту игру после шестидесяти. Ему хватило и сил, и прилежности, и старания, чтобы выглядеть в ней достойно. Начал занятия после тяжелейшей травмы позвоночника – в 90-м в Испании совершил аварийную посадку самолет, на котором он летел.
Зрители на «матче века» отсутствовали, кроме нескольких кремлевских корреспондентов и семьи президента. Не в том смысле, как это звучит в прессе, а действительно самых близких родственников, – и четырех человек, которые, собственно говоря, и играли: Борис Ельцин с Шамилем Тарпищевым, я с Борисом Ноткиным. Из-за Шамиля мы не могли ничего поделать, хотя и Боря, и я объективно играем в теннис лучше Бориса Николаевича.
Мы старались, мы не сдавали игру, мы действительно бились. Правда, вначале Ноткин дергался: «Ну как же так, президенту забил». Ельцин все же нас давил своим авторитетом.
А ведь перед началом Ноткин мне твердил: «Если мы выходим на корт, надо играть и выигрывать, неважно против кого играем. Иначе лучше вообще не выходить». Только через три или четыре гейма мы пришли в себя. Боролись. Причем бороться оказалось занятием почти бессмысленным, потому что Тарпищев играет гениально. Он собой занимал весь корт. И куда тут попрешь? Но мы бились. До окончательного поражения. Потом отправились в бассейн и баню. Никого в баню не допустили, мы сидели в парной вчетвером. Потом пили замечательное пиво, и Борис Николаевич рассказывал, что его привозят чуть ли не из Голландии свежим, прямо в бочках.
Все мне на Косыгина, 42 было интересно. Но больше всего то, что рассказывал Борис Николаевич. А он охотно вспоминал и про неудачную поездку в Испанию, и про другие поездки. В конце концов его увела жена со словами: «Завтра у тебя тяжелый рабочий день. Ребята, пожалейте мужика, ему страной командовать». Но сидели мы не допоздна. Дальше без подробностей, но скажу, что нас пригласили к старшей дочке Бориса Николаевича, Лене. К старшей пришла и младшая – Таня. По дороге я заехал к себе домой, взял кассету, тогда клип песни «Леди Гамильтон» только-только был снят. Привез, поставил, показал. В общем, мы еще добавили. И вечер закончился очень мило и тепло.
Я серьезно отношусь к своему теннисному мастерству. Наблюдаю, как лучшие игроки наносят удары справа, слева. Пытаюсь не просто перебрасывать мяч через сетку, а с толком тренироваться. Не хочу производить впечатление чистого «чайника» – как получится, так и играешь. Нет, я стараюсь совершенствоваться.
Характерно, но в теннисе совершенствоваться полагается не только определенный период, но ежедневно и бесконечно. В теннис можно начинать учиться играть в любом возрасте. Никогда не достигнешь «потолка», всегда остается возможность расти дальше. Ты всегда найдешь круг партнеров по своему уровню. В теннисе ты будешь получать удовольствие не только от самой игры, а буквально от каждого удачного удара. Лучшие запоминаются на всю жизнь. Какая-то физиологическая радость оттого, что ты вдруг складно попал по мячику. Теннис – остроумная игра. Остроумный ответ в нем ценится, и очень высоко. В нем действительно, как в шахматах, надо просчитывать ходы.
Теннис – моя огромная любовь, но не единственная. Мир спорта мне дорог и близок. Я бесконечно его ценю за возможность импровизации, принятия нестандартных решений, причем в долю секунды. Мне недавно рассказали, как Нина Еремина в свое кольцо забросила мяч. Был Кубок европейских чемпионов или что-то другое. Она, известный ныне комментатор, а тогда капитан сборной, считалась одной из лучших баскетболисток страны. Может, я ошибаюсь в цифрах, но вроде наша команда, по-моему, ЦСКА, выигрывала первый матч с разрывом в пять очков. Остается буквально десять секунд, а счет равный. Тогда она забрасывает мяч в свое кольцо, и команда проигрывает. Но по сумме заброшенных выходит в следующий этап. Вероятно, Еремина просчитала: «Сейчас ничья, дадут дополнительную пятиминутку, кто его знает, чем дело кончится. А тут верняк». Команда сперва обалдела: «Ты чего?!» Она в ответ: «Спокойно!» Так они прошли в следующий круг. Потом сто раз этот трюк обсуждался, и в конце концов его запретили. Но как она высчитала в долю секунды: «Что же будет в дополнительной пятиминутке?!» Всех уже мандраж скрутил, а она считала!
Есть одна деталь, что абсолютно объединяет спорт и театр. Это – пауза. Ничто ни там, ни там не ценится выше. Умение выдержать паузу – признак высочайшего мастерства. Я играл со многими великими отечественными теннисистами – от Чеснокова до Савченко. Я рад, что дружу с Ольгой Морозовой, до сенсационной победы Маши Шараповой в 2004-м – единственной отечественной финалисткой Уимблдона. Оля – уникальный человек с фантастической активностью. Когда я, став известным актером, начал знакомиться с выдающимися спортсменами, я понял, что знаменитый чемпион – всегда крупная личность. Просто так наверх не выскочишь. Вероятно, есть какие-то исключения, но они только подтверждают правило.
Наша с Людой подруга Таня Тарасова – умница, интереснейший человек, фантастическая рассказчица, железный характер. Непростой и очень образованный человек Ольга Морозова, она в совершенстве знает английский и ныне поднимает теннис в Великобритании. Морозова, закончив спортивную карьеру, стала тренером сборной страны. Нянькалась, цацкалась, таскалась с тогда еще молодыми Светой Пархоменко и Ларисой Савченко. Один только ее рассказ, как она таскала на животе деньги всей команды – боялась, что украдут, – чего стоит! Как она заставляла делать всем прически. Мы гуляли под Новый год у нас дома, как вдруг она решительно сказала: «Коля, на билет в Лондон и обратно ты можешь накопить деньги?» А до этого я жаловался: «Что ж я за артист? Доживу ли я до того дня, когда смогу себе позволить поехать на Уимблдон? Или так вся жизнь проскочит, а я буду только об этом мечтать?» «Если у тебя хватит денег на билет, больше ничего от тебя не требуется». Мало того, она же еще и дотошная. «Ты получил приглашение? Ты ходил в посольство? Ты сделал визу?» Чуть ли не каждую неделю звонила мне из Лондона. Мы подружились семьями, дружим с ее мужем – остроумнейшим человеком и прекрасным тренером Витей Рубановым, с их дочкой Катей. Катя дружит с нашим Андреем. Мы бережем наши отношения, мне жалко, что мы не можем часто видеться ни с Олей и Витей, ни с Таней Тарасовой и ее супругом – знаменитым пианистом Володей Крайневым, уж больно далеко они живут. Первые – в Англии, Крайнев – в Германии, Таня еще и в Америке. Но если какая-то секундная возможность для встреч появляется, мы пытаемся ее использовать.
Отдельные слова о моей дружбе с двумя великими людьми из спорта. Шамиль Тарпищев. Более мудрого человека я не встречал. По оценке Кафельникова и Сафина – уникальный тренер. Наконец вернулся домой мой друг Вячеслав Фетисов. При всех своих спортивных регалиях, простой и добрый человек…
Одним из главных моих теннисных учителей была Ольга Морозова, чем я очень горжусь. Оля мне говорит: «Поехали на стадион, я буду с тобой работать». Выходим на корт. Она начинает делать мне замечания. Причем у нее, в отличие от полусамодеятельных тренеров, цель которых, похоже, задавить и уничтожить своего ученика, система построена на поощрении: «Все нормально у тебя, все хорошо». Все время оптимистический настрой, все время тебя хвалят.
Естественно, это очень приятно. Но главное – тебя стимулирует похвала, и начинает получаться то, что прежде казалось недостижимым. За годы увлечения теннисом я оброс разными помощниками. Есть Наташа Чулко, которой не лень со мной возиться. Она хороший тренер, работает в Сокольниках, на «Шахтере». Есть Алеша Заломов, он всегда найдет время мне покидать мяч. Сейчас Алеша приобретает авторитет судьи, он в этом деле мощно набирает очки. Говоря о судьях, невозможно не вспомнить бессменного главного теннисного арбитра Адольфа Ангелевича. Сколько ему лет, никто толком не знает. Вроде за восемьдесят, но еще не сто.
Сейчас Адольф уехал в Австралию. У него там дочка. Когда я впервые поехал с концертами в Австралию, ее там нашел, позвонил, пригласил на концерт. Он так трогательно был мне благодарен, он не ожидал, что я запомню его просьбу.
А тут он ко мне подходит, как всегда, в костюме, как всегда, деликатно и мило обращается: «Я хочу с вами попрощаться». – «Что такое, Адольф Ефимович?» – «Уезжаю, вероятно, навсегда». У дочки какие-то беды случились. Поехал к своим. Но потом смотрю, а Адольф Ефимович на Кубок Кремля по приглашению директората заявляется – и вновь старший судья соревнований. Мы все при нем, как дети.
Я снимался в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», а там была сцена, где ночью меня вышвыривают из ресторана. В кадре работали не каскадеры-профессионалы, а обычные охранники, которые меня очень берегли. Что-то не выстраивалось у оператора по свету, пришлось снимать чуть ли не ночью. Много дублей, очень холодно. И, видимо, все-таки они меня приложили, или я сам, дергаясь, не должен был так вырываться. Я ему (по роли): «Подонок, ты знаешь, щенок, кто я такой?» Он говорит: «Знаю. Кусок г…». Партнер в той ситуации был прав и все здорово сделал. Но приложил меня так, что вырубилось плечо. Прежде меня доставал «теннисный локоть» – специфическая теннисная травма. С ней я еще как-то справился, а тут вообще не мог пошевелить рукой. Пытаюсь играть – сильная физическая боль при соприкосновении ракетки с мячом. Уже не замахиваешься, уже не поворачиваешься. А мне предстоит выступать в турнире! С рукой все хуже и хуже. Тем не менее я решил начать тренироваться, но не смог. Некоторое время теннис у меня вызывал отрицательные ощущения. Я боялся идти на корт, чтобы не испытывать боль. Так продолжалось довольно долго. Он, наверное, при броске вывернул мне плечо. В конце концов я вернулся в большой теннис, но потерял удар справа и очень долго просто тыкал в мяч. Удар и сейчас до конца не вернулся – удар, которым я гордился.
Как-то раз я пришел на Петровку, впереди предстоял любительский турнир, мы с сыном должны были сыграть пару, а я никак не мог найти время, чтобы потренироваться. Но хоть полчаса надо побросать, мне же завтра выходить на корт. Сын не может уйти с работы, постоянный партнер Нагорянский куда-то уехал. Так я оказался один на Петровке, на старинных динамовских кортах. Тут появилась Таня Лагойская, она же в прошлом Чулко. Я ее знаю, наверное, тысячу лет, еще с той поры, когда она с Морозовой играла в сборной. Таня тут же находит мне спарринга. Какой-то человек, который недавно пришел на Петровку работать тренером. Таня кричит: «У тебя же был удар справа. Где он?» Даже она помнит, какой у меня был удар! Сколько лет прошло, он то приходит, то нет. Нет прежней стабильности. Слева я чище играю, чем справа.
Игры патриотов
Споры о противоборстве двух школ – Щукинского училища и Школы-студии МХАТ – стали уже общим местом. Считается, что мхатовская система проповедует школу переживаний, а щукинская – школу представлений. Конечно, такое определение слишком упрощенно и не совсем точно, но доля истины в нем есть, однако лучшие актеры и той, и другой стороны – в некоем смысле синтез двух направлений. Великий актер Михаил Александрович Ульянов – один из самых ярких представителей вахтанговцев. О нем говорят, что он везде играет самого себя. Но это неверно. Я видел Ульянова в спектакле «Принцесса Турандот». Ничего общего с привычным Ульяновым. Тонкая психологическая разработка роли, которая была воплощена ярко, сочно, смешно, почти по-хулигански. Сразу две школы в одном человеке? Безусловно. Но прежде всего индивидуальность, талант, могучая самобытность. Выдающаяся личность.
Спор тем не менее продолжается и, по-моему, не утихнет никогда. Размышляя о том, чья школа лучше, щукинцы утверждают, что они мхатовцев переигрывают по числу знаменитостей, то есть в каком-то измерении популярности ее у актеров-щукинцев больше. Выпускники школы-студии в ответ говорят, что все наоборот. Щукинцы тут же возразят, что чуть ли не половина их выпускников, от Чурсиной до Миронова, – самые узнаваемые актеры кино, а МХАТу такое количество кинозвезд и не снилось. Тут патриот школы-студии возмутится. Давай поспорим, скажет он. По количеству великих ролей, по-моему, мы ведем три к одному по всем статьям. И в театрах та же картина.
Щукинская школа ориентировала своих выпускников в первую очередь на Театр Вахтангова, который принципиально никогда не берет никого из других театральных вузов. За всю историю Театра Вахтангова, по-моему, там только три или четыре человека оказались приглашенными со стороны, и то чуть ли не при создании театра. И если мне будут называть, кроме Театра Вахтангова, где действительно блистают Ульянов, Яковлев, Борисова, другие, даже столичные театры, где работают выпускники Щукинского, дальше уже пожиже пойдет. Андрей Миронов – да, популярен невероятно. Он был премьером Театра сатиры. Но возьмем «Современник», становление этого театра, его лучшие годы. Здесь практически сплошная Школа-студия МХАТ. И все: от Табакова до Ефремова, от Сергачева до Мягкова – одна команда. Кто сейчас в «Современнике» из других школ? Гафт, Неёлова, кто еще?
Суперзвезды БДТ – Доронина и Басилашвили – мхатовцы. То есть мхатовцы явно перевешивают по всем статьям. Дальше оппоненты назовут Костю Райкина. Невероятный работяга, но не тот театральный взлет. Нельзя его сравнивать с Олегом Борисовым, который оканчивал Школу-студию МХАТ. Высоцкий – это МХАТ.
Нечего спорить, нас явно больше. Я это точно знаю, потому что сам варился в том же котле, где когда-то такой спор возникал довольно часто. В основном бились на эту тему в начале моего театрального пути, потом эти споры стали мне неинтересны. А по молодости я считал себя страшным патриотом и с пеной у рта отстаивал представленную статистику.
Сучья профессия
Наша подруга, актриса Таня Дербенева, вышла замуж за датчанина и отправилась жить в Копенгаген. Пригласила меня выступить в Российском культурном центре. На этот концерт одна женщина привела своего мужа, который пятнадцать лет назад эмигрировал из СССР и ненавидел все «советское», включая актеров. Он все время был в моем поле зрения и всем своим видом демонстрировал недовольство и презрение. А это, согласитесь, не может не раздражать.
Вдруг посреди концерта он встал и пошел к выходу. Затем вышел в фойе и, как мне потом рассказали, забился в истерике. Билетерши стали его успокаивать: «Что вы, перестаньте нервничать!» «Что он со мной сделал? Он меня выворачивал, он мне душу перевернул!» И плачет, плачет! Значит, все-таки действует! Это театр. Театр.
Таня мне рассказывала, что они в этой Дании без проблем дивана не могут купить. Потому что если сегодня притащат диван, который ей нравится, то завтра соседка настучит: «На какие средства? А налоги он заплатил?» Муж как переводчик русских книг получает мизер. Потому никак не может купить выбранный женой диван. Она мечтательно: «Как я его хочу». Муж отвечает: «Нам не нужны неприятности». Вот плата за «социализм с человеческим лицом»…
Этого города не существовало, он был стерт в ноль. То ли Кельн, то ли еще какой-то крупный германский центр. Восстановили буквально по кирпичику, по фотографиям. Весь город. Построили, по сути дела, заново. Сидит в нем толстая фашистская харя, пьет пиво, и ему хорошо. У него нет проблем. Думаю, мне бы сейчас гранату, сука, лимонку… Ну за что, ну почему?
Я выхожу в Москве на улицу Горького, ныне Тверскую, где ходят люди около витрин и никогда в жизни выставленных в них товаров не купят. Мой друг проработал и прожил всю жизнь в «Ленкоме», никогда не мог купить себе самой маленькой машины. Купил велосипед. Он говорит: «Сучья профессия, ненавижу театр!» Заслуженный артист. Я: «Брось, да что с тобой?» Но ведь он – не последний артист, как профессионал вполне состоялся в театре, но не в кино. Хотя интересно играет в эпизодах. У него роли, пусть не главные, он не премьер, но зато в столичном театре, одном из самых популярных в стране. У него молодая жена, маленький сын, еще школьник. Гениальный парень. «Папа, родительский комитет собирает по 50 рублей. У учительницы день рождения». Я ему: «Сынок, передай им, пожалуйста, пусть они сами пока положат свои 50 рублей, а 16-го зарплата, и я деньги верну». «Сын уходит, – говорит мой друг, – а я хочу себя убить. Ты знаешь, Коля, чего мне стоило такое произнести? Я для него кумир, отец, заслуженный артист. Пятьдесят рублей! Одна бутылка водки. И я не смог себе позволить таких неожиданных расходов». Рассчитано все, вплоть до копейки. Я снимался в сериале, пристроил туда друга, он неделю отработал, и на эти деньги семью отправил отдыхать. Ужас. Сучья профессия.
Степ бай степ
Лет семь назад ко мне подошел каскадер, с которым я работал на кинокартине «Человек с бульвара Капуцинов», зовут его Николай Астапов. Николай Александрович Астапов. «Коля, помоги». Я спросил: «Чем?» – «Хочу создать лучшую в мире школу искусств». Я поинтересовался: «Зачем тебе это надо?» – «Понимаешь, – говорит Астапов, – больно смотреть на наших артистов. Горько, противно, обидно. Рыхлые, не в форме. Надо, чтобы у нас выросли свои Бельмондо. А для этого актера надо учить сызмальства. Я хочу добиться того, чтобы со всех театральных институтов мира ко мне бежали и спрашивали: кто у вас сейчас выпускается». Я согласился: «Похвальная идея».
Я знал, кто такой этот Коля. Он – бессребреник, во-первых. И фанатик, во-вторых. Кстати, у него есть опыт педагогической работы – он преподавал сценическое движение: фехтование во ВГИКе и в Щукинском училище. В нашем театре в спектакле «Трубадур и его друзья» – парафразе «Бременских музыкантов» – Коля ставил пластику.
Я мог с ним предметно разговаривать. Спросил: «Где ты хочешь свою школу создать?» Он: «Есть такой город, называется Красноармейск». – «Где этот город?» – «В Пушкинском районе Московской области… точнее, на окраине Московской области». – «Сколько, – говорю, – там жителей?» – «Двадцать пять тысяч». В принципе для лучшей в мире школы искусств – самое оно. Так вышло, что у меня получилось ему помочь. Я отправился в Министерство культуры, где тогда был начальником Михаил Ефимович Швыдкой, а я его знаю лет сто, мы дружим семьями с тех давних пор, когда он был даже не заместителем министра, даже не начальником телеканала «Культура», а обычным театральным критиком. «Миша, так-то и так, – говорю я ему, – поверь мне, святое дело». Вопрос решился довольно быстро. Он вызвал начальника пониже, из тех, что связаны с образованием.