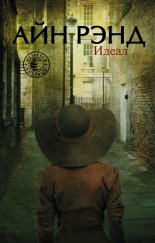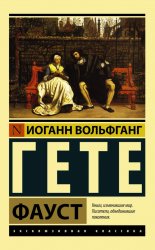Диктатор Харрис Роберт
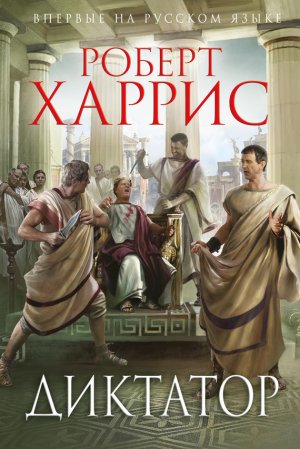
– Договорились.
Цицерон:
– Разве это не требует принятого большинством голосов решения Сената?
Цезарь:
– Я – решение Сената.
Цицерон:
– А! Значит, насколько я понимаю, ты не собираешься восстанавливать республику?
Цезарь:
– Нельзя ничего вновь отстроить из прогнившей древесины.
Цицерон:
– Скажи, ты всегда планировал такой результат – диктатуру?
Цезарь:
– Никогда! Я лишь искал уважения к своему чину и достижениям. Что же касается остального, то я просто приспосабливался к обстоятельствам по мере их возникновения.
Цицерон:
– Иногда я задаюсь вопросом: если б я явился в Галлию в качестве твоего легата – ты однажды был настолько любезен, что предложил мне это, – можно ли было бы предотвратить все случившееся?
Цезарь:
– А этого, мой дорогой Цицерон, мы никогда не узнаем.
– Он был само добродушие, – вспоминал потом Марк Туллий. – Не позволил мне увидеть даже мельком те чудовищные глубины. Я видел лишь спокойную и сверкающую поверхность.
В конце разговора Гай Юлий пожал руку Цицерона, а потом сел на своего коня и галопом поскакал в сторону виллы Помпея. Это застало врасплох его преторианскую гвардию. Солдаты быстро последовали за ним, и остальным, включая Цицерона, пришлось сползти в канаву, чтобы их не затоптали.
Копыта взметнули огромнейшее облако пыли. Мы давились и кашляли, а когда всадники проскакали мимо, выбрались обратно на дорогу, чтобы отряхнуться. Некоторое время мы стояли и смотрели, пока Цезарь и его соратники не растворились в дымке жары, – а потом начали обратное путешествие, в Рим.
Часть вторая. Возвращение. 47–43 гг. до н. э
Defendi rem publicam adulescens; non deseram senex.
Я защищал республику в юности, я не покину ее и в старости.
Цицерон, «Вторая филиппика», 44 г. до н. э.
XII
На сей раз толпы не появились, чтобы приветствовать Марка Туллия Цицерона на его пути домой. На войну ушло столько людей, что поля, мимо которых мы проезжали, выглядели необработанными, а города – пришедшими в упадок и полупустыми. Люди угрюмо таращились на нас или отворачивались.
Наша первая остановка была в Венузии. Там Цицерон продиктовал холодное письмо Теренции: «Думаю, я отправлюсь в Тускул. Будь добра, присмотри, чтобы там все было готово. Со мной, возможно, будут кое-какие люди, которые останутся там надолго. Если в ванной комнате нет ванны, пусть ее туда поставят, и пусть будет сделано также все прочее, необходимое для проживания там и для поддержания здоровья. До свиданья».
И никаких изъявлений нежности, никакого выражения нетерпеливого предвкушения, даже никакого приглашения встретиться… Я знал, что мой друг решился развестись с женой, что бы там сама она ни решила.
Мы прервали наше путешествие, остановившись на две ночи в Кумах. Окна виллы были забраны ставнями, большинство рабов – проданы. Цицерон прошел по душным, непроветренным комнатам и попытался припомнить, что из вещей исчезло: стол из цитрусового дерева из обеденной комнаты, бюст Минервы, находившийся раньше в таблинуме, табурет из слоновой кости из его библиотеки… Он стоял в спальне Теренции и рассматривал пустые полки и альковы.
Та же самая история повторилась в Формии: супруга Марка Туллия забрала все свои личные вещи – одежду, гребни, благовония, веера, зонтики… При виде пустых комнат Цицерон сказал:
– Я чувствую себя призраком, посещающим места своей прежней жизни.
Теренция ожидала нас в Тускуле. Мы знали, что она в доме, потому что одна из ее служанок высматривала нас у ворот.
Меня ужасала перспектива еще одной кошмарной сцены, вроде той, что произошла между Цицероном и его братом. Но Теренция вела себя ласковей, чем когда-либо на моей памяти, – полагаю, из-за того, что снова увидела сына после столь долгой и тревожной разлуки. Именно к Марку-младшему она подбежала прежде всего; крепко обняла его, и впервые за тридцать лет я увидел, как эта женщина плачет. Потом она обняла Туллию и, наконец, повернулась к мужу.
Позже Цицерон сказал мне, что почувствовал, как вся его горечь улетучилась, едва Теренция пошла к нему, потому что стало видно, как она постарела. Ее лицо было в морщинах, порожденных беспокойством, в волосах виднелась седина, некогда гордо выпрямленная спина слегка сутулилась…
«Только в тот момент я осознал, сколько ей пришлось выстрадать, живя в Риме Цезаря и будучи замужем за мною, – признался мой друг. – Не могу сказать, что я все еще ее люблю, но я действительно почувствовал огромную жалость, привязанность и печаль и тотчас решил не упоминать ни о деньгах, ни о собственности – с моей стороны с этим было покончено».
Супруги прильнули друг к другу, как незнакомцы, спасшиеся после кораблекрушения, а потом отодвинулись и, насколько мне известно, до конца своих дней никогда больше не обнимались.
На следующее утро Теренция вернулась в Рим разведенной. Некоторые считают это угрозой общественной морали – что брак, как бы долго он ни длился, можно разорвать так легко, без какой бы то ни было церемонии или законного документа. Но такова была древняя свобода, и по крайней мере в данном случае желание мужа и жены положить конец их партнерству было обоюдным.
Само собой, я не присутствовал при их личной беседе, но Цицерон рассказал, что она была дружеской:
– Мы слишком долго жили порознь. Среди безбрежных общественных переворотов наши прежние взаимные личные интересы исчезли.
Они условились, что Теренция поживет в их римском доме до тех пор, пока не переедет в собственный, а Марк Туллий пока останется в Тускуле.
Младший Марк решил вернуться в город с матерью, а Туллия, чей неверный муж Долабелла собирался отплыть в Африку с Цезарем, чтобы сражаться с Катоном, осталась с отцом.
Если к невзгодам человеческого существования относится то, что у него могут в любой момент отобрать счастье, то одной из радостей можно назвать то, что так же неожиданно счастье может вернуться. Цицерон долго наслаждался спокойствием и свежим воздухом в своем доме на холмах Фраскати – причем теперь он мог наслаждаться этим без помех в компании любимой дочери.
Поскольку отныне это имение стало его главной резиденцией, я опишу его подробней. Там имелся верхний гимназий[60], который вел в библиотеку и который Марк Туллий назвал Лицеем в честь Аристотеля[61]: именно туда он направлялся по утрам, там составлял письма и беседовал с посетителями, и именно там в прежние дни репетировал свои речи. Оттуда он мог видеть бледные волны семи холмов Рима в пятнадцати милях от Тускула. Но, поскольку теперь от оратора совершенно не зависело, когда он попадет в Рим, он больше не волновался на сей счет и был волен сосредоточиться на своих книгах – в этом отношении диктатура, как ни парадоксально, сделала его свободным.
Под террасой лежал сад с тенистыми дорожками, какой был у Платона: в память об этом великом философе Цицерон назвал свой сад Академией[62]. Оба этих места – Лицей и Академия – были украшены красивыми греческими мраморными и бронзовыми статуями. Из них Марк Туллий больше всего любил Гермафину – похожий на двуликого Януса бюст Гермеса и Афины, глядящих в разные стороны, подаренный ему Аттиком. От фонтанов доносилась тихая музыка плещущей воды, и вкупе с пением птиц и запахом цветов это создавало атмосферу безмятежности Элизиума. Если не считать этих звуков, на холме было тихо, потому что большинство сенаторов, владельцев соседних вилл, или спаслись бегством, или были мертвы.
Там Цицерон прожил вместе с Туллией весь следующий год, не считая редких поездок в Рим. Впоследствии он считал эту интерлюдию самым приятным периодом своей жизни – и самым продуктивным, потому что выполнил данное Цезарю обязательство ограничить свою деятельность сочинительством. И такова была сила его энергии, больше не растрачиваемой на юриспруденцию и политику, сосредоточенной лишь на литературных произведениях, что за один год он создал столько книг по философии и риторике, переходя без перерыва от одной к другой, сколько большинство ученых могут создать за целую жизнь. Он задался целью изложить на латыни резюме всех главных доводов греческой философии.
Цицерон творил в необычайно быстром темпе. Обычно он поднимался с рассветом и отправлялся прямиком в библиотеку, где сверялся с нужными ему текстами и царапал заметки – у него был ужасный почерк, и я был одним из немногих, кто мог его разобрать, – а когда через час-другой я присоединялся к нему, он прогуливался по Лицею и диктовал. Часто мой друг предоставлял мне поиск цитат или даже написание целого отрывка в соответствии с набросанной им схемой. Обычно он не трудился проверять такие места, поскольку я очень хорошо научился имитировать его стиль.
Первая работа, завершенная им в тот год, была историей ораторского искусства, которую он назвал «Брут» в честь Марка Юния Брута и посвятил ему же.
Марк Туллий не видел своего юного друга с тех пор, как их палатки стояли бок о бок в военном лагере близ Диррахия. Даже выбор такой темы, как ораторское искусство, был провокационным, учитывая, что искусство это теперь не очень-то ценилось в стране, где выборы, Сенат и суды находились под контролем диктатора. «У меня есть причина горевать о том, что я вышел на дорогу жизни так поздно, что ночь, павшая на республику, застала меня прежде, чем путешествие мое подошло к концу. Но еще глубже я горюю, когда смотрю на тебя, Брут, чья юношеская карьера, начавшаяся триумфом под общие аплодисменты, была разрушена натиском злой судьбы, – писал мой друг».
«Злой судьбы»… Я был удивлен, что Цицерон рискнул опубликовать такие пассажи, тем более что Брут теперь был важным членом администрации Цезаря. Помиловав этого молодого человека после Фарсала, диктатор недавно назначил его губернатором Ближней Галлии, хотя Брут никогда не был претором, не говоря уж о том, чтобы быть консулом. Люди говорили: это потому, что Брут – сын старой любовницы Цезаря, Сервилии, и такое назначение – знак одолжения ей, но Цицерон отметал подобные разговоры:
– Цезарь никогда ничего не делает из сентиментальности. Без сомнения, он дал Бруту работу отчасти потому, что тот талантлив, но главным образом потому, что тот – племянник Катона, и для Цезаря это хороший способ посеять рознь среди своих врагов.
Марку Юнию, который наряду с определенным возвышенным идеализмом обладал также доброй долей упрямства и непреклонности своего дяди, не понравился труд, названный в его честь – как и следующий труд, «Оратор», написанный Цицероном вскоре после первого и также посвященный ему. Брут прислал из Галлии письмо, в котором говорилось, что в свое время разговорный стиль Марка Туллия был прекрасен, но слишком высокопарен как для хорошего вкуса, так и для современной эпохи: слишком полон ловких приемов, шуток и забавных интонаций, тогда как для таких работ требуется абсолютно скучная, лишенная эмоций искренность.
Я счел типичным для Брута самомнением то, что он осмеливается читать лекции величайшему оратору эпохи, уча его, как надо выступать публично, но Цицерон всегда уважал Юния за честность и отказался оскорбиться.
Это были странно счастливые, я бы сказал – едва ли не беззаботные дни. Дом старого Лукулла, находившийся по соседству и долгое время пустовавший, был продан, и новым его обитателем оказался Авл Гирций, безупречный молодой помощник Цезаря, с которым я повстречался в Галлии много лет тому назад. Теперь он был претором, хотя судебные заседания случались настолько редко, что он по большей части оставался дома, где жил вместе со старшей сестрой.
Однажды утром Гирций заглянул к нам, чтобы пригласить Цицерона на обед. Он был известным гурманом и располнел на деликатесах вроде лебедей и павлинов. Ему еще не исполнилось сорока, как почти всем в узком кругу Юлия Цезаря, и он обладал безупречными манерами и изысканным литературным вкусом. Говорили, будто Гирций написал многие «Записки» Цезаря, которые Цицерон всячески восхвалял в «Бруте» («Они как нагие фигуры, честные и красивые, лишенные всех стилистических красот, как были бы лишены одежды», – диктовал он мне, прежде чем добавить уже не для публикации: «Да, и такие же невыразительные, как человечки, нарисованные на песке ребенком»).
Марк Туллий не видел причин отвергать гостеприимство Гирция и тем же вечером зашел к нему в гости в сопровождении дочери. Так началась их малообещающая сельская дружба. Часто они приглашали в свою компанию и меня.
Однажды Цицерон спросил, может ли он дать Гирцию что-нибудь в обмен за все великолепные обеды, которыми наслаждается, и тот ответил – да, вообще-то, может: Цезарь настаивает, чтобы он, Авл Гирций, изучал философию и риторику, если представится такая возможность, «у ног мастера», и он оценил бы кое-какие наставления. Мой друг согласился и начал давать ему уроки декламации, схожие с теми, какие в юности сам брал у Аполлония Молона. Занятия проходили в Академии рядом с водяными часами, где Цицерон учил, как запоминать речь, как дышать, как беречь голос и как делать руками жесты, которые лучше донесли бы мысль до слушателей.
Гирций похвалился новыми навыками перед своим другом, Гаем Вибием Пансой, еще одним молодым офицером из галльского штата Цезаря, назначенным в конце года сменить Брута на посту губернатора Ближней Галлии. В результате в этом году Панса тоже стал регулярным посетителем виллы Цицерона и учился, как лучше говорить на публике.
Третьим учеником этой неофициальной школы стал Кассий Лонгин, закаленный в битвах и уцелевший после экспедиции Красса в Парфию, бывший правитель Сирии, которого Цицерон видел в последний раз на военном совете на острове Керкира. Как и Брут, на чьей сестре Кассий был женат, он сдался Цезарю и был помилован, а теперь нетерпеливо ожидал повышения. Я всегда считал, что он – тяжелый собеседник, неразговорчивый и амбициозный, и Марку Туллию тоже не слишком нравился его подход к жизни: Кассий Лонгин был крайним эпикурейцем – придирался к еде, никогда не прикасался к вину и с фанатизмом занимался физическими упражнениями. Однажды он признался Цицерону, что величайшим сожалением в его жизни является то, что он принял помилование Цезаря. Это с самого начала глодало его душу, и спустя шесть месяцев после того, как Лонгин сдался, он попытался убить Цезаря, когда диктатор возвращался из Египта после смерти Помпея. Он бы преуспел в своих намерениях, если б Юлий причалил на ночь к тому же самому берегу реки Сигнус, что и триремы Кассия, но вместо этого диктатор неожиданно выбрал противоположный берег. К тому времени стояла уже слишком поздняя ночь, и он находился слишком далеко от Кассия, чтобы до него можно было добраться.
Даже Цицерона, которого нелегко было потрясти, встревожило это неосторожное признание, и он посоветовал ученику не повторять его больше нигде – и уж точно не под его крышей, чтобы это не услышали Гирций или Панса.
И, наконец, я должен упомянуть четвертого визитера, во многих отношениях наименее располагающего к себе из всех. Это был Публий Корнелий Долабелла, заблудший муж Туллии. Она считала, что он в Африке, участвует в кампании Цезаря против Катона и Сципиона, но в начале весны Авл Гирций получил донесение, что эта кампания закончена и Цезарь только что одержал великую победу. Прервав свое обучение, Гирций поспешил в Рим, а несколько дней спустя, рано утром, гонец доставил Марку Туллию письмо: «От Долабеллы его дорогому тестю Цицерону. Имею честь сообщить, что Цезарь разбил врага и что Катон умер от собственной руки. Я прибыл в Рим этим утром, чтобы сделать официальное сообщение в Сенате. Я остановился в своем доме, и мне сказали, что Туллия с тобой. Позволишь ли ты явиться в Тускул и повидаться с двумя людьми, которые для меня дороже всех на свете?»
– Потрясение следует за потрясением, которое следует за потрясением, – заметил Цицерон. – Республика разбита, Катон мертв, а теперь мой зять просит дозволения повидать свою жену.
Он уныло уставился на ландшафт, уходящий к далеким холмам Рима, голубым в свете раннего весеннего утра, и добавил:
– Мир без Катона будет совсем другим.
Он послал раба за Туллией и, когда та пришла, показал ей письмо. Молодая женщина так часто рассказывала о жестоком обращении с ней Долабеллы, что я, как и Цицерон, решил, что она откажется с ним повидаться. Но вместо этого Туллия сказала, что это решать ее отцу и, что бы тот ни решил, ее это не слишком интересует.
– Что ж, если ты и вправду так думаешь, я позволю ему приехать, – проговорил Цицерон. – Хотя бы только затем, чтобы высказать, что я думаю о его обращении с тобой.
– Нет, отец! – быстро сказала Туллия. – Умоляю, не надо, пожалуйста! Он слишком горд, чтобы его распекать. Кроме того, винить следует только меня – еще до того, как я вышла за него замуж, все меня предупреждали, каков он.
Марк Туллий колебался, не уверенный, как поступить, но в конце концов желание узнать из первых рук, что случилось с Катоном, перевесило нежелание принимать у себя такого подлеца – между прочим, подлеца не только в роли мужа, но и в роли демагога-политика пошиба Катилины или Клодия, ратующего за списание всех долгов. Цицерон попросил меня немедленно отправиться в Рим с приглашением для Долабеллы. Перед самым отъездом Туллия отвела меня в сторону и спросила, не может ли она получить письмо своего мужа. Само собой, я отдал ей письмо, и только впоследствии обнаружил, что у нее не было ни единого письма Долабеллы, адресованного лично ей, и что она хотела сохранить это на память.
К полудню я был уже в Риме – спустя полных пять лет после того, как в последний раз вступал в этот город. В изгнании я в пылких мечтах рисовал себе широкие улицы, прекрасные храмы и портики, отделанные мрамором и золотом, полные элегантных, образованных граждан. Вместо этого я нашел грязь, дым и изрытые колеями улицы – гораздо более узкие, чем они мне запомнились, неотремонтированные здания и безруких, безногих, обезображенных ветеранов, просящих милостыню на форуме.
От здания Сената до сих пор оставался лишь почерневший остов. Места перед храмами, где раньше проходили заседания суда, были заброшены. Меня изумило повсеместное запустение. Когда позже, в том же году, провели перепись населения, оказалось, что людей осталось меньше половины, по сравнению с тем, что было до гражданской войны.
Я думал, что смогу найти Долабеллу на заседании Сената, но, похоже, никто не знал, где происходят такие заседания и бывают ли они вообще в эти дни. В конце концов я отправился по адресу на Палатинском холме, который мне дала Туллия – туда, где, по ее словам, она жила с мужем. Там я и нашел Публия Корнелия в компании элегантной, дорого одетой женщины (впоследствии я узнал, что это была Метелла, дочь Клодия). Она вела себя как хозяйка дома, велев, чтобы мне принесли освежающий напиток и кресло, и я с первого взгляда понял, что Туллии не на что рассчитывать в отношениях с супругом.
Что касается Долабеллы, то он поразил меня тремя чертами: неистовой красотой лица, явной физической силой и невысоким ростом. Цицерон как-то раз пошутил: «Кто прицепил моего зятя к этому мечу?»
Этот карманный Адонис, к которому я давно был склонен испытывать величайшую неприязнь из-за того, как тот обращался с Туллией (хотя я раньше никогда с ним не встречался) прочитал приглашение моего друга и объявил, что немедленно едет вместе со мною. Он сказал:
– Мой тесть пишет, что его послание доставит его доверенный друг Тирон. Не тот ли это Тирон, который создал знаменитую систему стенографии? Тогда я очень рад с тобой познакомиться! Моя жена всегда очень тепло о тебе говорила, как о своего рода втором отце. Могу я пожать твою руку?
И таково было обаяние этого мошенника, что я почувствовал, как моя враждебность тут же начала таять.
Долабелла попросил Метелла послать за ним вдогонку рабов с его багажом, а сам присоединился ко мне в экипаже, чтобы совершить путешествие в Тускул.
Основную часть дороги он проспал.
К тому времени, как мы добрались до виллы, рабы уже готовились подать ужин, и Цицерон приказал, чтобы приготовили еще одно место. Публий Корнелий направился прямиком к кушетке Туллии и положил голову ей на колени. Спустя некоторое время я заметил, что она начала гладить его волосы.
То был прекрасный весенний вечер с перекликающимися соловьями, и несоответствие того, что нас окружало, и ужаса истории, которую разворачивал перед нами Долабелла, еще больше выбивало из колеи.
Сперва была сама битва, битва при Тапсе, в которой Сципион командовал войском республиканцев в семьдесят тысяч человек, в союзе с нумидийским царем Юбой. Они пустили в ход ударную силу слонов, чтобы попытаться прорвать строй Цезаря, но град стрел и выпущенных из баллист горящих снарядов заставил мерзких тварей запаниковать, повернуться и истоптать собственную пехоту. После этого случилось то же самое, что и при Фарсале: республиканский строй сломала железная дисциплина легионеров Цезаря. Только на сей раз Гай Юлий отдал распоряжение не брать пленных: все десять тысяч сдавшихся были перебиты.
– А Катон? – спросил Цицерон.
– Катона не было в битве, он находился в трех днях пути оттуда, командуя гарнизоном в Утике, – рассказал его зять. – Цезарь немедленно отправился туда. Я поскакал с ним во главе армии. Ему очень хотелось взять Катона в плен живым, чтобы можно было помиловать его.
– Напрасная миссия, могу тебе сказать: Катон никогда бы не принял помилование от Цезаря.
– Цезарь был уверен, что примет. Но ты прав, как всегда: Катон покончил с собой в ночь перед нашим появлением.
– Как он это сделал?
Долабелла скривился:
– Я расскажу тебе, если ты действительно хочешь знать, но этот предмет не для женских ушей.
Туллия твердо возразила:
– Я достаточно сильна, чтобы это выдержать, спасибо.
– И все равно, думаю, тебе лучше удалиться, – настаивал ее муж.
– Ни за что на свете!
– А что скажет твой отец?
– Туллия сильнее, чем кажется, – заметил Цицерон и многозначительно добавил: – Ей приходится быть сильной.
– Что ж, если ты просишь… Если верить рабам Катона, когда тот узнал, что Цезарь прибудет на следующий день, он принял ванну и пообедал, обсудил с товарищами Платона и удалился в свою комнату. Потом, оставшись в одиночестве, взял свой меч и пырнул себя сюда. – Долабелла протянул руку и провел пальцем под грудиной Туллии. – У него вывалились все внутренности.
Марк Туллий, брезгливый, как всегда, вздрогнул, но его дочь сказала:
– Это не так уж плохо.
– Ага, – отозвался Корнелий. – Но это еще не конец истории. Ему не удалось нанести себе смертельную рану, и меч выскользнул из его окровавленной руки. Его слуги услышали стоны и ворвались в комнату. Они вызвали врача. Врач явился, засунул внутренности обратно и зашил рану. Могу добавить, что Катон все это время был в полном сознании. Он пообещал, что не сделает второй попытки самоубийства, и слуги ему поверили, хотя из предосторожности забрали его меч. Но, как только они ушли, он пальцами разорвал рану и снова вытащил внутренности. Это его убило.
Смерть Марка Порция Катона произвела на Цицерона огромное впечатление. Когда ее жуткие подробности стали более широко известны, нашлись те, кто счел их доказательством безумия Катона. Такова, несомненно, была точка зрения Гирция. Но Марк Туллий с этим не согласился.
– Он мог бы избрать более легкую смерть. Он мог броситься с какого-нибудь здания, или вскрыть себе вены в теплой ванне, или принять яд. Вместо этого он выбрал именно такой способ – вытащить свои внутренности, как во время человеческого жертвоприношения, – чтобы продемонстрировать силу воли и презрение к Цезарю. С философской точки зрения, это была хорошая смерть – смерть человека, который ничего не боится. Вообще-то, я бы осмелился даже сказать, что он умер счастливым. Ни Цезарь, ни какой-либо другой человек – вообще ничто в мире не сможет к нему прикоснуться.
На Брута и Кассия (оба они были в родстве с Катоном, один – по крови, другой – благодаря браку) эта смерть оказала еще большее воздействие. Брут написал Цицерону из Галлии, спрашивая, не сложит ли тот панегирик его дяде. Письмо прибыло как раз в тот момент, когда оратор узнал, что, согласно завещанию Катона, он назначен одним из опекунов его сына. Как и остальные, принявшие помилование Цезаря, Цицерон был пристыжен самоубийством Марка Порция, и поэтому он презрел риск оскорбить диктатора и выполнил просьбу Брута, продиктовав мне короткое произведение «Катон» меньше чем за неделю.
«Яркий и в мыслях, и внешне; безразличный к тому, что говорят о нем люди; презирающий славу, титулы и украшения, а еще более – тех, кто их ищет; защитник закона и свобод; страж интересов республики; пренебрегающий тиранами, их вульгарностью и самонадеянностью; упрямый, приводящий в ярость, резкий, догматичный; мечтатель, фанатик, мистик, солдат; пожелавший под конец вырвать внутренности из собственного живота, лишь бы не подчиниться завоевателю – только Римская республика могла породить такого человека, как Катон, и только в Римской республике такой человек, как Катон, хотел жить».
Примерно в то же время Цезарь вернулся из Африки и вскоре после возвращения, в разгар лета, наконец-то организовал четыре отдельных триумфа, последовавшие один за другим, которые отмечали его победы в Галлии, на Черном море, в Африке и на Ниле – такого эпического самовосхваления Рим еще никогда не видывал.
Цицерон переехал в свой дом на Палатине, чтобы присутствовать при триумфах, хотя и нельзя сказать, чтобы ему этого хотелось. «В гражданской войне, – как он написал своему старому другу Сципиону, – победа всегда кичлива».
В Большом Цирке состоялось пять охот на диких зверей и шуточная битва с участием слонов, а в озере, выкопанном рядом с Тибром, – морское сражение. В каждом квартале города шли представления, а на Марсовом поле состоялись состязания атлетов, гонки колесниц и игры в память дочери диктатора Юлии. Был дан пир для всего города, на котором подавали мясо, оставшееся после жертвоприношений, а также раздавали деньги и хлеб. Бесконечные парады солдат, сокровищ и пленников вились по улицам (благородный вождь галлов, Верцингеторикс, после шести лет заточения был удушен в Карцере[63]), и день за днем мы слышали даже с террасы вульгарные песнопения легионеров:
- Вернулись мы с нашим лысым блудилой,
- Римляне, прячьте жен по домам!
- Все мешки с золотом, что вы ему одолжили,
- На галльских шлюх он потратил сам!
Но, несмотря на помпезность праздников (а может, и благодаря ей), укоризненный призрак Катона как будто витал даже над этими событиями. Когда во время африканского триумфа флот проплывал мимо и было показано, как Марк Порций вырывает себе внутренности, толпа испустила громкий стон. Говорили, что его смерть имеет особое религиозное значение, что он сделал это, чтобы навлечь на голову Цезаря ярость богов.
Когда в тот же день ось триумфальной колесницы диктатора сломалась и его вышвырнуло на землю, это было воспринято как знак божественного неудовольствия. И Цезарь отнесся к беспокойству толпы достаточно серьезно, чтобы устроить самый грандиозный спектакль из всех: ночью он на коленях поднялся по склону Капитолийского холма – слева и справа от него следовали сорок слонов, на которых ехали люди с горящими факелами, – чтобы искупить свою вину перед Юпитером за отсутствие благочестия.
Как некоторые самые верные собаки, говорят, лежат у могил своих хозяев, будучи не в силах смириться с их смертью, так в Риме находились люди, цеплявшиеся за надежду, что старая республика может внезапно вернуться к жизни. Даже Цицерон на краткое время стал жертвой подобного заблуждения.
После того как триумфы закончились, мой друг решил посетить собрание Сената. Он не собирался выступать и отправился туда отчасти ради прежних времен, а отчасти потому, что знал: Цезарь назначил несколько сотен новых сенаторов, и ему было любопытно взглянуть на них.
– Это было помещение, полное незнакомцев, – позже сказал он мне, – некоторые из них – чужестранцы, и многие не были избраны. Но, несмотря ни на что, это был все же Сенат.
Сенат собирался на Марсовом поле, в том же помещении театрального комплекса Помпея, где его созвали на срочное заседание после того, как сгорело старое здание Сената. Цезарь даже разрешил оставить на прежнем месте большую мраморную статую Помпея, и вид диктатора, председательствующего на возвышении с этой статуей за спиной, дал Цицерону надежду на будущее. Темой дебатов служило следующее: дозволить ли вернуться в Рим экс-консулу Марку Марцеллу, одному из самых непримиримых противников Цезаря, отправленному в изгнание после Фарсала и живущему на Лесбосе? Брат Марцелла Гай – магистрат, который утвердил мою манумиссию[64], – возглавлял призывы к милосердию, и он как раз завершал свою речь, когда над головами сенаторов пронеслась словно бы ниоткуда появившаяся птица, которая затем вылетела за дверь. Тесть Цезаря, Луций Кальпурний Пизон, немедленно встал и объявил, что это знамение: боги говорят, что вот так же следует дать Марцеллу свободу вернуться домой. Тут все сенаторы, включая Цицерона, встали, как один человек, и приблизились к диктатору, чтобы взывать к милосердию. Гай Марцелл и Пизон даже упали на колени у его ног.
Гай Юлий жестом велел всем вернуться на места и сказал:
– Человек, за которого вы просите, осыпал меня более ужасными оскорблениями, чем любой живущий ныне на земле. Однако меня тронули ваши мольбы, и знамения кажутся мне особенно благосклонным. Для меня нет нужды ставить свое достоинство превыше единодушного желания этого собрания: я прожил достаточно долго и по меркам природы, и по меркам славы. Поэтому пусть Марцелл вернется домой и мирно живет в городе своих выдающихся предков.
Это вызвало громкие аплодисменты, и несколько сенаторов, сидящих вокруг Цицерона, заставили его встать и выразить благодарность от лица всех присутствующих. Сцена так подействовала на Марка Туллия, что он забыл свою клятву никогда не говорить в незаконном Сенате Цезаря и сделал то, о чем его просили, прославляя диктатора в лицо в самых экстравагантных выражениях:
– Ты как будто победил саму Победу – теперь, когда уступил побежденному все, что завоевала тебе Победа. Ты воистину непобедим!
Цицерону внезапно показалось вероятным, что Гай Юлий может править как «первый среди равных», а не как тиран.
«Думаю, я увидел некое подобие возрождения конституционной свободы», – написал он Сульпицию.
В следующем месяце Марк Туллий молил о помиловании для еще одного изгнанника, Квинта Лигария – сенатора почти столь же отвратительного Цезарю, как и Марцелл. И снова Гай Юлий выслушал его и вынес приговор в пользу милосердия.
Но мнение, что это в конечном итоге приведет к реставрации республики, было иллюзией. Несколько дней спустя диктатор в спешке покинул Рим, чтобы вернуться в Испанию и разобраться с восстанием, возглавленным сыновьями Помпея Великого – Гнеем и Секстом. Авл Гирций рассказал Цицерону, что Цезарь был в ярости. Многие из мятежников были людьми, которых он помиловал с условием, что те не возьмутся больше за оружие, а теперь они предали его великодушие. Гирций предупредил, что больше не будет никаких милосердных деяний и никаких снисходительных жестов.
Марку Туллию настоятельно посоветовали ради собственного же блага держаться подальше от Сената, не лезть на рожон и заниматься только философией: «На сей раз это будет бой насмерть».
Туллия снова забеременела от Долабеллы – как она мне сказала, это произошло во время визита ее мужа в Тускул. Сперва она пришла в восторг от этого открытия, посчитав, что это спасет ее брак, и Публий Корнелий как будто тоже был счастлив. Но когда Туллия вернулась в Рим с Цицероном, чтобы присутствовать на триумфах Цезаря, и отправилась в дом, который делила со своим мужем, собираясь сделать ему сюрприз, то обнаружила в своей кровати спящую Метеллу. Это было ужасное потрясение, и до сего дня я чувствую бесконечную вину, что не предупредил ее о том, что видел во время своего предыдущего визита в этот дом.
Дочь Цицерона спросила моего совета, и я убеждал ее без промедления развестись с Долабеллой. Ребенок должен был появиться на свет через четыре месяца, и, если б она все еще была замужем, когда родит, Долабелла, согласно закону, получил бы право забрать его, однако, буде она разведена, ситуация стала бы куда сложней. Публию Корнелию пришлось бы отвести ее суд, чтобы доказать свое отцовство, и тогда, благодаря отцу Туллии, в ее распоряжении, по крайней мере, был бы самый лучший адвокат из всех возможных.
Она поговорила с Цицероном, и тот согласился: ребенок долже был стать его единственным внуком, и он не собирался смотреть, как этого малыша отберут и вверят заботам Долабеллы и дочери Клодия.
Поэтому в то утро, когда Публий Корнелий должен был уехать вместе с Цезарем на войну в Испанию, Туллия в сопровождении отца отправилась в его дом и сообщила, что их брак окончен, но она желала бы сама заботиться о ребенке. Цицерон рассказал мне, как отреагировал на это Долабелла:
– Негодяй просто пожал плечами, пожелал ей удачи с ребенком и сказал, что, конечно, тот должен остаться с матерью. А потом оттащил меня в сторонку, чтобы сообщить, что в данный момент никоим образом не может возвратить ее приданое и надеется, что это не повлияет на наши отношения! Что тут скажешь? Вряд ли я могу позволить себе нажить врага из числа ближайших сподвижников Цезаря. К тому же я до сих пор не могу заставить себя окончательно его невзлюбить.
Цицерон мучился и винил себя за то, что довел ситуацию до такой беды.
– Я должен был настоять на том, чтобы она развелась, в тот самый миг, когда услышал о его поведении. А теперь как ей быть? Брошенная мать в возрасте тридцати одного года со слабым здоровьем и без приданого едва ли имеет хорошие брачные перспективы.
Если кто и должен сочетаться браком, мрачно осознал Цицерон, так это он сам, как бы мало ему того ни хотелось. Ему нравилось новое холостяцкое положение, он предпочитал жизнь со своими книгами жизни с женой. Теперь ему сравнялось шестьдесят, и, хотя он все еще был хорошо сложен, сексуальное желание, даже в юности никогда не являвшееся сильной частью его натуры, угасало. Да, он стал флиртовать больше по мере того, как становился старше. Ему нравились пирушки в компании юных женщин – как-то раз он даже присутствовал за одним столом с любовницей Марка Антония, актрисой Волумнией Киферидой, выступавшей обнаженной, – поступок, который в прошлом мой друг ни за что бы не одобрил. Но он ограничивался бормотанием комплиментов на обеденном ложе и время от времени отправлял на следующее утро с гонцом любовную поэму.
К несчастью, теперь ему необходимо было жениться, чтобы раздобыть деньги. То, что Теренция втайне забрала свое приданое, нанесло урон его финансам, и Марк Туллий знал, что Долабелла никогда не возместит ему приданое Туллии. Несмотря на то что у Цицерона было много домов – в том числе два новых, на острове Астура рядом с Антием и в Путеолах в Неаполитанском заливе, – он едва мог позволить себе их содержать. Вы можете спросить: «Тогда почему же он не продал некоторые из них?» Но мой друг никогда так не поступал. Его девизом всегда было: «Доходы регулируются в соответствии с расходами, а не наоборот». Теперь, когда его доходы не могли больше увеличиваться, благодаря юридической практике, единственной реальной альтернативой было снова взять богатую жену.
Это низкая история. Но я с самого начала поклялся рассказывать правду, и я это сделаю.
Имелись три потенциальных невесты. Одна – Гирция, старшая сестра Авла Гирция. Ее брат безмерно разбогател, благодаря времени, проведенному в Галлии, и, чтобы сбыть эту надоедливую женщину с рук, готов был предложить ее Цицерону с приданым в два миллиона сестерциев. Но, как выразился Марк Туллий в письме к Аттику, Гирция была «просто в высшей степени уродливой», и Цицерона поражала абсурдность ситуации: его красивые дома должны быть сохранены ценой того, что он введет в них некрасивую жену.
Далее шла Помпея, дочь Помпея Великого. Раньше она была замужем за Фавстом Суллой, владевшим манускриптами Аристотеля и недавно убитым в Африке в сражении за дело Сената. Но если б Цицерон женился на ней, то Гней Помпей-младший – человек, угрожавший убить его на Керкире – стал бы его шурином. Это было немыслимо. Кроме того, Помпея очень напоминала лицом своего отца.
– Ты можешь вообразить, – сказал мне мой бывший хозяин, содрогнувшись, – каково это – просыпаться каждое утро рядом с Помпеем?
Так что оставалась наименее подходящая партия – Публия. Этой девушке исполнилось всего пятнадцать лет, и ее отец, Марк Публий, богатый всадник и друг Аттика, умер, оставив свое имущество опекунам дочери – до тех пор, пока та не выйдет замуж. Главным опекуном являлся сам Цицерон. Это была идея Аттика – «изящное решение», как он это назвал, – что Марк Туллий должен был жениться на Публии и таким образом получить доступ к ее состоянию. В этом не было ничего незаконного. Мать девушки и дядя были всецело «за», польщенные перспективой породниться с таким выдающимся человеком. И сама Публия, когда Цицерон нерешительно затронул эту тему, заявила, что почла бы за честь стать его женой.
– Ты уверена? – спросил оратор. – Я на сорок пять лет старше тебя… Я достаточно стар, чтобы быть твоим дедушкой. Ты не находишь это… неестественным?
Девушка уставилась на него в упор:
– Нет.
После того как Публия ушла, Цицерон сказал:
– Что ж, похоже, она говорила правду. Я бы и не мечтал об этом, если б ей была отвратительна сама мысль обо мне.
Он тяжело вздохнул и покачал головой.
– Полагаю, лучше довести дело до конца. Но люди отнесутся к этому очень неодобрительно.
Я не удержался от замечания:
– Тебе надо беспокоиться не о людях.
– Ты о чем? – не понял мой друг.
– Ну, о Туллии, конечно, – ответил я, удивленный, что Цицерон не принимает ее в расчет. – Что, по-твоему, почувствует она?
Оратор прищурился на меня в искреннем недоумении.
– А почему Туллия должна возражать? Я делаю это точно так же ради нее, как и ради себя самого.
– Что ж, – мягко сказал я. – Думаю, скоро ты выяснишь, что она будет возражать.
И она возражала. Цицерон сказал, что, когда он сообщил о своем решении, его дочь упала в обморок, и пару часов он боялся за ее здоровье и за здоровье ребенка. Оправившись, Туллия захотела узнать, как он вообще до такого додумался. От нее и вправду ожидают, что она будет звать это дитя мачехой? Что они будут жить под одной крышей?
Марка Туллия расстроила ее бурная реакция, однако отступать было слишком поздно. Он уже одолжил деньги у ростовщиков в ожидании состояния своей новой жены.
Ни один из его детей не присутствовал на свадебном завтраке: Туллия переехала жить к матери, чтобы быть с нею на последних стадиях беременности, а Марк попросил у отца разрешения отправиться сражаться в Испанию вместе с армией Цезаря. Цицерон сумел убедить его, что такой поступок был бы бесчестным по отношению к его бывшим товарищам, и вместо Испании Марк поехал в Афины с очень щедрым пособием, чтобы попытаться вбить немного философии в свой тупой череп.
А вот я побывал на свадьбе, которая состоялась в доме невесты.
Кроме меня, единственными гостями со стороны жениха были Аттик и его жена Филия: она сама была на тридцать лет младше своего мужа, но казалась матроной рядом с хрупкой Публией. Невеста, одетая в белое, с заколотыми наверх волосами и со священным поясом, выглядела как изысканная куколка.
Может, некоторые мужчины и могли бы пережить все это не моргнув и глазом – я уверен, что Помпей чувствовал бы себя в такой ситуации совершенно свободно, – но Цицерон испытывал такую явную неловкость, что, когда дело дошло до декламирования простой клятвы («Где ты, Гайя, буду я, Гай»), он случайно переставил имена местами – дурное предзнаменование.
После длинного праздничного пира свадебная компания пошла к дому Марка Туллия в угасающем свете дня. Он надеялся сохранить свою женитьбу в секрете и почти бежал по улицам, сторонясь взглядов прохожих, при этом твердо сжимая руку жены и словно волоча ее за собой. Но свадебные процессии всегда привлекают внимание, а его слишком хорошо знали в лицо, чтобы можно было сохранить инкогнито, поэтому к тому времени, как мы добрались до Палатина, за нами тащилась толпа человек в пятьдесят или даже больше. К тому же у дома нас ожидали несколько аплодирующих клиентов, чтобы бросить цветы над счастливой парой.
Я забеспокоился, что Цицерон может потянуть себе спину, если попытается перенести новобрачную через порог, но он легко вскинул ее на руки и быстро внес в дом, прошипев мне через плечо, чтобы я закрыл за ними дверь, и быстро!
Публия отправилась прямиком в прежние покои Теренции, где служанки уже распаковали ее вещи, чтобы приготовить ее к брачной ночи.
Марк Туллий попытался уговорить меня побыть еще немного и выпить с ним вина, но я сослался на сильную усталость и оставил его разбираться самому.
Брак этот с самого начала был бедствием. Цицерон понятия не имел, как обращаться с юной женой. К нему как будто пришел ребенок друга – чтобы остаться навсегда в его доме. Иногда оратор играл роль доброго дядюшки, восхищаясь тем, как Публия играет на лире, или поздравляя ее с законченной вышивкой. В других случаях он был ее раздраженным учителем, которого ужасало ее невежество в истории и в литературе. Но по большей части Марк Туллий пытался держаться от нее подальше. Один раз мой друг признался мне, что единственным реальным основанием для таких взаимоотношений могло бы стать вожделение, а он его попросту не испытывает. Бедная Публия – чем больше знаменитый муж игнорировал ее, тем больше она к нему льнула и тем больше он раздражался.
В конце концов, Цицерон отправился повидаться с Туллией и умолял, чтобы та снова переехала к нему. Она может родить в его доме, сказал он – роды уже приближались, – а он отошлет Публию, вернее, заставит Аттика ее отослать, поскольку находит ситуацию слишком огорчительной, чтобы справиться с нею. Туллия, расстроенная тем, что видит отца в таком состоянии, согласилась, и многострадальный Помпоний Аттик в должное время нанес визит матери и дяде Публии и объяснил, почему молодой женщине придется вернуться домой после неполного месяца замужней жизни. Он дал им надежду на то, что, как только родится ребенок, пара сможет возобновить свои отношения, но сейчас желания Туллии важнее всего. У родственников Публии практически не осталось выбора, кроме как согласиться.
Стоял январь, когда Туллия переехала в дом Цицерона. Ее доставили к дверям на носилках, и ей пришлось помочь войти внутрь. Я вспоминаю весь тот холодный зимний день очень ясно, ярко и четко. Будущая мать двигалась с трудом, и Марк Туллий хлопотал вокруг нее, говоря привратнику закрыть дверь и приказывая, чтобы в огонь добавили дров, так как он очень беспокоился, что она может простудиться. Туллия сказала, что ей бы хотелось пойти в свою комнату и лечь, и ее отец послал за доктором, чтобы тот осмотрел ее. Вскоре врач вышел к нам и доложил, что она рожает. В дом доставили Теренцию, вместе с повитухой и ее помощницами, и все они исчезли в комнате Туллии.
Вопли боли, звеневшие в доме, были вовсе не похожи на обычный голос дочери Марка Туллия – они вообще не походили ни на один человеческий голос. Это были гортанные, первобытные крики – личность несчастной женщины была полностью вытеснена болью. Я гадал – как они вписываются в философскую схему Цицерона? Может ли счастье хоть отдаленно быть связано с такой му`кой? Возможно, да. Но мой друг оказался не в силах вынести вопли и вой и вышел в сад, где ходил по кругу, час за часом, не замечая холода. В конце концов, наступила тишина, он вернулся в дом и посмотрел на меня. Мы ждали. Казалось, прошло много времени, а потом послышались шаги и появилась Теренция. Ее лицо было осунувшимся и бледным, но голос – торжествующим.
– Мальчик! – сказала она. – Здоровый мальчик – и с нею все хорошо.
«С нею все хорошо». Это было все, что имело значение для Цицерона.
Новорожденный мальчик был крепким и получил имя Публий Лентул, по родовому имени, принятому его усыновленным отцом[65]. Но Туллия не могла сама кормить младенца, и эту задачу поручили кормилице.
Проходили дни после травмирующих родов, но молодая мать как будто вовсе не становилась сильнее. Поскольку в ту зиму в Риме было очень холодно, в воздухе было предостаточно дыма, а шум, доносившийся с форума, тревожил ее сон. Было решено, что они с Цицероном должны вернуться в Тускул, где провели вместе счастливый год – там она сможет восстановить силы среди безмятежности холмов Фраскати, пока мы с Марком Туллием наляжем на его философские сочинения. Мы взяли с собой также доктора, а ребенок путешествовал со своей кормилицей, к тому же за ним присматривала целая свита рабов.
Путешествие далось Туллии нелегко. Она задыхалась и разрумянилась от лихорадки, хотя глаза ее были большими и спокойными, и она сказала, что довольна: не больна, а просто устала. Когда мы добрались до виллы, врач настоял на том, чтобы она сразу отправилась в постель, а после отвел меня в сторону и сказал, что совершенно уверен в том, что Туллия сейчас находится на последней стадии угасания и не переживет ночь. Должен ли он сообщить это ее отцу, спросил медик, или лучше это сделаю я?
Я сказал, что поговорю с Марком Туллием сам, и, собравшись с силами, пошел искать Цицерона. Он нашелся в библиотеке, где взял с полок кое-какие свитки, но даже не попытался их развернуть. Оратор сидел, уставившись прямо перед собой, и не повернулся, чтобы посмотреть на меня.
– Она умирает, не так ли? – спросил он.
– Боюсь, что да, – подтвердил я.
– Она знает?
– Доктор ей не сказал, но, думаю, она слишком умна, чтобы этого не сознавать. А ты как думаешь?
Мой друг кивнул.
– Вот почему она так рвалась сюда, в то место, с которым связаны самые счастливые ее воспоминания… Здесь она хочет умереть. – Он потер глаза. – Думаю, теперь я пойду и посижу с ней.
Я ждал в Лицее, наблюдая, как солнце опускается за римские холмы. Несколько часов спустя, когда совсем стемнело, одна из служанок пришла за мной и провела в освещенную свечами комнату Туллии. Та была без сознания, лежа на кровати с распущенными, разметавшимися по подушке волосами. Цицерон сидел на краю постели, держа ее за руку, а по другую сторону от Туллии спал ребенок. Дыхание ее было очень поверхностным и быстрым. В комнате находились и другие люди – ее служанки, кормилица ребенка, доктор – но они стояли в тени, и у меня не сохранились воспоминания об их лицах.
Оратор увидел меня и сделал знак подойти ближе. Я наклонился и поцеловал влажный лоб Туллии, а потом отступил, чтобы присоединиться к другим в полутьме. Вскоре после этого дыхание умирающей стало замедляться. Интервалы между вдохами стали длиннее, и мне то и дело чудилось, что она уже умерла, но потом она снова хватала ртом воздух. Когда же ей действительно пришел конец, все было по-другому, и ошибиться в нем было невозможно, – длинный вздох, легкая дрожь всего тела, а потом полная неподвижность: Туллия отошла в вечность.
XIII
Похороны состоялись в Риме. Во всем случившемся была лишь одна хорошая сторона: брат Цицерона Квинт, от которого оратор отдалился после той ужасной сцены в Патрах, сразу после нашего возвращения заглянул к нам, чтобы принести соболезнования, и они с Марком Туллием вместе сидели рядом с гробом, не говоря ни слова и держась за руки. В знак примирения Цицерон попросил Квинта сочинить панегирик: он сомневался, что сможет справиться с этим сам.
В остальном же это было одно из самых печальных событий, какие я когда-либо видел, – длинная процессия до Эсквилинского поля в ледяных зимних сумерках, завывания погребального пения, мешающиеся с карканьем ворон в священной роще Лабитины[66], маленькая закутанная фигурка на похоронных дрогах, измученное лицо Теренции, которая словно обратилась от горя в камень подобно Ниобе, Аттик, поддерживающий Цицерона, когда тот поднес факел к погребальному костру, и, наконец – огромная простыня пламени, внезапно взметнувшегося и осветившего палящим красным заревом наши застывшие лица, похожие на маски греческой трагедии.
На следующий день Публия появилась на пороге нашего дома вместе с матерью и дядей, дуясь из-за того, что ее не пригласили на похороны, и полная решимости переехать обратно к мужу. Она произнесла маленькую речь, которую для нее явно написали и которую она выучила наизусть:
– Муж мой, я знаю, что твоя дочь считала мое присутствие неприятным, но теперь, когда эта помеха исчезла, надеюсь, мы сможем возобновить нашу совместную супружескую жизнь и я сумею помочь тебе забыть свое горе!
Однако Цицерон не хотел забывать свое горе. Он хотел погрузиться в него, хотел, чтобы оно его поглотило.
Не сказав Публии, куда направляется, он в тот же день бежал из дома, взяв урну с прахом Туллии. Оратор переехал в дом Аттика на Квиринале[67], где на несколько дней заперся в библиотеке, ни с кем не видясь и составляя огромный указатель всего, что когда-либо было написано философами и поэтами о том, как справиться с горем и кончиной близкого человека. Он назвал этот труд своим «Утешением», а позже рассказал мне, что во время работы слышал, как пятилетняя дочь Аттика играет в своей детской в соседней комнате, в точности как делала Туллия, когда сам он был молодым адвокатом:
– Этот звук был для моего сердца острым, как раскаленная докрасна игла; он не давал мне отвлечься от моей задачи.
Обнаружив, где он, Публия начала докучать Помпонию Аттику, прося допустить ее в дом, и поэтому Цицерон снова бежал – в самое новое и самое уединенное из всех своих владений: виллу на крошечном островке Астура, в устье реки, всего в сотне ярдов от берега бухты Антия. Этот полностью необитаемый остров порос деревьями и рощицами, через которые были проложены тенистые тропинки. В этом уединенном месте Цицерон избегал любой человеческой компании. В начале дня он скрывался в густом колючем лесу, где ничто не нарушало его раздумий, кроме криков птиц, и не показывался оттуда до вечера.
«Что есть душа? – спрашивает он в своем “Утешении”. – Это не влага, не воздух, не огонь и не земляной состав. В этих элементах нет ничего, что объясняет силу памяти, ума или мысли, ничего, что помнит прошлое, предвидит будущее или постигает настоящее. Скорее, душа должна считаться пятым элементом – божественным и потому вечным».
Я остался в Риме и занимался всеми его делами – финансовыми, домашними, литературными и даже супружескими, поскольку теперь на меня свалилась обязанность отражать натиск незадачливой Публии и ее родственников, притворяясь, будто я понятия не имею, где находится Цицерон. Проходили недели, и его отсутствие становилось все труднее объяснять не только его жене, но и его клиентам и друзьям. Я сознавал, что репутация его страдает, – считалось недостойным мужчины настолько безраздельно предаваться горю. Пришло много писем с соболезнованиями, в том числе и строчка от Цезаря из Испании, и я переслал их своему другу.
В конце концов, Публия обнаружила его тайное убежище и написала ему, объявляя о своем намерении посетить его в компании своей матери. Чтобы спастись от столь пугающего столкновения, Цицерон покинул остров с прахом дочери в руках и в конце концов нашел в себе храбрость написать жене письмо, сообщив о своем желании развестись с нею. Без сомнения, с его стороны было трусостью не сказать ей об этом в лицо, но он понимал, что недостаток ее сочувствия после смерти Туллии сделал их необдуманные отношения полностью несостоятельными. Он предоставил Аттику разобраться с финансовыми деталями, которые повлекли за собой продажу одного из его домов, и пригласил меня присоединиться к нему в Тускуле, говоря, что у него есть замысел, который он желает обсудить.
Я прибыл в Тускул в середине мая – к тому времени мы с Марком Туллием не виделись больше трех месяцев. Он сидел в Академии и читал, а услышав мои шаги, повернулся и с печальной улыбкой посмотрел на меня. Меня потрясла его внешность. Он стал куда более тощим, особенно вокруг шеи, и в его отросших неприбранных волосах прибавилось седины. Но настоящие изменения лежали глубже. В ораторе ощущалось некое смирение. Оно проявлялось в замедленных движениях и в мягкости манер – его как будто разбили на части и собрали заново.
За обедом я спросил, не находит ли он болезненным возвращение туда, где провел так много времени с Туллией.
Мой друг со вздохом ответил:
– Меня, само собой, ужасала мысль о приезде сюда, но, когда я прибыл, все оказалось не так уж плохо. Я пришел к пониманию того, что человек справляется с горем, либо никогда не думая о нем, либо думая о нем постоянно. Я выбрал последнее, и здесь я, по крайней мере, окружен воспоминаниями о ней, а ее пепел предан земле в саду. И друзья были очень добры ко мне, особенно пережившие похожие утраты. Ты видел письмо, которое написал мне Сципион?
С этими словами Марк Туллий протянул мне это письмо через стол.
«Я хочу рассказать тебе то, что принесло мне немалое утешение, в надежде, что это сумеет облегчить и твою скорбь, – писал его друг. – Когда я возвращался из Азии и плыл из Эгины к Мегаре, я начал смотреть на окружающий пейзаж. Позади меня была Эгина, передо мной – Мегара, справа – Пирей, а слева – Коринф, некогда цветущие города, теперь на глазах превращающиеся в руины. Я начал думать: «Ах! Как можем мы, восковые манекены, негодовать, если один из нас, недолговечных созданий, умирает или его убивают, когда в одном-единственном месте лежат заброшенные трупы стольких городов? Возьми себя в руки, Сервий, и вспомни, что ты рожден смертным». Уверяю тебя, эта мысль придала мне немало сил. Может ли тебя действительно так сильно взволновать потеря одной хрупкой души бедной маленькой женщины? Если б ее конец не настал сейчас, она все равно должна была умереть через несколько лет, потому что была смертной».
– Никогда не думал, что Сульпиций может быть таким красноречивым, – заметил я.
– Я тоже, – согласно кивнул Марк Туллий. – Ты видишь, как все мы, бедные создания, стараемся найти смысл в смерти, даже такие старые сухие юристы, как он? Это подсказало мне идею. Предположим, мы создадим философский труд, который поможет облегчить людям страх смерти.
– Это было бы подвигом.
– «Утешение» стремится примирить нас со смертями тех, кого мы любим. Теперь давай попытаемся примирить нас с собственной смертью. Если мы преуспеем – скажи-ка, что может принести человечеству большее спасение от ужаса, чем это?
Ответа у меня не было – его заявление было неопровержимым, и мне стало любопытно, как он справится с этим делом. Так родился труд, известный теперь под названием «Тускуланские беседы», над которым мы начали работать на следующий день.
С самого начала Цицерон задумал его в пяти книгах:
1. «О страхе смерти».
2. «О перенесении боли».
3. «Об утешении в горе».