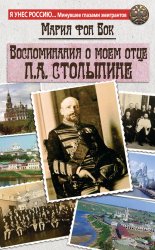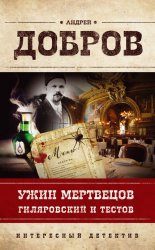Кутузов Михайлов Олег
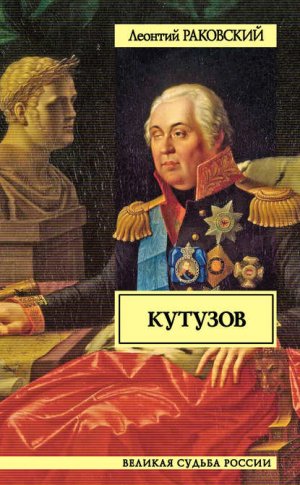
— Прошу уговорить жителей оставаться спокойно. Мы не только не сделаем им вреда, но не возьмем малейшей контрибуции. Будем заботиться о безопасности. Скажите, где граф Ростопчин?
— Я был постоянно в арьергарде и потому не знаю…
— А где император Александр и великий князь Константин?
"Если я скажу, что они в Петербурге, то вдруг Наполеон пошлет туда Особый корпус?" — подумал Акинфов и сказал:
— Ваше величество, я слишком мал для того, чтобы знать.
— Я уважаю императора Александра и очень дружен с великим князем Константином. Жалею, что вынужден воевать с ними. Скажите, много ли у вас потерь в полку?
— Мы каждый день в деле, ваше величество. Сами знаете: без потерь не обойтись!
Мюрат смотрел вдаль и думал. Он прикидывал в уме: а может быть, шурин-император и не станет сердиться на него, что он задержит движение армии? Ведь так прекрасно было бы войти в совершенно нетронутую Москву!
Всегдашняя непреодолимая жажда риска овладела его пылким гасконским сердцем. Он перестал колебаться.
— Передайте генералу Милорадовичу, что я согласен с его предложением. И только потому, что очень уважаю его! — решительно сказал Мюрат. — Пора, пора мириться! Мы будем заботиться о сохранении мира! — горячо говорил он, думая о своем.
И неаполитанский король, милостиво помахав на прощание штаб-ротмистру рукой, уехал к своим.
Акинфов с французским полковником и трубачом, ожидавшими его поодаль, поехал к аванпостам. Акинфов помнил наказ Милорадовича не торопиться и попросил у полковника разрешения полюбоваться по пути двумя гусарскими полками, выстроенными на лугу.
Полковник, видя, как милостиво говорил с русским офицером король, охотно согласился.
— Это самые любимые полки неаполитанского короля — седьмой и восьмой гусарские, — сказал полковник.
Они поехали шагом мимо пестрых эскадронов. Один полк смахивал на русских изюмцев: доломаны имел красные, ментики — синие, а рейтузы — желтые. Только вальтрап был не синий, а малиновый. Второй напоминал мариупольцев: доломан синий с желтыми шнурами, рейтузы красные, а вальтрап канареечного цвета.
Акинфов похвалил гусар.
Не торопясь, разговаривая о том о сем, они проехали к передовой.
Пули уже не жужжали. Стояла тишина. Конноегеря раскладывали костры и варили картошку, забыв о неприятеле.
Акинфов попрощался с любезным полковником и поехал к своим.
Казаки тоже занимались домашними делами. Они быстро переключились от войны к миру: связывали по четыре пики, подвешивали на них котелок и что-то в нем готовили.
Акинфов поехал к сотнику. Сотник лежал на бурке под кустом, покуривал.
— Ну как, договорились? — спросил он, приподнимаясь.
— Все в порядке, сотник. Французы не станут теснить нас. Пойдут так, как пойдем мы! — ответил Акинфов и поскакал к Милорадовичу.
Милорадовича у Поклонной горы он не застал: артиллерия и пехота арьергарда уже вступили в Москву, и туда же уехал Михаил Андреевич.
Акинфов ехал по взбудораженным, переполненным повозками, телегами и каретами московским улицам.
Настоящее столпотворение вавилонское!
Акинфов догнал Милорадовича у самого Кремля.
Он докладывал генералу об успешном выполнении такой деликатной миссии, когда впереди, среди этих проклятий, стенаний и полного уныния, они услышали веселую музыку.
— Какой подлец вздумал в такую минуту играть марш? — вскипел Милорадович и пришпорил коня.
Из Кремлевских ворот выходил с музыкой гарнизонный полк. Впереди него ехал верхом, с важным и совершенно непечальным видом генерал.
— Какая каналья приказала вам оставлять столицу с музыкой? — закричал Милорадович, подлетая к генералу.
— Ваше высокопревосходительство, в регламенте Петра Великого сказано: если по сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой, — ответил педантичный и не очень умный командующий гарнизоном.
— А в регламенте Петра Великого сказано, что надо сдавать Москву? — кричал вне себя от ярости Милорадович. — Замолчать! — замахнулся он на музыкантов нагайкой.
Музыка оборвалась на полутакте. Незадачливый законник-генерал был сконфужен, а музыканты повеселели: им было противно играть веселые мотивы, когда кругом такое горе.
Отдышавшись, Милорадович обернулся к Акинфову:
— Видно, французам очень хочется получить Москву. И если Мюрат сам заговорил о мире, то он, я думаю, пойдет на это… Поезжайте снова к неаполитанскому королю и предложите ему заключить перемирие до утра, часов так до семи, чтобы дать время выйти из города всем обозам и отсталым. Пригрозите: иначе будем обороняться в городе!
Акинфов застал казаков с тем же сотником у Дорогомиловской заставы.
Мюрат уже вертелся среди них, как свой брат. Казаки льстиво называли его "гетман", а он, польщенный, раздаривал им не только свои часы, но и часы адъютантов и выменял у сотника за золотую табакерку его серую казачью бурку, которую уже и накинул на свой попугайский наряд.
Мюрат был горд, он цвел от казачьего почтения, принимая все всерьез. Увидев Акинфова, неаполитанский король улыбнулся ему как старому приятелю.
— Ну что еще, мой молодой друг? — спросил он.
Акинфов передал новое предложение Милорадовича о перемирии.
— Хорошо, хорошо! — сразу же согласился Мюрат.
Он с вожделением смотрел на блестевшие на солнце вдали купола и башни Москвы — у Дорогомиловской заставы любоваться было нечем.
— Но только с таким условием, чтобы обозы, не принадлежащие армии, были оставлены в Москве! — сказал Мюрат.
Акинфов поспешил согласиться.
Был шестой час пополудни. Из Москвы уже успела выйти большая часть арьергарда. В версте от Коломенской заставы на левом фланге Милорадовича появились два полка улан — польский и прусский. Они двигались наперерез Рязанской дороге, по которой отходила русская армия и двигались толпы москвичей.
Милорадович послал Акинфова разыскать Мюрата, чтобы он приостановил движение улан, но на этот раз штаб-ротмистр что-то замешкался. Если бы арьергард и успел уйти, то не успели бы выехать обозы, еще двигавшиеся по запруженным тесным улицам.
Тогда нетерпеливый Милорадович поскакал сам к польским уланам. Те с удивлением смотрели на отчаянного русского генерала.
— Кто командует вами? — строго спросил Милорадович, подлетая к полякам.
— Генерал Себастиани, — ответил польский полковник.
— Где он?
— В той стороне, — показал нагайкой поляк.
Милорадович помчался туда.
— Почему не взять этого пана генерала в плен? — спросил у полковника майор.
— Возьмешь его, а потом, пане Касперский, не возрадуешься, — ответил полковник. — Это генерал Милорадович. Он запанибрата с Мюратом.
— Два сапога — пара, — прибавил, усмехаясь, майор.
— Вот то-то. А конь у него ладный.
Себастиани стоял у дома: пил воду, которую ему подавала какая-то старушка. Он издалека узнал Милорадовича — Себастиани встречался с ним в Бухаресте.
— Добрый день, дорогой Милорадович, — приветствовал Себастиани.
— В Бухаресте было лучшее утро, генерал! — весело ответил Милорадович, пожимая руку Себастиани. — И пили мы не воду, а вино… Но вы, мой милый генерал, поступаете вопреки праву: я условился с неаполитанским королем о том, что мой арьергард будет свободно выходить из города, а ваши уланы уже перерезали дорогу.
— Простите, генерал Милорадович, но я не получил никаких указаний от короля! — пожал плечами Себастиани.
— Вы не верите слову русского генерала? — возмутился Милорадович, вытаращив свои голубые глаза.
— Нет, я верю, верю! Тысячу раз верю вам, мой милый Милорадович! — ответил Себастиани и приказал уланам расположиться параллельно Рязанской дороге.
Неряшливый Себастиани и нарядный Милорадович поехали к дороге. Они стояли рядом и смотрели на то, как из Москвы проходят обозы.
Мимо них, нахлестывая лошаденок, с испугом оглядываясь на врагов, улепетывали ни живы ни мертвы москвичи. На одной телеге среди вороха узлов сидела миловидная девушка. Она без особого страха и смущения смотрела на польских улан, горделиво подкручивавших усы, посылавших по ее адресу кокетливые улыбки и циничные замечания (которых девушка, к счастью, не понимала).
— Признайтесь, генерал, что мы, французы, предобрые люди, — сказал, улыбаясь, Себастиани. — Ведь это не относится к армии. Все это могло бы быть наше!
— Ошибаетесь! — гордо ответил Милорадович, выпячивая грудь. — Вы не взяли бы этого иначе как перешагнув через мой труп! А сто тысяч, которые там, — указал он куда-то на восток, — жестоко отомстили бы за мою смерть!
Себастиани улыбался — он не возражал: перед ним лежала Москва с дворцами и несметными богатствами, по сравнению с которыми этот нищенский обоз с миловидной мещаночкой был ничто.
У Коломенской заставы, близ старообрядческого кладбища, Кутузов слез с коня и сел на скамейку.
Подперев голову рукой, Михаил Илларионович в тяжелом раздумье смотрел на оставляемую и уходящую Москву.
Уходившие москвичи шли по полям: дорогу заняла отступающая армия.
Над дорогой, над полями висели густые облака пыли, в которых померкло близившееся к закату, ставшее каким-то красным шаром, прежде яркое, радостное солнце.
Войска, выйдя из столицы, становились тут же на привал. Сегодня в полках не было слышно ни песен, ни шуток.
Полки шли молчаливые, понурые.
Зато в беспрерывном людском потоке, в разношерстной толпе москвичей, бросивших насиженные московские углы, говорили больше, чем следовало бы.
Плакали дети, причитали бабы, сокрушались мужики:
— И что с нами будет?
— Куда идем?
Выбираясь из Москвы среди войск и жителей, сбившихся в тесных улочках в одно стадо, Михаил Илларионович слушал, как доставалось и ему:
— Куда он нас завел?
— У, кривой черт!
— Что он, в полном ли уме? — честили Кутузова.
Если бы главнокомандующий был не русским человеком, ему бы, конечно, не сносить головы.
О Барклае и его отступлениях уже как-то забыли. Барклай верхом на коне стоял у Яузской заставы, сам командуя отходившими полками 1-й армии, наводил порядок.
Он говорил, как умел, по-русски:
— Бистрей, бистрей!
И никто уже не ругал его: москвичи не знали в лицо Барклая. А что коверкает русский язык — так мало ли у нас в армии немцев?! А войска, после того как увидали Барклая в Бородинском бою, когда он бросался в самые жаркие места боя и под ним убило пять лошадей (слухи о его геройстве уже шли разные: говорили, что не пять лошадей, а семь, что Барклай сам отбился от четырех французских драгун), — увидели его бесстрашие и самопожертвование и забыли старые подозрения.
Михаила Илларионовича не очень беспокоило то, что москвичи поругивают его: милые бранятся — только тешатся.
Главнокомандующий тревожился за авангард Милорадовича: город большой, французы могли входить с разных застав, и не захватили бы они обозы и артиллерию арьергарда, который двигался от Дорогомиловской заставы.
Слать гонца к Милорадовичу Кутузов не мог: из Москвы через все заставы, как весенний поток, хлынул народ, и попасть в Москву было трудно.
Наконец показался адъютант Милорадовича, гусарский ротмистр.
— Ну что, голубчик? — поднял голову Кутузов.
— Арьергард будет драться, ваше сиятельство!
— Так, так! — одобрительно кивал головой главнокомандующий, хотя думал обратное: некстати вступать в бой, еще не вышли все обозы и войска.
Но не успел гусарский ротмистр замешаться в людскую лавину, катившуюся из Москвы, как к главнокомандующему подскакал второй адъютант Милорадовича, черниговский драгун, с более приятной вестью: Милорадович послал к Мюрату парламентера, предлагает заключить перемирие. В противном случае грозится, что будет драться за каждый дом в Москве.
— Ай да Михаил Андреевич! Вот это молодец! — искренне похвалил главнокомандующий.
Он понимал, что угроза Милорадовича смешна, но, на первый взгляд, таит в себе неприятные возможности для французов. Поддастся ли на эту удочку легкомысленный Мюрат?
Фанфарон!
В войне с французами, где авангардом командует Мюрат, нужен именно такой командир арьергарда, как Милорадович, а не Платов. Милорадович подходит Мюрату: оба — рыцари, оба — актеры.
Михаил Илларионович представил себе Милорадовича: небось одет в новенький генеральский мундир, золотые эполеты, лента через плечо. Конечно, чисто выбрит, надушен, как на бал, и, может быть, еще, для пущей важности, на горле какой-либо дорогой шарф — это Милорадович любит, и это тоже в духе щеголеватого, любящего наряды Мюрата.
Жаль вот только, что Михаил Андреевич не научился правильно изъясняться по-французски — говорит чуть получше Уварова, "же сира". И то сказать: Мюрат и так по-русски не знает, как Милорадович по-французски. Говорят, неаполитанский король научился у казаков хлесткому русскому бранному слову да еще знает "пасибо".
Прошел еще час в ожидании.
Выстрелов со стороны Дорогомиловской заставы не слышалось.
Поток войск из Москвы прекратился. Уже выходили пехота и артиллерия арьергарда.
Михаил Илларионович волновался: ну что же, как там разговоры о перемирии?
Наконец примчался адъютант Милорадовича. Привез необыкновенно радостную весть:
— Милорадович выговорил перемирие до семи часов утра. Улестил, пустил французам пыль в глаза, обвел вокруг пальца.
У Кутузова отлегло от сердца: "Ай да Михаил Андреевич!"
Недаром Кутузов любил его и звал Милорадовича "моя возлюбленная".
Армия, расположившаяся на биваке у Москвы, поела каши, немного отдохнула и могла двигаться дальше.
Главнокомандующий велел армии идти к Панкову — до Панкова пятнадцать верст, к ночи дойдут.
Войска снялись с места, а коляска главнокомандующего все еще стояла у кладбища.
Михаил Илларионович ждал, когда же французы войдут в Москву.
Уже вечерело, в какой-то церкви ударили ко всенощной, и тут к Кутузову подъехал на усталом, измученном коне Карлуша Толь. Он наклонился к Кутузову и тихо сказал:
— Французы вошли в Москву.
— Это их последнее торжество! — уверенно ответил задрожавшим от слез голосом старый главнокомандующий и, поднявшись, пошел к коляске.
Глава восьмая
МОСКВА В ОГНЕ
Байрон
- Вот башни полудикие Москвы
- Перед тобой в венцах из злата
- Горят на солнце… но — увы!
- То солнце твоего заката!
Никогда победитель не вступал с меньшим торжеством, которое сопровождалось бы более зловещими признаками.
Генерал Пюибюск
Наконец то, к чему все эти месяцы так стремился Наполеон, свершилось: "великая армия" подходила к Москве.
Император был равно готов ко всему: к кровопролитной битве под стенами древней столицы и к переговорам с упрямым Кутузовым о мире.
Но, как указывали карты д'Альба, до Москвы остались последние версты.
— Вон с тех холмов Москва должна быть видна, — говорили все.
К скольким столицам мира за пятнадцать лет войн подходили победоносные войска Наполеона! Сколько больших, красивых, богатых городов отдавалось на его волю, на волю его "орлов": Милан, Венеция, Александрия, Каир, Яффа, Вена, Берлин, Лиссабон, Мадрид, Рим, Амстердам, Антверпен, Варшава!
Уже даже трудно вспомнить подробности каждой капитуляции.
В Милане армия назвала Наполеона "маленький капрал", а в Москве должна назвать "божественным императором".
Хотелось спешить туда, к этим холмам, но осторожность заставляла не торопиться и каждую минуту ждать коварного удара из-за угла, какой-либо непредвиденной скифской хитрости. Император велел двигаться осмотрительно: все равно теперь уже Москва никуда не уйдет!
Наполеон был весел: и болезнь, и Бородино с тысячами трупов и неудовольствием на него маршалов миновали. Пусть дуются они, эти глупцы, что император, вопреки их желаниям, не пустил в дело старую гвардию. Вот теперь она идет — человек к человеку, могучая, несокрушимая, идут его "ворчуны", его оплот и сила.
Кавалеристы уже на Поклонной горе. Машут киверами, касками, радостно кричат:
— Москва! Да здравствует император!
Вот оно, настало!
Наполеон невольно коснулся шпорами белых боков Евфрата. "Араб" поскакал в галоп.
Наполеон вскочил на Поклонную гору. За ним, ломая строй, теснились усачи гвардейцы. Каждому хотелось поскорее, раньше товарищей, увидеть Москву.
— Москва! Москва!
— Да здравствует император!
Солдаты кричали, подпрыгивали, бросали вверх медвежьи шапки, блестящие каски, кивера, потрясали ружьями и саблями, обнимали друг друга, смеялись как обезумевшие, воздевали руки: конец мучениям! Конец усталости, конец странствованиям, скитаниям по лесам, пескам и болотам, конец боям!
— Москва! — восторженно повторяла свита, хлопая в ладоши.
Наполеон тоже рукоплескал, радовался, как ребенок:
— Наконец вот он, этот знаменитый город! Давно пора! Заждались!
— Это как в третьей песне у Тассо в "Освобожденном Иерусалиме", когда армия Готфрида Бульонского увидала башни Иерусалима! — кричал сзади Коленкуру Сегюр. — "У каждого как бы выросли крылья на сердце и на ногах! Как легко стало! Да, это Иерусалим!" — скандировал Сегюр.
"Дурак! Сравнивает меня с каким-то Готфридом Бульонским. Гастрономический полководец! Я бы не доверил ему одно капральство, не то что армию!" — подумал Наполеон, глядя вниз.
Перед ним расстилался громадный, необычный город, в существование которого как-то уже не верилось, — казалось, он живет лишь в воображении восточных поэтов.
Сотни церквей с золотыми, яркими причудливыми куполообразными главами, дворцы всевозможных стилей, дома, выкрашенные в разнообразные краски, сады, бульвары, извилистая Москва-река, текущая по светлым лугам.
Над всей панорамой господствовали башни древнего Кремля с высокой колокольней Ивана Великого, на вершине которой сверкал в ярком солнце большой золотой крест.
Мечта. Восточная сказка. Неизведанная Азия!
Вся армия, сотни тысяч глаз с волнением смотрели на Москву. Каждый старался высказать свое впечатление, находя все новые и новые красоты: одни указывали на прекрасный дворец в восточном стиле, другие — на великолепный храм.
Старая гвардия восторгалась:
— Бесподобно! Это — Калькутта!
— А ты был в Калькутте?
— Не был… Это — Пекин!
— А ты был в Пекине?
— Не был, но буду. Маленький капрал меня доведет! — кивал гвардеец на императора.
А "маленький капрал" слез с коня и смотрел на город в трубу и те же самые части города разыскивал на громадной карте, разостланной у его ног на земле.
"Молодчина д'Альб, постарался!"
Один из императорских секретарей, Лелорнь, знавший Москву, называл Наполеону части города, давал объяснения. Наполеон повторял за ним, стараясь запомнить дикие названия:
— Пасмани. Семльяни вал. Куснески мост. Мясниски ворот. Взвз-взвиженька…
И как всегда, плохо запоминал и путал названия, но зато быстро схватывал и запоминал накрепко, навсегда топографию. И постепенно осваивался в этой азиатской концентрической планировке города.
На Поклонной горе стояли уже больше часа. Хотелось не только смотреть издалека, но быть там, среди всего этого великолепия, если оно само дается в руки.
Еще не верилось, что русские отдают без боя такое сокровище.
Наполеон ждал депутатов. Поклонная гора, на которой все кланяются городу, для него — не поклонная. Наоборот: здесь московский мэр, московский магистрат должны поклониться Наполеону, но они почему-то медлят сделать это, а терпения уже не хватает ни у кого.
Армия Наполеона стоит у Москвы, готовая схватить город. Мюрат — у Дорогомиловской заставы, Понятовский — у Калужской, вице-король — у Тверской.
Может быть, депутация ждет у городской заставы, название которой Наполеону не выговорить — такое оно несуразно длинное:
— До-ро-го-ми-ловска-я…
Это не парижское, легкое и короткое: Сен-Жермен.
Терпение истощилось. Наполеон сел на коня и махнул белой перчаткой генералу Сорбье. Раздался условный сигнальный выстрел гвардейской пушки. Он обозначал одно великолепное слово: "Вперед!"
Кавалерия бросилась в галоп; артиллерия, забыв о своих неповоротливых пушках, пыталась не отстать от кавалерии; пехота кинулась бегом, словно не прошла с боями столько сотен лье.
Топот, грохот, лязг, скрип, крики! Веселый ураган! Бескровная атака! Можно бежать, зная, что не страшно, если только не споткнешься и не упадешь под свой же громыхающий зарядный ящик, под тяжелые колеса пушек, если не собьют и не затопчут копыта взбешенных коней.
Опять всколыхнулись, поднялись густые тучи пыли и затмили радостное солнце. И в этих облаках пыли, как в облаках славы, скакал к Дорогомиловской заставе Москвы Наполеон.
Уже более получаса Наполеон с повеселевшей, оживленной свитой ожидал у Дорогомиловской заставы депутацию с ключами от Москвы. Он, удовлетворенный и счастливый, ходил не спеша по улице и предвкушал: вот сейчас появятся, как бывало не раз, смущенные, заискивающие вельможи в орденах и лентах. Будут молить о пощаде и снисхождении. Подадут на бархатной подушке городские ключи. Интересно, какие-то они в Москве? Должно быть, особенные.
Французы удивлялись, такой великолепный город — и без стен!
Гвардия чистилась, надевала парадные мундиры, готовясь церемониальным маршем вступить в Москву:
— Смотри, как наш Жак подкручивает усы!
— Хочет понравиться москвичкам.
— Ах, я вчера плохо побрился!
— Не беспокойся — у тебя седина не только на щеках. Московские красотки всюду найдут!
— Седина в бороду, бес в ребро.
— И что это не видно жителей?
— Испугались!
— Боятся нас!
— А может быть, все ушли? — высказал кто-то смелое предположение.
Гвардейцы подняли товарища на смех:
— Смотрите, что выдумал Жером: москвичи бросили город и ушли!
— Оставили тебе все богатство, все дворцы. Ой, уморил! — хохотала старая гвардия.
Сконфуженный скептик не сдавался:
— Ни одного дымка над домами. Это плохой знак!
— Поздно ты спохватился смотреть за дымом! Москвичи давно сготовили для нас обед!
Наполеон стоял на левой стороне дороги, ждал депутацию: "Если она не успела к Поклонной горе, то должна же явиться сюда".
Он уже заранее все приготовил: назначил губернатором Москвы маршала Мортье (какая честь для гвардии!), комендантом — генерала Дюронеля, интендантом, правителем Московской губернии — бывшего консула в России Лессепса, составил прокламацию жителям — а жителей что-то не видно.
— Поезжайте, поторопите! Эти скифы, вероятно, не знают, как проходят подобные церемонии. Почему так медлят? Могли бы одеться заранее. Со страху растеряли штаны! А может, спешно делают ключи, если у них нет городских стен и ворот. Могли бы взять хотя бы от Кремля. Какое это имеет значение?
Наполеон послал польских улан. Задержка вызвала разные толки.
Первыми зашептались шассеры, ближе всех стоявшие к Наполеону:
— Что за дьявольщина?
Солдаты, которые недавно высмеивали товарищей, предполагавших, что Москва пуста, теперь только пожимали плечами.
— Таким образом больших городов не покидают. Эти канальи попрятались, как кролики. Мы их разыщем! Они еще будут стоять перед нами на коленях! — обнадеживал "ворчунов" капитан 1-й роты Лефрансо.
И все-таки гвардия первая услыхала недобрые вести:
— Москва пуста.
— Все уехали.
— Пусть их дворяне уехали — не жалко. Лишь бы оставили нам свои запасы и погреба.
— И горничных, — шутили гвардейцы.
К Наполеону вернулись посланные польские офицеры. Они доложили: