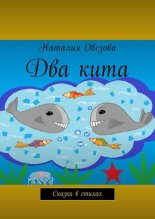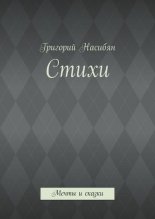Дядьки Айрапетян Валерий
Мы сидели на большом валуне у самой вершины «лысой горы» и смотрели вниз, на извивающуюся ниточку асфальтированной дороги, по которой, точно букашки, ползли редкие и крохотные машины. Июльское солнце стояло в зените, отраженный от камней и песка жар все уверенней пропекал нас со всех сторон, и спасительный еще час назад легкий ветерок сейчас уже не овевал, захлебываясь в плотно вставшем мареве. Юрик долго молчал, а потом вывалил эти четыре слова разом, будто четыре горошины встали у него поперек горла, но быстрая и болезненная судорога извлекла их и просыпала на камни.
— Это очень плохо? — спросил он меня после длительной паузы, словно я был не учеником шестого класса сельской школы, затерявшейся в лабиринте армянского нагорья, а матерым профессором урологии.
— Не знаю… Наверное, не очень хорошо, когда кровь из писюна идет…
— Это все эта сука. Она довела… — заключил Юрик, не отрывая взгляд от дороги.
— Кто?
— Эта сука.
Я не стал допытываться у одноклассника, какая сука довела его отца до мочекровия: разговоры о семейных неурядицах были у нас не в обиходе. К слову, треть моих одноклассников даже понятия не имела, кем работают их родители. О семье Юрика Саркисова (Юриком он был вписан в метрики и сердился, когда его называли Юрой) я знал только, что отец его — пару раз отмотавший срок рослый детина. О матери своей он никогда не говорил. В Арзакан они прибыли в числе последних, около года назад, до этого обживаясь то у одних родственников, то у других. Их поселили в пансионат «Наринэ», состоявший из множества двухэтажных корпусов, разбросанных по огромной территории у подножия большой, укрытой лесом горы.
Юрик ворвался в наш класс посреди второго урока, без стука, не испросив разрешения войти. Когда учительница, приходившаяся нам классной, ошалев от такой наглости новичка, сквозь сжатый рот, с трудом подавляя истеричный визг, почти шипя, велела ему выйти и войти со стуком, Юрик исполнил ее просьбу, правда на свой манер. Послушно кивнув и демонстративно крадучись на носочках, будто страшась разбудить вдруг уснувший класс, он прошел к выходу, прикрыл за собою дверь и спустя секунду с ноги засадил по ней трижды, да так, что девочки вскрикнули, а классная едва не рухнула под стол, чудом ухватившись за его край.
— Можно? — спросил он кротким голосом хорошо воспитанного человека, смирно застыв на пороге.
Рот нашей классной, вдруг ставший большим и круглым, исторгал звуки необычайной громкости, слюну, прерывистый выдох, гнев и отчаянное бессилие. Юрик, стоя на пороге, спокойно дождался спада этой звуковой вакханалии, посмотрел на растрепанную, в слезах женщину, за минуту постаревшую на дюжину лет, и ласково произнес:
— Ну что вы, хорошая моя, так… Нервы, нервы беречь надо…
И занял свободное место за последней партой.
Были крики, был директор (добрый и мягкий пожилой бакинец, мечтавший об эмиграции в США; все качал головой и приговаривал: «Ну разве так можно, Юрик?..»), угрозы исключения из школы, вызов родителей (никто не пришел) и многое другое, что могло бы вогнать в дрожь любого ученика, но не Саркисова.
Когда республика вышла из состава СССР и провозгласила независимость, Юрик первым в школе стянул с шеи пионерский галстук и повязал его на бедре.
— Я раненый красноармеец, — ответил он директору, прибежавшему на истошный вопль классной. Саркисов гордо задрал голову, уперев руки в боки. «Раненую» ногу он выставил вперед. — Вам что дороже — жизнь человека или тряпка?
Директор так растерялся, что на время окаменел, а после вывел ученика за руку из класса.
Смуглый, с высокими скулами и раскосыми глазами, прямой, надвое делящей лоб челкой, он походил на какого-то китайского армянина и почти сразу получил погоняло «Брюсли» — именно так, слитно, то, что это пишется раздельно, нам знать было не дано. Лицо Юрика усеивали странные белесые пятна, будто он загорал, обложив лоб и щеки медяками. Пятна эти не портили лица, но сообщали о носителе что-то особенное: стоило всмотреться в эти пятна, как становилось очевидным, что Юрик раз стерпит обиду, а на второй будет мстить, что в детстве он видел много насилия и к насилию стал привычен, что умеет надежно хранить секреты — свои и чужие, что чистит зубы не каждый день и после туалета частенько забывает вымыть руки. Казалось, эти бледные кружочки были исписаны неведомыми иероглифами, форма и смысл которых проступали при верной фокусировке взгляда. Сначала Юрик хоть и произвел впечатление своей выходкой, но мне не понравился: «Понтовщик дешевый», — подумал тогда и пожалел классную, женщину истеричную, одинокую, но ко мне всегда внимательную и, за прилежность вкупе с развитой не по годам манерой уважительного обращения к старшим, одаривавшую по русскому и литературе баллом сверху. Но на одной из перемен, когда пацаны шумной оравой выбежали лупить камнями по развесистой кроне грецкого ореха, Юрик, метко сбив три плода и не обнаружив у меня ни одного, подошел и, протянув йодистую ладонь, предложил разделить их: «Один тебе, один мне, один пополам давай». Я, едва удержав в слезных канальцах воду, усмирив готовые к объятию новоиспеченного братана руки, сказал, глядя куда-то мимо: «Ладно, давай», добавив через мгновение: «Спасибо». Так и подружились.
После учебы и в выходные дни мы с Юриком бродили по обширным красотам этой летящей в небеса земли, ловили скорпионов, жгли перекати-поле, перебегали на порожистых перешейках реку, сбрасывали с вершин большие камни, которые, набрав скорость, подпрыгивали высоко на ухабах и с грохотом падали в зеленеющий внизу тонкой прорезью овраг.
— Давай к реке, что ли? — сказал я, устав от тишины.
Юрик посмотрел на солнце, почесал нос и кивнул.
Сбегать с горы удобнее всего полубоком, прыжками, расслабляя тело на взлете и напрягаясь в момент приземления, чтобы, слегка отпружинив, снова вспорхнуть. Ближе к середине горы мы уже почти что летели, и не было необходимости контролировать себя, ноги сами обходили препятствия, перепрыгивали овраги, лавировали, пружинили. Легкие наши тела неслись, оставляя позади шлейф из расползающихся облачков пыли. Скорость схода возросла у самой горной подошвы, мы пулей проскочили дорогу и притормозили лишь на середине яблоневого сада, раскинутого между дорогой и рекой.
Юрик, опершись на колени, тяжело дышал. Пятна на его лице побагровели и сделали лицо яростным. Застывшие в узких щелях глаза тонули в мутном розоватом бульоне. Я подумал, что этот парень легко убьет человека — за обиду, за проявленное неуважение, за неосторожное слово — только дай повод. Сам я растянулся на земле, с трудом сглатывая густую, с металлическим привкусом слюну, и отвернувшись от солнца, глядел на друга.
— Ох, бля, — прохрипел он. — Пить охота.
Прямо возле реки, в десяти шагах друг от друга, били два родника — минеральный, выкрасивший округ себя в радиусе трех метров почву в терракотовый цвет, и обычный, с ключевой водой, от двух глотков которой щемило переносицу и гудело в голове.
Мы скатились по откосу оврага и припали к ключу. Юрик приблизился к воде и, вытянув губы трубочкой, звучно всасывал. Я сгребал ладонями. Напившись, мы умылись ледяной водой; Юрик, протирая мокрой ладонью шею, пропел «охааай» — армянский гимн наслаждению и неге. Ест армянин вкусно — «охай» (нараспев, ударение на второй слог). Пьет вкусно, крепко, сладко, холодно — «охай». Нюхнул розу свежую — «охай». И тут Юрика как током шибануло:
— Смотри! — взвизгнул он и указал пальцем на реку.
Посреди реки, на большом квадратном, цвета вареной свинины камне, уложив массивное тело в три кольца, грелась змея. Отовсюду отраженное солнце и целый сонм дрожащих бликов мешали толком разглядеть узор на спинке, но темные пятна и бугристая голова могли принадлежать в этих краях только гюрзе. Много раз приходилось слышать об этом смертоносном охотнике, воображать его, следуя описанию лесничих, но видеть — впервые.
Нас разделяли каких-то пять-семь шагов. Мы замерли. Уверен, нас посетила одна и та же мысль: если мы дернемся и побежим, то гюрза бросится за нами, настигнет и убьет.
Но тут я сделал то, чего никак не ожидал от самого себя. Единым рывком — так сгибается и разгибается резиновый прут — поднял овальный, вылизанный водой, с человеческую голову булыжник и, как толкатель ядра, выстрелил им в направлении гюрзы. Стук камня о камень смягчил влажный хруст. Моя засланная навесом посылка накрыла разомлевшую на солнцепеке голову адресата и, качнувшись раз, стала. Хвост гюрзы затрясся, тело упругими судорогами еще с минуту вырисовывало бесконечные S, а после обмякло, скатилось к краю каменного ложа и, преодолев его, повисло. Речные барашки, резво нагоняя друг друга, бодали свисающий змеиный хвост, который подрагивал, как заевшая секундная стрелка.
— Ты… ты… ты зачем это сделал, ара? — долетел до меня голос друга.
Вопрос показался дурацким: встретил змею и убил ее, чего же тут непонятного. Но интонация, с которой Юрик его задал, требовала немедленного ответа — столько было в ней боли и протеста. Когда нащупал ответ, друга уже не было рядом. Я нашел его у автобусной остановки, склоненным над пулпулаком — невысоким фонтанчиком питьевой воды. Юрик держал голову над пульсирующей, будто подпрыгивающей струйкой, бившей ему в лицо. Я встал за его спиной и молчал.
— А если ее дети дома ждут? — спросил он, не меняя положения. — Об этом ты не подумал? Представь, если бы твою маму так…
— Ты че, маму не трожь, ара! — ответил я, невольно подавшись вперед, грудью навыкат, не столько обиженный на аналогию между моей матерью и змеей, сколько отдавая дань местной традиции «убивать за маму».
— Ладно, тормози, я не то хотел сказать. — Юрик обернулся и поднял ладонь. На носу его задрожала капля. — Ты тупой, бля, раз не понимаешь.
«Тупого» я с радостью проглотил. Если бы дело дошло до драки, то через полминуты мне бы умываться кровью, как Юрик только что — водой. За неделю до летних каникул Юрик Саркисов-Брюсли за школой так отделал главного классного хулигана Володю Гукасяна, что тот, спасаясь от ударов и позора, дал деру до самого первого сентября. Странное благородство Юрика проявилось в том, что он сам принес забытый в бегах Володин портфель в пансионат «Луйс», в котором проживала семья Гукасян. Володя послал за портфелем младшую сестру Анаит, сам спускаться не стал. Через семь месяцев Анаит поскользнется на скользком речном камне, и ее — в раз переломанную щепочку — унесет быстрая весенняя река: мутное раздутое чудище, перемешивающее в своем брюхе десятипудовые камни, словно гальку для игры в го.
— Ладно, проехали, — отмахнулся я, заполненный до краев облегчением человека, которому на эшафоте зачитали указ о высочайшем помиловании.
— Я домой, в общем, — сказал Юрик после того, как тщательно вытер майкой лицо.
— Пойдем, провожу тебя, братан, делать один хер нечего…
— Точняк? — сощурил друг лукавые глаза-щелочки.
— Точняк. Мне не впадлу.
Мы пошли вверх по дороге, петлявшей точно придавленная камнем змея. За каждым поворотом открывался совершенно новый и всегда дивный вид: то пышный сад, то пестрая от цветов поляна, то выпуклые животы пригорков, нависшие над дорожными столбцами, то резвая излучина реки, разделенная надвое гигантским куском гранита, то луга, сейчас зеленые, а в начале марта укрытые невообразимым ковром подснежников, запах которых разносился на километр вширь и ввысь. За лугами бежала река, за рекой снова горы. Гуда ни глянь по периметру — всюду горы. Будто собрались братья-великаны на пир, уселись своими обширными задами на зеленый ковер, глядят на него задумчиво и ждут яств.
Ходу до Юрикиного пансионата было с полчаса, друг погрузился в свои мысли и мрачно молчал; молчал и я.
За новым поворотом показалась маленькая часовенка без дверей, и даже не часовня, а строение — три на три метра — с куполом и крестом, в темнеющей глубине которого высилась массивная каменная песочница, куда помолившийся путник мог приладить затепленную свечу. Построил ее дядя Варуж в прошлом году. Араик, его сын, знатный в округе планокур и лихач восемнадцати лет, разбился на этом повороте года три назад: сбил пять дорожных столбцов и влетел в дерево, называемое в этих краях «хлебным». Уж не знаю, при чем тут хлеб, но толстый его ствол не повалишь и танком, что уж о «копейке» Араика говорить. Очень горевал Варуж, места себе не находил целый год, можно сказать, жил на могиле сына. А потом пришел ангел во сне и велел Варужу построить на месте гибели сына молельню, и тогда придет ему утешение. Дядя Варуж был человеком верующим, поэтому внял словам ангела и немедля приступил к делу. Продал двух коров и быка, купил КамАЗ тесаных базальтовых камней, доски, цемент и железо. И приступил к работе. Еще молодой, не справивший сорокалетие, Варуж воплотил наказ свыше меньше чем за два месяца. Иногда просил братьев помочь, но только когда купол ставил и крыл — одному было не справиться. Те подавали снизу доски и железо, а прилаживал, забивал, крепил и сводил уже сам Варуж. И действительно, как только постройка была завершена, жена Варужа Эрмине понесла и родила на Пасху крепкого мальчика, названного Мишей, в честь Архангела Михаила, именно он, уверял Варуж, явился к нему в том спасительном сне.
Уже подходили к большим, выкрашенным в голубой воротам пансионата, а друг все молчал. Мне еще не приходилось бывать у Юрика в гостях, он не приглашал, а я не напрашивался, но сейчас, когда мы проделали по жаре такой пусть и пролегающий через совершенно эдемовские красоты, но от этого ничуть не легкий, путь, не пригласить меня к себе было бы нарушением всех местных традиций и вообще, что говорится, «не по-пацански».
Мы вошли в ворота, свернули вправо, прошли через чудесную еловую алею (пахнуло хвойным и прохладным), оставили позади два двухэтажных строения, когда Юрик резко, как гужевой конь, встал посреди третьего и сказал, будто в себя:
— Вот.
Он отворил обитую фанерой, с облупившейся зеленоватой краской дверь и кивнул мне: «Входи». Еще не переступив порог жилья, я уловил носом смешанный запах мочевины, прелых овощей, скисшего молока и чего-то пряного — запах, который всегда — в ста случаях из ста — выдает неустроенную человеческую жизнь, болезни, нищету и скандалы.
Юрик встал на пороге и болезненно выдохнул:
— Ой, бля.
Я выглянул из-за спины друга и увидел лежачего на полу, спиной к стене, крупного мужчину в белых трусах с большим влажным пятном в области паха, имевшим цвет сильно разбавленного красного вина. Ноги его были неловко сплетены, словно он перекатывался с живота на спину и вдруг замер. Ноги, руки и грудь мужчины были покрыты тюремными наколками: двуглавая церковь, восходящее из-за горизонта солнце, паук в паутине, какие-то ползучие, с завитками, надписи. В руке он держал пустую бутылку и таращился на нее вставшим — отсутствующим и сосредоточенным одновременно — взглядом питона, подбирающегося к оцепеневшему теплокровному. Юрик подошел к мужчине, присел на корточки и погладил его по голове.
— Эй, пап, — произнес он чужим, будто придавленным подушкой голосом.
Откуда-то сбоку донеслось хрипловатое лопотание. Казалось, взрослый человек пародирует лепет младенца.
Я посмотрел вправо и вздрогнул. С кровати, полулежа на двух подушках, на меня таращилась седая, потрепанная, с сильно уставшим лицом женщина. Несмотря на жару, она была укрыта толстым одеялом. Под глазом ее я заметил узкую полоску зеленовато-желтого синяка; с распухшей нижней губы свисала ниточка слюны.
— Буля-будя-буля-буба! — вдруг громко, не без ноток возмущения, произнесла она. — Будя-вадя!
— Щас, щас, — отозвался Юрик, вынимавший в этот момент из сжатой отцовской кисти бутылку. — Погоди.
Друг привстал, стянул со свободной кровати шерстяное клетчатое покрывало, скатал его валиком и подложил отцу под голову. Тот крякнул и тяжело задышал носом. Потом Юрик подошел к женщине и стащил с нее одеяло. Взял ее под мышки и принялся стаскивать к краю кровати. Я дернулся помочь, но Юрик цокнул и нервно замотал головой — «не надо». Друг придвинул туловище женщины к кроватному краю, на секунду отошел, как бы убеждаясь, что положение надежное и тело не свалится на пол, потом взялся на щиколотки отекших ног, кожа которых была местами серая, местами бурая и будто покрытая мелкой чешуей, и одним рывком придвинул конечности к краю. «Лежи ровно!» — наказал он женщине, а сам потянулся за стулом, сиденье которого прикрывала эмалированная грязно-голубая крышка от большой кастрюли. «Бдя-бдя-буба», — ответила женщина. Юрик придвинул стул — боком к кровати, спинкой к стене — поднял крышку, обнажив огромную, почти на все сиденье, дыру, поставил крышку ребром к тумбе, затем пододвинул цинковое ведро и аккуратно приладил его под стул.
— Иди сюда теперь.
Юрик подошел к женщине, свесил ее ноги с кровати, энергично потер руки, резво просунул их через подмышки к спине лежачей и, судя по пыхтению, пытался скрепить замком. Лицо его потонуло в подушке, и со стороны казалось, что голова парализованной вырастает из спины моего друга. Юрик прямо-таки борцовским рывком потянул на себя, усадил женщину и без паузы, не размыкая рук, рванул еще раз в направлении стула, но потерял равновесие и вместе с женщиной рухнул на пол. Бессильное ее тело, казалось, падало частями — так по дощатому настилу рассыпаются клубни картофеля из опрокинутого мешка. «А!» — вскрикнул вдруг Юрикин отец, словно озвучил упавших героев фильма. Он повернулся на спину и сильно захрапел. Я подбежал на помощь и застал друга лежащим ничком, лицом в ладонях, плачущим навзрыд. Рядом, разбросав как попало онемевшие конечности, лежала женщина и тихо скулила. Я так растерялся, что не знал, кого первого приподнять, но потом решил, что Юрика: во-первых, он лежал ближе, а во-вторых, я боялся повторения неудачного кульбита. Но Юрик опередил меня. Он резко вскочил на ноги, крикнул: «Убирайся отсюда!» и гневно толкнул меня в грудь. Я по инерции отбежал назад, споткнулся о храпящую голову Саркисова-старшего и грохнулся на него — аккурат головой в мокрый пах. Тот приподнялся, сонно огляделся, схватил мою голову тяжелой и вязкой огромной пятерней, смахнул с себя, как какую-то гусеницу, после чего повернулся на другой бок и засопел. Я откатился к двери туалета, но быстро встал на ноги, тяжело дыша, задыхаясь, ощущая поганую сухость во рту. Испуганный и униженный, я не сразу выхватил из пространства Юрика. Он стоял на том же месте и, вцепившись одной рукой в жиденькие волосы женщины, другой — методично, наотмашь — бил ее по лицу, по ушам, по голове, по глазам.
— Сука! Сука! — орал он одним только горлом. — Зачем ты заболела, тварь? Зачем ты нас подвела? Как нам жить, мразь, теперь, как жить? Ты мне больше не мама, ты тварь, сука, сука…
— Уууу, бдя-буба-буба-бабу-буля-буба, уууу…
Я вскрикнул, выскочил из комнаты и побежал. Пронеслись мимо здания корпусов, еловая аллея, уродливый квадрат железных ворот, разинутый зев дорожного въезда, пригорки, речная излучина, церквушка дяди Варужа, луга и сады. Я бежал, нагоняемый неведомым чувством, темной, быстро ползущей тенью; не оглядываясь добежал до лысой горы и дальше через сад, к реке, к двум соседствующим родникам, забрался по колено в речную воду и встал. Речные барашки все так же весело нагоняли друг друга и бодали свисавший с камня змеиный хвост — заевшую секундную стрелку — и тут меня нагнало, накрыло, проникло внутрь и распустилось черным ядовитым цветком понимание страшного и непреложного закона: что бы с нами ни произошло, ничего, ровным счетом ничего от этого не изменится.
Два мертвеца
1
Оксана сорвала мне крышу и унесла последние надежды в пылающих складках цветастого сарафана.
В ней всегда было что-то от матери, что-то от друга, от ребенка, хищника, потаскухи, недотроги, от человека; в общем, она была женщиной, не любить которую было выше моих сил.
Я опирался о перила небольшой лестницы и провожал взглядом ее уход. Она всего лишь уезжала на пару недель к родителям, но я точно знал, что нам не суждено быть вместе, что расставание неизбежно, что все кончено.
Перед тем как разойтись, мы стояли у распахнутого окна и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Груди Оксаны были стянуты майкой, они дышали. Соски упирались в тонкую ткань и мелко бугрились, точно зрелые тутовины. Соски будто бы рвались наружу и подрагивали от напряжения. Ветер плыл мимо нас, как сновидение, и мы, стоя друг против друга, тоже плыли.
После расставания жизнь казалась мне чередой обстоятельств, организованных против меня. Любую бытовую неприятность я приписывал хорошо срежиссированной диверсии: я был истощен, был на краю, невроз правил мною, как умелый кучер. Оксана никогда не любила меня; возможно, я ей нравился в самом начале: от меня, говорила она тогда, исходит надежное тепло.
Уже полгода, как я перебрался из Белгорода в Питер, шесть месяцев, как пытался устроиться в новом и пустом городе, двадцать шесть недель, как не видел Оксану, больше ста восьмидесяти дней, как сходил с ума.
Перевестись из белгородского в питерское медучилище оказалось непростым делом: меня пинали из кабинета в кабинет, и в каждом сидел человек, который как по команде пожимал плечами и рекомендовал зайти в следующий. Так я попал в отдел кадров, представленный одним работником: грузной женщиной бальзаковского возраста без обручального кольца на правом безымянном. Мне пришлось изрядно запудрить ей мозг, чтобы отсутствие петербургской прописки и гражданства России показались ей сущими пустяками. В порыве отчаяния даже пришлось выдумать некое Постановление Правительства, которое облегчало жизнь таким ребятам, как я, и рассказать пару душещипательных историй из жизни беженца. В конце изложения, как я полагал, весомых аргументов мне непременно приходилось улыбаться и одаривать нежным теплом расплывшееся от жира и скуки лицо кадровички. В последний раз, когда к улыбке я притянул всю скудную нежность своего существа, когда смотрел на нее так, словно умолял родить для меня ребенка или позволить мне умереть ради нее здесь и сейчас, лицо это дрогнуло. Я заметил, как увлажнились глубокие, оплывшие глаза, как коротко и робко загорелись они живыми угольками, как пугливо заморгали и скрылись за веками. С полминуты длилось молчание, потом она принесла какие-то списки, вписала меня туда и сама заполнила необходимые документы, прошлепав печатями и направив бумаги в деканат для окончательных заверений. Помню, как искренне сказал: «Спасибо», и как она, не в силах повернуть ко мне раскрасневшееся лицо, замахала рукой, чтобы я скорее уходил и не стеснял ее своим присутствием и чтобы не встретился взглядом с вдруг проснувшейся в ней девочкой. Господи, как же велика сила отчаяния и безысходности.
Восстановившись на четвертый — последний — курс и отучившись четверть, я был направлен на практику в Институт скорой помощи им. Джанелидзе, в отделение хирургической реанимации. Мне было все равно, куда идти и что делать, я сам почти что был при смерти, так что компания набивалась подходящая. Сейчас сам факт моего восстановления и разговор с отделом кадров казался мне невероятным, далеким и чудесным, каким видится иногда раннее детство. Повторить это еще раз я бы не смог ни при каких обстоятельствах.
Оксана по-прежнему жила во мне, говорила, ходила, истаптывая меня вдоль и поперек. Ее существование было параллельно моему собственному, а иногда и моим собственным.
2
Я вошел в палату, и позор человеческой слабости окутал меня, как банный пар ребенка. Беспомощные люди лежали тут, точно опавшие листья. В разделенном на два сквозных блока помещении неплотный поток света безуспешно боролся с тяжелым полумраком. Битва эта была обречена.
Восемь железных кроватей, выкрашенных в нечистый белый цвет, прилегали своими истерзанными спинками к тихим голубым стенам. В сумраке они казались расставленными капканами. К прямоугольным боковинам коек были привязаны запястья лежачих, чтобы, взбудораженные агонией, они не посмели причинить вреда себе, персоналу и оборудованию. Больные лежали на спинах, желто-зеленые подбородки некоторых гордо задирались к потолку, из широко отворенных ртов торчали толстые трубки воздуховодов. Молодые и старики, завсегдатаи казино и изрытые чесоткой бомжи, хрупкие девушки и подстреленные костоломы, ведомые случаем, они собирались здесь — в отделении хирургической реанимации, — как заговорщики. Жизненная дробь попавших сюда имела в своем числителе мечты и стремления, а в знаменателе — скупое предвестие смерти.
Палату наполнял запах запревших тел, запекшейся крови и сиплое дыхание аппаратов ИВЛ. Покой стоял во всех углах, как наказанный школьник. Я обвел взглядом помещение и вдруг совершенно ясно понял, что мало чем отличаюсь от этих несчастных, бездеятельных и тлеющих людей. Возможно даже, кто-то из лежащих здесь сквозь редкие прояснения сознания чувствовал острый приступ счастья, что все еще жив, или надеялся еще славно пожить; я же просто присутствовал на фоне общей жизненной лихорадки, соотносясь с этим миром лишь физиологическим циклом своего тела да совокупностью совершаемых движений, большей частью лишенных смысла.
Внезапно тишину рассек поставленный женский голос.
— Студент? — спросил голос.
Я обернулся. Передо мной стояла зрелая ухоженная женщина с выразительным бюстом и лицом принцессы Дианы.
— Студент, — ответил я.
— Хорошо. — Слова выпадали из нее, будто литые шары. — Будешь подо мной.
Я представил эту перспективу и почувствовал известное ворошение в штанах.
— Что умеешь?
Для студента медучилища умел я немало. Быстрая обучаемость, любопытство и полное отсутствие брезгливости допускали меня к самым разнообразным медицинским манипуляциям. Кровь, гной, сукровица, вонь разлагающейся плоти, зияние ран, гримасы предсмертного ужаса на лицах агонизирующих, обреченная пустота онкологических больных, наносная печаль абортичек — все это наполняло последнюю пару лет моей жизни будничным содержанием.
Я озвучил диапазон своей профессиональной компетенции, и межбровная складка сестры сошла на нет.
— Хорошо, — сказала она, уронив литой шар мне под ноги. — Оставайся на отделении. Можешь пока ознакомиться с историями.
Принцессу Диану звали Ниной Петровной, она была старшей медицинской сестрой отделения, отчего в ее голосе то и дело вспыхивали колючие властные нотки. После ее ухода я некоторое время постоял на месте, пытаясь собраться с мыслями, составить что-то вроде плана действий. Для начала я побродил по отделению, заглянул в операционную, ординаторскую, еще раз в палату, в морозильную камеру, на полу которой лежали два окоченевших мужских трупа, и снова вернулся в ординаторскую, решив ознакомиться со скудными историями болезней попавших сюда бедолаг.
3
Семен, мой напарник по практике, нашел меня погруженным в чтение. Я знал, что практиковаться буду с Семеном — своим однокурсником. Веселый, циничный и несложный человек, он отлично вписывался в мое представление о напарнике для работы в реанимации.
— Истории, значит, читаешь, болезней, значит? — смешливо спросил он, словно застал меня за постыдным занятием. — А как насчет перекурить?
Мы вышли на больничный пандус, закурили.
Было пасмурно и душно. Рядом стояла девушка с бесцветным лицом и загипсованной по самый пах ногой. Девушка соответствовала погоде.
— Хорошо, — зачем-то сказал Семен и сладостно затянулся.
После перекура мы оказались в комнате для персонала. Выпили по кофе с коньяком (в холодильнике всегда присутствовали алкогольные подношения родственников лежачих, что никак не влияло на исход: смерть вела трезвый образ жизни) и разговорились. Семен все вспоминал «насаженных» им «телок» и пару раз изобразил возвратно-поступательные движения тазом, вероятно для усиления эффекта. Я слушал и кивал: внутри меня царили штиль и забвение.
— А ты? — спросил он с интересом. — Давно шпилился?
Хорошо, что вошел доктор Головко — невысокий, лысеющий и незлобный человек, а то бы пришлось мычать в ответ Семену и стеснительно запинаться.
— Орлы! — воскликнул Головко. Темнеющий бритый подбородок его волнительно дрожал, будто сдерживал плач. — Дежурьте, пока молодые!
Головко был выпивший и, обронив фразу, сразу удалился.
— Жить по кайфу! — невпопад выпалил Семен и всосал остатки кофе с коньяком. — А любовь — херня!
Весь день мы слонялись по нашему и соседним отделениям; если встречали однокурсников, то перебрасывались с ними дежурными фразами, касающимися в основном практики, иногда выходили все вместе покурить на пандус.
Впрочем, говорил в основном Семен. Я же, завернутый в темные покрывала какой-то равнодушной тоски, следовал за ним тенью, смеялся, когда смеялись остальные, отвечал да или нет, когда спрашивали, молчал, если не требовалось говорить — одним словом, отмирал.
К вечеру мы успели скурить почти все имевшиеся у нас сигареты, навестить всех знакомых и посмотреть две полостные операции. Побродив еще немного по отделению, мы вошли в пустую палату, постелили выданные нам еще днем стерильные простыни и почти сразу же уснули.
4
Настоящее всегда наступает внезапно, оттуда, из пустоты, когда ты совсем не готов столкнуться с ним.
Ночью меня разбудила тишина.
Первые секунды я ничего не слышал, после стали различимы трескотня лампы дневного света в коридоре, работа аппаратов дыхания, неясный шум городской ночи, сопение Семена.
Я встал, желая перекурить.
Коридор мрачнел, в слабом свете тени деревьев качались на стенах, словно на волнах.
В конце коридора, у последней палаты, я наткнулся на приставленную к стене каталку; на ней — тело, покрытое простыней. Приблизившись, заметил, что с торца каталки чернеет голова, лишенная крыши черепа. Было странно видеть мертвое тело здесь, а не в холодильной камере отделения или в морге, но и это могло иметь рабочий смысл. Возможно, что-то недооформлено милицией, авария или суицид, опознание или нечто вроде этого. Быть может, его безуспешно пытались спасти, пока мы спали. Я был новичком здесь и старался не задаваться лишними вопросами.
В холодном, протравленном хлором туалете я закурил, и с первой же затяжки воспоминания, связанные с Оксаной, нахлынули и погрузили меня в сложное состояние не то тоски, не то обиды, не то надежды, а скорее — всего этого вместе.
Докурив, я вышел из туалета.
Спать расхотелось, к тому же в палате жизнеутверждающе кряхтел Семен, и туда не тянуло.
Я невольно остановился возле каталки, подошел к ней и приподнял простыню, обнажив лицо покойника. Мне сразу припомнился Раскольников: так явно в этом лице вырисовалось нечто из минувшего века — что-то от студента и нигилиста, трагично осознающего свое бытие и часто пребывающего в состоянии тягостных раздумий, проступало в этих больших, нескладных и удлиненных чертах.
Голова была сильно покорежена, лицо имело фиолетовый оттенок, на глазах лежали жирные черные круги, окаменелый рот застыл на полпути к полному раскрытию, большой и прямой нос целился в потолок. Теменная кость отсутствовала, мозг был сильно поврежден, почти всю его видимую поверхность составляла обширная гематома. Либо ДТП, либо прыжок с высоты, полагал я. Парню было лет двадцать, не больше. Застывшая и искореженная маска все еще хранила отпечаток молодой и сильной жизни. С висков и с затылка свисали длинные и острые палочки склеенных кровью волос; наверное, он был рокером, готом или просто стилягой.
На груди его я заметил медальон с изображенной на нем разноцветной спиралью. Я нажал на боковой маленький выступ — медальон щелкнул и отворился. Внутри были две фотографии, я чиркнул зажигалкой и поднес огонь ближе. Два прекрасных молодых лица открыто, не скрывая радости и сознания полной жизни, широко улыбались. Жизнь прекрасна, говорили лица. Добрый взгляд льется из широких и смелых девичьих и кротких глубоких юношеских глаз. Я защелкнул медальон, укрыл простыней голову и сел рядом с каталкой, опершись о стену. Все это как минимум странно, думал я, странно и непонятно. Как это обычно и бывает в моменты столкновения со всякого рода нелепицами, с вещами и явлениями, которые подрывают стройный порядок нашего мировидения, ум принялся усиленно подгонять логические обоснования показавшейся мне бессмыслицы.
Я мог бы объяснить себе и это, но вид парня говорил одно: «Вот она — жизнь, вот он — триумф случая, вот он — позор нашего безволия». Мозги, как застывший бараний жир, облепили волосы, и это были мозги человека, мозги моего ровесника, мозги каждого из нас, если угодно, мои мозги! Все, что происходит с другими — происходит с нами, в этом у меня не было сомнений.
Я сидел и пытался представить себе последний день жизни моего мертвого соседа.
С чего начал он свое утро, думалось мне, какими словами он убеждал сегодня себя встать с кровати и освоить еще один день? Думал ли он о своей любимой, провел ли с нею эту ночь, шептал ли ей нежности? Что ел, принял ли душ перед выходом? Почему-то мне показалось чрезвычайно важным воссоздать детали его последнего дня, найти всему некое объяснение, доказать себе справедливость этой смерти, какую-нибудь спасительную ложь в пользу неслучайности наших жизней — но ничего не выходило. Я представлял все это и исступленно смотрел на свои руки, сжимал и разжимал ладони, дышал, вслушивался в удары сердца, пытался уловить мельчайшие проявления жизни в себе, но хаос был убедительней, и мертвец, стывший в холоде безнадежной пустоты, был тому неоспоримым доказательством.
Не помню, что меня побудило встать и пойти в сторону перевязочной. Там я достал из биксов резиновые перчатки, из металлического со стеклянными дверцами шкафчика — несколько рулонов двуглавых бинтов, снял с крючка вафельное полотенце, вернулся к покойнику и откинул простыню. Перед тем как начать, еще раз открыл медальон и осветил огнем счастливые лица, потом натянул перчатки, развернул бинты и принялся перевязывать мертвую голову так, чтобы зафиксировать сложенное вчетверо полотенце на месте отсутствующей части черепа. Накидывая пас за пасом, я шел до тех пор, пока разрушенная голова не казалась просто забинтованной. Я смотрел на это каменное лицо, еще недавно умевшее так свято улыбаться, и чувствовал теперь к нему почти братскую близость и теплоту. Я представил, как было б здорово, если бы этой ночью он вернулся к любимой, лег бы с нею в постель, пригладил бы ей волосы, сказал бы, как сильно дорожит ею и как хорошо, что они есть друг у друга.
Я немного еще постоял над телом, потом собрал остатки бинтов, выбросил их, перекурил в туалете и сразу почувствовал приятную и заслуженную усталость трудяги, проделавшего тяжелую и ненапрасную работу.
Проходя мимо каталки, я даже не взглянул на нее.
Забытый крепким сном, Семен сладостно тянул спертый воздух. Я шумно раскрыл окно и улегся в постель. Луна пела в небе свою колыбельную, ветер шелестел в открытом окне, вся природа казалась сейчас полной той печалью, от которой делается на душе светлее, просторнее и как-то надежнее. Я повернулся на бок, обнял подушку и тут же заснул. Мне снилась Оксана, снилось, что мы снова были вместе, снилось, что мы снова были.
Пересечение
Во сне меня ожидал ужин.
Розовое мясо горячо дышало и текло, зазывая к себе, как похотливая дама. Потом все зашаталось и исчезло в темноте. Когда я открыл глаза, то увидел трясшего меня Семена — моего напарника по практике.
— Чего? — прогудел я.
— Смерть привезли. Вставай.
Семен фанател от хирургии и имел привычку не придавать серьезным вещам серьезного значения. К смерти он относился с издевательской агрессией. «Коза, бля», — цедил он всякий раз, наблюдая очередной летальный исход. Еще Семен не терпел света, любил полумрак и мучительно жил в освещенном мире всеобщей электрификации.
— Вашу мать! — восклицал он, если кто вдруг без злого умысла зажигал резкий свет.
Сияющий трепет вольфрама страшил его, как туриста — пещерная ночь. Уступка делалась разве что флегматичному люминесценту да пасмурному дню.
Я влез в резиновые тапки и вышел в коридор. Свет нехотя покидал свое пристанище, сонно ложился на стены и едва превозмогал натиск жирных теней.
Перед входом в операционную стояла каталка, рядом с нею — молодой врач, похожий на очеловечившегося ворона, толстая медсестра и Семен. Никто не проявлял суеты. Я подошел и врезался в стоящий стеной запах человеческого дна, обычно аммиачно-приторный, а сейчас с выраженным уксусным оттенком.
На каталке подрагивало серо-зеленое тело человека, на костных выступах оно алело, как заря. Кожа его была сплошь изрыта расчесами, засушливыми островами розовели корки, впалый живот чернел, будто сковорода. Врач, бейджик которого пояснял, что перед нами хирург Курамагамедов Анвар Ибрагимович, насупив брови, глядел на доставленного.
— Ну, как тебе гоблин? — спросил меня Семен.
«Гоблинами» именовали здесь бомжей и опустившихся алкоголиков.
— Гоблэн не гоблэн, — ответил за меня врач-птица с сильным кавказским акцентом, — а эссенцию уксусную випиль нэ мэньше литра! Гдэ только взял?!
— На хера? — подивился Семен.
— Суэцид, — хирург значительно вскинул брови. — За кайф эссенцию нэ пьют. Как зачехлится — пазавити мэня, будзэм дзэлать лапаратамыю и дрэнаж. Трэнэрофка.
— А если нет? — спросил я. — Если не зачехлится?
— «Еслы» не будзэт! — отрезал док и ушел.
Медсестра, выругавшись в адрес бомжей-самоубийц, удалилась. Мы с Семеном остались вдвоем у каталки.
— Слушай, — сказал вдруг Семен. — А он реально на Чехова похож, еб!
Я посмотрел. Истерзанное улицей тело венчала умная правильная голова. Грязь кожи и клейкие пряди не могли отнять у лица разумной сути. Редкая, прозрачная бороденка укрепляла сходство с классиком. Подбородок с глубоко вмерзшей в него грязью бил мелкую дробь, глаза горели, как у ветхозаветного пророка, иссушенные синюшные губы болезненно шевелились, тело тряслось в агонии.
— Надо бы его ошпарить, — долетел до меня голос Семена. — Уж больно вонючий.
«Ошпарить» значило обработать тело бомжа специальной дезинфицирующей смесью, имевшей сложный запах дихлофоса, ванили и огуречного лосьона. Для потенциального покойника эта процедура была вовсе не обязательной; Семен просто резвился. Напарник дико потряс похожий на огнетушитель баллон и направил его жерло на доставленного. Баллон пискнул и чихнул душным облачком, после чего разразился плотным потоком едкой пыли. Не знаю, зачем ему понадобился весь этот цирк.
Семен закончил обработку, сплюнул и поморщился:
— Ну и вонище! Да и ваще — не понимаю самоубийц. Дебилы, блядь.
Внезапно, будто протестуя Семену, Чехов выгнулся всем телом в дугу, округлил до предела глаза, заклокотал и обмяк, уже не смыкая глаз.
— Коза, бля, — процедил Семен и закрыл покойнику глаза.
Я сходил за Курамагамедовым. Доктор сказал, что перекурит и подойдет. Спустя минут десять, констатировав смерть, док стремительно зашагал к операционной.
— За мной! — бросил он нам, словно зазывал в атаку.
Мы вцепились в каталку и покатили за ним.
Доктор открыл дверь и махнул нам небрежно. Семен повел плечом и повиновался. Я вошел следом. Чехов лежал на металлическом щите каталки, голый и суровый. Бродячая жизнь оставила на его теле бесчисленные метки, точно расписывалась на нем за каждый прожитый день.
— Давай, — начал с меня Курамагамедов. — Абработка операцонного поля аднапрацетным йоданатом.
Корнцанг с марлевым тампоном в железном клюве заходил в моих руках, как ткацкий челнок.
— Тэпэрь рэжь.
Я сделал короткий штрих вдоль белой линии, но кожа не поддалась.
— Сыльней рэжь, нэ бабу гладищь! — возмутился Курамагамедов, взметнув к потолку указательный палец.
Повторный усиленный штрих глубоко рассек кожу.
— Апонэвроз, рэжь апонэвроз! — порхал надо мной док, тыча в белесую жилу.
Ткань разошлась, в ране показался желтый листок брюшины. Надрезав ее, я отворил полость живота. Живот ухнул, и нас обдало брюшной затхлостью.
— Маладэц! — с облегчением разрешившейся женщины выдохнул доктор. — Типэрь ты, — обернулся он к Семену. — Дрэнируй.
Напарник натянул перчатки, подошел к трупу, на мгновение застыл над раной, как вратарь, принимающий пенальти, и со сноровкой конвейерного автомата продолжил операцию.
Окунув в рану полую трубку и просунув в нее катетер, Семен вынул трубку, а катетер оставил. Затем ловко вдел в иглу нить и принялся шить слой за слоем, так, чтобы из штопаной раны торчал только дренажный катетер. Шил Семен так искусно, так скоро и безупречно накидывал он стежки, так отточенно двигался, что со стороны можно было подумать, будто оперирует робот.
Когда напарник завершил, доктор восхищенно каркнул и хлопнул его по спине:
— Крррасавчик, э, крррасавчик!!! Настаащий хэрург! Маладцы, студзенты. Типэрь всо убэрите и дэжурте.
Курамагамедов упорхал, нас осталось трое, включая Чехова. Мы расфасовали инструменты по контейнерам с хлорамином, перчатки и бязь кинули в грязные биксы для дальнейшей стерилизации.
— Пора Чехова на мороз, — сказал я.
Семен кивнул.
Мы довезли каталку до стальных дверей трупохранилища. Роль замка выполняла скрученная проволока. Семен нажал на выключатель и отпер дверь. Нас обдало холодом и запахом сырого мяса. Света внутри не было.
— Зашибись, темно, — оживился Семен. — Справа, вижу, вроде свободно.
Я же не видел ничего. Мы натянули перчатки. Семен руководил.
— Тебе руки, мне ноги. На раз-два бросаем.
Вцепившись в тощие конечности трупа, сняли его рывком с каталки. Чехов тяжело повис между нами, как плохо скатанный ковер. На счете два тело полетело вправо и исчезло в темноте, которая отозвалась серией тупых и гулких ударов.
— Есть, — сказал я.
— Готово, — подтвердил Семен.
Мы помылись и, засев в комнате для персонала, пили кофе, курили и молчали. Семен докурил, с наслаждением зевнул и ушел досыпать в пустую палату.
Я включил телевизор и растянулся на блеклом клетчатом диване. По «Культуре» давали симфонический концерт. Кудрявый дирижер тряс головой, как обдолбанный панк, и разил палочкой неведомого врага. Я улегся поудобнее, закрыл глаза и накрыл их сверху ладонью. Музыка то гасла, то вспыхивала множеством зарниц. Внезапно оркестр смолк, и из возникшей тишины полились знакомые пассажи второго рахманиновского концерта. Играл какой-то известный пианист. То, что он известен, я уяснил после внушительных и продолжительных аплодисментов, раздававшихся всякий раз, как прекращалась музыка. Звуки приходили из полого мрака и уносились в зияющую темноту. Пустота была плодовита, как исламская женщина. Композиции сменялись, маэстро приступал к исполнению очередной, я это понял по резко стихшим аплодисментам и даже привстал, чтобы взглянуть на этого кудесника да прочесть внизу экрана название произведения. Маэстро оказался пожилым евреем и имел могучие брови; от игры их подкидывало вверх и разводило в стороны, как Дворцовый мост. Встретив на улице, примешь такого за постаревшего физика, скептика и ворчуна. За пределами рояля ему была уготована незавидная роль старика, за роялем же он поигрывал вечностью, как младенец. Зачинаемые им аккорды принадлежали Листу, что-то там про «Ад» Данте. Я снова прилег и закрылся от света, но в ординаторскую вошла врач Степанова, так что мне пришлось встать, изобразив бодрость и готовность к труду.
— Там аварию привезли, девушка с разрывом органов, пойдем, поможешь, если что, — сказала она и вышла из кабинета.
Я влепил ступни в тапочки и поспешил в операционную.
Из операционной доносились короткие спешные команды и следовавшая за ними возня. Нацепив маску, я вошел. Вокруг операционного стола сгрудились врачи, среди них я узнал начмеда клиники, известного профессора, с лицом положительного советского киногероя. Несмотря на административную должность, начмед продолжал оперировать.
Меня удивило непривычное для ночи обилие врачей, присутствие начмеда и чуждая персоналу «горячих» отделений суета. Все это казалось странным.
Тут из-за спины у меня вырос взъерошенный Семен. Поспать ему явно не удалось.
— Я все выяснил в приемном, там наши ребята на дежурстве, — напарник гадливо морщился: все имевшиеся в наличии лампы были зажжены. — В общем, тут Санта-Барбара, не меньше…
Семен говорил, примкнув к моему уху. Я слушал, не отрывая глаз от происходящего. Тело все еще скрывалось кордоном врачебных спин. Повисшее в воздухе напряжение передалось и мне; хотелось растолкать врачей и скорее приступить к делу.
Согласно рассказу Семена, пострадавшая была супругой господина, возглавлявшего не то силовую, не то финансовую структуру города. На ее день рождения он преподнес подарок: новое авто и водителя в качестве модного приложения.
На третий день после знаменательного дня, экономя время, водитель проскочил на мигающий зеленый, поймав правым пассажирским боком летящий КамАЗ.
Семен рассказывал, что водитель получил четырнадцать переломов, но никак на них не реагировал, а, лежа в приемном покое, повторял, как мантру: «Все, мне пиздец… Все, мне пиздец…» Врач, осматривавший пострадавшего, напоролся на леденящий душу смех, когда намекнул ему об уголовной ответственности. «Черви сожрут раньше», — шипел и смеялся тот.
У женщины выявили разрывы внутренних органов и множественные переломы. Сильно ушибся головной мозг, хотя и не дал кровотечения. Прогноз складывался наихудший. Говорить о жизни после таких травм было бы непрофессионально. Но на спешном консилиуме все же решили оперировать.
Семен окончил свой рассказ и уставился в пол. В нем странным образом уживались почти девичья застенчивость и напористый профессиональный цинизм.
Вскоре мне надоело ничего не видеть, так что я обошел стол и встал у его ножного торца. Я посмотрел на тело и вздрогнул, попытался вдохнуть, но вдоха не произошло, как если б в лицо мне ударил сильный ветер.
Открывшаяся красота проникла в меня почти насильственно, так очевидна была ее мощь. Тело такой прекрасности, такой глубокой нордической чистоты не встречалось мне ни до, ни после. Есть женщины, за которыми неотступно следует весна — со всеми своими цветами, ароматами и надеждами. И даже здесь, в роковой для себя час, лежа на холодном стальном столе, надломленное тело источало апрельскую свежесть, и красота лучилась из него, как нимб. Я заметил, как по правой половине туловища грозно выбухают гематомы, и поражение этой цветущей жизни стало для меня очевидным.
Тем временем операция началась.
Начмед, будучи торакальным хирургом, работал на грудном отделе. Ему ассистировали два хирурга. Сестра подавала инструменты и заряжала иглы шовной нитью. Оперировали почти молча. Команда у начмеда была сработанная: хватало взгляда или движения головой, чтобы передать информацию и быть верно понятым.
Вскрыв полость, начмед принялся кроить легкое, отсекая размозженную ткань от здоровой. Ассистенты перевязывали сосуды кетгутом и промокали кровь. Было видно, как слева тревожно бьется небольшое розовое сердце. Верхушка его подпрыгивала, будто пыталась вскочить и придать органу вертикальное положение.
Многоокая хирургическая лампа жадно пялилась в рассеченную грудную клетку. Литые, замазанные йодонатом груди, большие и сильные, сошли к бокам и лежали сейчас на локтевых сгибах.
Иногда начмед останавливался, глубоко вздыхал и вертел головой, точно студент, вытянувший на экзамене роковой билет. Потом над вставшим сердцем бились кардиологи, но смерть имела больший стаж, и врачи поникли, как дети, посрамленные грозным родителем. Длилась операция около четырех часов. За это время сменили друг друга три пары хирургов. Три полости отворились, как шкатулки. Двенадцать рук, словно апостолы, несли телу благо надежды. Когда все реанимационные мероприятия не дали результатов, была констатирована смерть. Органы сложили внутрь и наспех зашили кожу. Семен стоял рядом со мной, и я впервые увидел его страдающим. Рельефные желваки блудили по его щекам, как амбарные мыши, глаза болезненно сузились.
Начмед двумя рывками сорвал с себя перчатки и уставился на труп, по туловищу которого, от ключицы до лобка, местами прерываясь, тянулся грубейший шов, похожий на сырую заплетенную колбасу. Потом еще раз вздохнул, погладил свои большие ладони, развернулся в один прием и вышел из операционной, твердый и решительный, как самурай.
Через минуту влетел Курамагамедов и, кивнув на тело, сказал: «Убэрайте».
Семен привез каталку. Не надевая перчаток, мы взялись за остывающие конечности и тут же взглянули друг на друга. Нежность подавшейся плоти была непривычной для нас. Ни Семену, ни мне не приходилось прикасаться к женщине с такой кожей. Лишенное жизни, битое, вспоротое и зашитое тело все еще изумляло природной щедростью и редкой ухоженностью. Семен приподнял голову умершей, снял с нее хирургическую шапочку, и живые русалочьи волосы хлынули на плечи и грудь. Хлористый эфир операционной накрыла пряная волна цветущего луга.