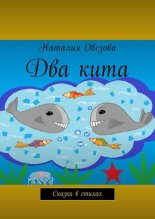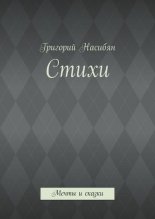Дядьки Айрапетян Валерий
Я устроился рядом с Асланом. Его все сильнее пробирал озноб.
Лена уселась в кресло слева от тахты, подобрала ноги на манер русалки и закурила. Дым окружил ее сизым нимбом. Грозные, кислотных цветов наряды не спускали с меня своих скрытых и обжигающих глаз.
Аслан приподнялся на локоть и спросил Лену о назначении боковой подсветки и камеры на треноге за ноутбуком.
— Я работаю иногда, — сказала она. — Госпожой. В мире полно рабов, которым нужна Госпожа. И если раб желает мне служить, то он платит. Все происходит через интернет, как в виртуальной игре. Нет имен, нет людей, а есть только изображение и ник.
Мы переглянулись с Асланом.
— А если он не заплатит, если обманет? — спросил друг.
Аслан утеплил ноги, накинув поверх покрывала свою куртку.
— Это на его совести, чаще платят. Принести тебе одеяло?
— Нет, я уже согреваюсь.
Тем временем алкоголь брал меня в оборот. Горячие волны понеслись вдоль тела вестниками грядущей расслабленности и радости. За широким окном Москва приветливо поигрывала освещением. Этот большой и жестокий город казался мне сейчас необыкновенно родным, добрым и грустным.
Я встал и подошел к окну. Москва лучилась миллионами своих глаз, их свет был тепел и печален. Парой величавых царей возвышались два высотных дома, верхние этажи их были богато подсвечены и напоминали короны. Москва искрилась, точно ярко освещенная россыпь алмазов, текла подо мной кипящим потоком плавленой стали.
Всматриваясь в это бликующее море света, вдруг столкнулся с собственным отражением. Полное щетинистое лицо, мясистый нос, большие глаза с пухлыми, нависающими над ними веками и невеселый разлет бровей. Какая-то азиатчина: хмельная, разрисованная, лепная. Все наружу, никакого изящества, приветливой робости — во всем лишь правота собственного присутствия. Я выглядел очень пошло. Пошлее, чем тот, кто смотрел моими глазами, пошлее того, кто представлялся мне мною, того, кто думал и писал, сидя внутри оболочки, которая казалась мне теперь нестерпимо пошлой.
«Это на его совести, чаще платят», — вспыхнули во мне слова Лены, вспыхнули и погасли.
Я знал, что Лена приехала в Москву из Питера. Знал, что жила с известным писателем, а потом оказалась на улице. Знал, что продавала свои стихи, переходя от одного кафе к другому, знал, что кормилась фотосессиями, танцевала, выступала с фокусами на корпоративах, вела свадьбы и дни рождения. Знал, что нуждалась.
Я смотрел на Москву, на приветливое море ее огней, на громадную ночь, повисшую над городом, словно птица; потом представил Лену, сидящую ночами в чате и унижающую за деньги рабов-иностранцев, и думал о безжалостной насмешливости жизни, ее циничности и диктате. Отчаявшись, красота и молодость всегда попадают в западню, думал я. Город выдает тарифы, спрос-предложение, а дальше — все по накатанной. «Как-то надо выживать», — говорила Лена, и улыбка не сходила с ее озорного и оттого еще более грустного лица.
Стоило взглянуть на это лицо, как мной овладевало странное чувство нежной благодарности за то, что живу, и ровное здоровое спокойствие оттого, что когда-то придется умереть. Так твердо и мирно шло от него принятие этой реальности, которой, по сути, не может быть прощения.
Вдруг Лена раскованно засмеялась. Смех этот салютом взмыл к потолку, дзенькнул о люстру и сразу растаял. Так могут смеяться только отчаявшиеся и умеющие прощать женщины.
Аслан прокашлялся. На окно накатил ветряной вал, рама упруго дрогнула. Я обернулся. Друг лежал поперек тахты, Лена курила в кресле. Оба смотрели на меня.
Между нами, пронизанные светом, текли медленные ручейки дыма.
— А давай выпьем, — радостно бросила мне Лена и широко улыбнулась.
Этому лицу настолько шла улыбка, что другое его выражение казалось неестественным. Я не понимал, откуда берется в людях столько силы и стойкости, столько оптимизма и надежд, которые не дают им, вовлеченным в подлый хоровод злосчастий, выпрыгнуть из окна или примерить петлю. Меня удивляли сейчас чистота ее девичьего лица, легкая широкая улыбка, резкие жесты, ребячий восторг в глазах, нагловатый бархатистый голос, разлитая по телу радость полной жизни. Лена сияла, как сияла Москва за окном. Город и девушка жили одной жизнью, проживали ее сообща, как сестры, и, омываемые мутными потоками лжи, предательств, унижений, купли-продаж, не переставали лучиться какими-то неведомыми надеждами, обещанием тепла и спасения.
Я улегся рядом с Асланом и залпом осушил протянутый мне бокал полусладкого, а за ним еще один. В голове понеслись образы, Москва вспыхнула фантастическим букетом цветов, платья и парики пустились в пляс, объятая пламенем, полетела цифра «6», за ней усердно несся нарком Орджоникидзе. «Он ее никогда не догонит», — подумал вдруг я. Спустя мгновение все успокоилось, и я услышал, как Лена разговаривает с Асланом. Оба уже пару лет в столице, им было о чем поговорить. Я же пил седьмой день и не спал больше суток, поэтому иногда отключался, даже не закрывая глаз, потом внезапно пробуждался и начинал нести околесицу. Настроение менялось, как освещение в дискобаре.
Мы пропустили с Леной еще по одному бокалу, а потом у Аслана зазвонил телефон, и он сказал, что вынужден отъехать на часик.
После его ухода мы выпили еще.
Алкоголь и новые впечатления погрузили меня в переживание никчемности жизни человека, полной бессмысленности его несмешных игр на грустной планете. Нежная, упругая, смеющаяся несмотря ни на что, Лена казалась мне сейчас символом обреченности человеческой породы. Я ехал к телке, а приехал к человеку с бедой. Раскованный смех и напускная жеманность не могли скрыть от меня пульсирующих болезненных ран. Я пытался нагнать позитивных волн, но камера на треноге и боковая подсветка возвращали меня к исходным позициям. Я вдруг понял, как сильно нас влекло друг к другу, как похожи наши судьбы, как неслучайна наша встреча…
Но, несмотря на эту мрачную отрешенность, я почему-то хлопнул рукой по тахте и сказал Лене, словно воткнул кол в землю:
— Давай, иди ко мне.
Лена пронзительно захохотала, вскинув голову.
— Давай, давай… Ползи сюда…
В знак убедительности я почему-то кивнул. Все выпившие мира уверены в неопровержимой мощи этого жеста.
Лена так легко перебросила ноги с кресла на тахту, будто сдула с рукава пепел. Спустя секунду вся она лежала рядом со мной, на боку, лицом ко мне. Вполне логичный итог полугодовой переписки и взаимной симпатии, подумал я.
Безнадежная холодность обстоятельств, в которых, как мне виделось, оказалась Лена, вползала в меня злым предрассветным туманом. Я лежал и испытывал вину за все это, за то, что такое может происходить, что жизнь и вправду неумолима в своем стремлении подавить человека. Неясная тоска жгла мне горло и пощипывала склеры. Любая наглядность возможности человеческого страдания ввергала меня в некую апатию, ступор острого сочувствия, вызванный пониманием, что я не в силах облегчить их, что мир намного сильнее меня, что я — ничто. И сейчас, когда Лена лежала и смотрела на меня ожидающе и вопросительно, я скорее хотел обнять ее и греть своим теплом, но никак не мять, не пыхтеть над ней, не владеть ею, как намеревался, когда ехал сюда.
И тем не менее я придвинул ее к себе и поцеловал в губы. Только поцеловав этот рот, я почувствовал всю его живость и уютную влагу стенок, податливость губ, прохладный верткий язык, понял так идущую ему улыбку. Рот отражал существо этой девушки, сообщал шифры и коды к ней, искренне дышал. Постепенно тревоги стали отходить, надежное древнее тепло телесной неги погнало приятные волны от живота вверх и вниз.
Мы целовались, кувыркались по тахте, комната и предметы перекатывались скачущим по наклонной доске кубиком, лицо Лены сменялось ее грудью, лопатками, кистями, бедрами. Я входил в нее, сжимал, целовал, покусывал, гладил — и с каждым толчком ощущал, как все напускное, несущественное, подлое, темное уходит из Лены, из меня, из Москвы, из большого неверного мира и, омытое прощением, утекает, не оставляя следа. После я лежал и смутно, из задворков сознания, стал различать повторяющуюся трель звонка. Лена подскочила, натянула халат, кинула мне брюки и пошла открывать. Нет слаще занятия, чем, отринув от себя женщину, предаться пустоте. Но нужно было вставать: вернулся Аслан. Я натянул брюки и поправил покрывало.
Друг вошел и снова прилег поперек тахты.
— Все в порядке, брат? — спросил я.
Аслан улыбнулся своей фирменной улыбкой, смысл которой сводился к тому, что по-другому у него и быть не может. Лена вернулась в комнату с новой бутылкой вина. До моего поезда оставалось еще часа два.
— Останься, — вдруг сказала Лена, и в комнате повисла пауза. — Сдай билет и останься. Пожалуйста…
— Не могу.
Я посмотрел на свои носки, потом на свои руки… и точно понял, что не могу.
Лена затушила сигарету, поставила на стол бокал, забралась на меня и, оседлав, сказала, что любит, что любила уже после первой встречи, что сразу поняла — я тот, кто ей подходит и нужен. Я взял ее за талию и придвинул к себе, а Аслан незаметно встал и ушел на кухню…
За сорок минут до отправления поезда я пошел в душ. Вода всегда помогала мне переключиться. Лена намылила мне спину, затем навела душ, смыла, а после — протянула полотенце, все так же улыбаясь и поражая этой невероятной и простой способностью казаться счастливой.
Вода меня отрезвила. Я скоро оделся и через какие-то минуты стоял у выхода. Лена, яростно смеясь, натягивала сапоги.
— Классные, — отметил я, кивая на сапоги.
— Еще бы. Дорогие! — засмеялась она.
— А мне по херу, что дорогие! Вот на мне всей одежды тыщи на три примерно…
— Да? А ебешься на все пятьдесят…
Ожидающий нас Аслан взвизгнул от восторга и хлопнул себя по коленям.
— Ай молодец, Лена! — выкрикнул он, подстегнутый ее задором, замешанным на контрасте грубой матерщины и чистой девичьей улыбки.
Мы спустились и торопливо втиснулись в машину.
Аслан быстро завелся, и мы помчали. Ночная Москва была сыра и многолюдна. Стройные холодные фонари, изогнув свои металлические шеи, невесело взирали на дорогу — так рассеянные старцы смотрят вслед молодой привлекательной женщине.
Расположившись сзади, мы жадно целовались с Леной; иногда я отрывался, чтобы оценить скорость, с которой Аслан гнал нас к вокзалу.
— Братан, главное, помни, — орал я сквозь долбежку музыки. — Мне нужно в Питер, а не в морг!
Взявшись за руки, мы бежали с Леной по перрону, целуясь и смеясь на ходу. Аслан отошел к ларьку купить мне газировки в дорогу. Едва нам удалось попрощаться, как проводница втолкнула меня в тамбур. Состав дрогнул железом и покатился. Я выглянул, чтобы еще раз посмотреть на Лену. Мы помахали друг другу напоследок, и я пошел располагаться. «Чаще платят», — гудело у меня в ушах в такт набирающему ход поезду. «Я люблю тебя», — билось в колесах.
Поезд разъедал ночь и мчал вперед. Мягкое постукивание колес и колыбельное покачивание вагона не обещали мне сна. Я привстал и, обнимая колени, сел в постели. Один в спящем плацкарте, объятый снежной ночью и клокочущим отовсюду храпом, между Москвой и Питером. В голове моей пылала цифра «6», за ней, дыша в пышные усы, стоял первый нарком тяжелой промышленности.
Я снова не знал, что со мной происходит и куда мне двигаться дальше.
Реквием
по восточному немцу
1
Я не знаю, почему жена выбрала именно Крит.
Среди горящих путевок значились Кипр, Турция, Болгария, так что поначалу меня одолевали сомнения. История Минотавра сильно забавляла меня в детстве. Геракл, поимевший в героическом припадке полсотни царевен, впечатлял в пубертатный период. После школы Греция занимала меня много меньше. Но стоило мне представить обтекаемых, как кувшины, гречанок, оливковые рощи на склонах гор, щедрый и разгульный греческий говор, утопающий в прожаренной синеве вечера, как я сразу же согласился.
Курорт, на котором нам предстояло провести отпуск, именовался Херсонессисом. На карте Крита он выделялся прибрежной точкой с северной стороны острова. В туристском буклете описывалось, как покатые спины гор вырастают из морской сини. Два слова о радушии греков, которое не знает границ, и об отпуске, который оставит во мне неизгладимые впечатления. Отель Pella Maria — три звезды, все включено, номер с кондиционером и видом на море. Желать большего я еще не научился.
Когда в самолете перед взлетом некрасивая стюардесса долго кривлялась, показывая, как надевать спасательный жилет в случае падения нашего аэробуса в море, мне неодолимо захотелось выпить. Справа от меня резвились жена и дочь, так что сама возможность падения образовала во мне доселе незнакомую пустоту, настолько бессмысленную, что я поспешил заполнить ее чем-нибудь покрепче. Удовлетворить эту потребность, согласно правилам полета, я мог не раньше достижения самолетом крейсерской высоты, до этого же запрещалось покидать свое место.
Самолет стремительно набирал высоту. Земля приобретала вид лоскутного одеяла.
В динамиках зазвучал голос командира корабля, который сулил нам все блага в небе и добрый полет.
Наконец, мы взяли позволяющую передвигаться высоту. По салону начали развозить напитки. Я ждал, когда улыбчивый стюард предложит мне на выбор коньяк или ликер, а я, состроив на лице утомленную задумчивость, небрежно закажу виски. Тем не менее напитки предлагались исключительно безалкогольные. Тревога не покидала меня, и я терпеливо ожидал учтивого сервиса. Но после того как третий стюард проплыл мимо меня с тележкой с соками, я потерял всякую надежду на бесплатное бухло и погрузился в немое раздражение. Согласно тем же правилам запрещалось вскрывать пакет с купленным в дьюти-фри алкоголем.
— Кать, а сходи разузнай, где можно поживиться дринком, — попросил я жену, устав от молчания.
Спустя минуту она вернулась с глянцевым журнальчиком в руках.
— У них тут свой дьюти-фри, на, просмотри.
Пролистав страницы с предложениями по парфюму, шампанскому и вину, я уперся в отдел крепких напитков. «Рэд Лейбл». Восемь евро за пол-литра.
Я вскрыл бутылку и приложился к горлышку. Горячая волна обожгла пищевод и излилась в желудок. В голове прояснилось: страхи и сомнения оставили меня, как остатки сна под ледяным душем. Мы уже летели так высоко, что небо под нами напоминало взбитые сливки. В лазурной ледяной пустоте висел одинокий глаз луны. Отражая солнце, луна казалась облитой кровью.
Внезапно мир прояснился и стал прозрачным, понятным и не сулящим зла. Зародившись в животе, это теплое и радостное ощущение разлилось по всему телу, проникло в глаза, уши, достигло пальцев ног. Жизнь представилась мне простой и неделимой, во всех проявлениях ее таилась непременная благодать. Великолепие мира, неслучайность всего, какая-то нежность во всем мироздании стали так очевидны для меня, что на глазах выступили слезы. Охватившее меня счастье перекатывалось внутри теплым гелиевым шариком. Я посмотрел в иллюминатор и увидел добрую ночь с упрямой луной в центре, потом взглянул на сопящих Катю и Леру, разгадав в их густом и мирном сопении очевидную значимость существующего порядка вещей. Все мое существо раскачивалось и пело в радостном гимне сияющей жизни, и на каком-то отрезке этого торжества меня сморил сон.
Когда жена добудилась меня, половина пассажиров уже сошла на землю и ожидала автобус. Голову сковывал обруч, нутро выворачивало наизнанку, вонючая, вязкая слизь вклеила язык к небу. Завороживший меня подлунный мир казался теперь горсткой смердящих разочарований, жизнь, искрящаяся в мистическом фейерверке светил, виделась сейчас опытом сбрендившего алхимика. Меня потряхивало, по позвоночному желобу стекала струйка холодного липкого пота.
Крит кипел в жаркой влаге, в воздухе гудела морская соль. За стенами аэропорта радостно разгоралась ночная курортная жизнь.
Из-за нерасторопного паспортного контроля образовалась очередь, мы замкнули ее хвост. Когда подошел наш черед, я широко улыбнулся кучерявому греческому пограничнику, получил удар в паспорт и вышел на улицу, в Грецию.
Нас встретила агент с табличкой нашего отеля.
— Марина! — представилась она так радостно, так рьяно заблестели ее глаза, так разошелся в улыбке рот, будто агент ждала встречи с нами всю свою жизнь.
Марина была похожа на стареющую дагестанскую женщину, черный костюм на ней усиливал сходство.
Нас погрузили в автобус — всего человек пятнадцать — и сказали, что скоро поедем. Через минут пять Марина запрыгнула на ступеньку и что-то протараторила по-гречески толстому водителю. Тот жирно кивнул, после чего мы тронулись с места, а я опять уснул.
2
Отель Pella Maria состоял из четырех этажей, с баром, столовой, бассейном и бильярдом на первом и жилыми номерами на остальных. С магистральной улицы — этого курортного Пикадилли с кучей магазинов — к отелю примыкало открытое кафе.
На ресепшен сидел молодой парень, похожий на мелированный аналог певца Витаса. «Стефан», — представился он. Я кивнул, а жена принялась выяснять у него на инглише, что тут да как. Когда оформление подошло к концу, Стефан с ошалело-счастливым видом выдал нам ключи от номера на четвертом этаже. В вознесшем нас маленьком зеркальном лифте пахло бассейном и спелыми арбузами.
Катя отворила дверь и вставила бирку от ключа в электрогнездо. Я везде включил свет, проверил работу кондиционера, спустил унитаз, открыл краны, врубил телик, вышел на балкон. Все работало исправно. Лера принялась прыгать по кроватям и тараторить: «Море, море, море…»
Мы быстренько разложили вещи, приняли душ и улеглись спать, чтобы выспаться к завтраку.
3
Завтрак проходил в гостиничной столовой размером с треть футбольного поля. Вдоль одной стены длинным рядом стояли столы с подносами, полными самой разнообразной еды. По сравнению со вчерашним днем я чувствовал себя олимпийцем, претендующим только на золото.
Аппетит мой разыгрался еще посреди ночи — тогда мне пришлось обмануть голод двумя литрами «Бон Аквы», — сейчас же я готов был слопать лошадь. Мне пришлось трижды подходить к стойке с подносами, чтобы наесться.
Тем временем отдыхающие прибывали, как звери на водопой. Толстые немки с дрессированными мужьями, расфуфыренные русские девушки (одна умудрилась надеть к завтраку вечернее платье), малахольные голландцы с красными вытянутыми лицами, длинноносые красивые чешки, инвалиды в колясках, пенсионеры всех стран — кого только не занесло сюда!
Среди броуновского движения входящих и выходящих я заметил мужчину с телом, не допускающим оптимизма. Он стоял в середине зала, неподвижный, как соляной столб, в джинсовых шортах, с осанкой человека, который последние тридцать лет ожидает удара по затылку. Врытый в пол взгляд и прилежно вытянутые по швам руки выдавали в нем индивида, готового послать все к чертям, включая себя самого. Есть люди, глядя на которых трудно представить их совокупляющимися. Этот был одним из этих.
Я стал наблюдать за ним, день за днем. Выраженный во всем его существе трагизм был так велик, что чувство обреченности всего сущего передавалось и мне.
Концентрация жизни, ее жадные до ощущений импульсы едва превозмогали в нем нулевой уровень. Бледно-розовая кожа, короткие идиотские усики, пришибленная походка, бессменные подростковые шортики — он походил на школьника, впавшего в депрессивный ступор. Ел он всегда один — и так обреченно, с такой невыносимой тоской в глазах, будто после трапезы его поволокут на виселицу.
Мне стало жаль его — такая жалость пронзает сердце, когда представляешь себя на месте бедолаги, — и я решил как-то скрасить его одиночество.
— Давай здороваться с ним, как иностранцы: нараспев, с улыбкой во весь рот, — сказал я жене.
Оказалось, что вид побитого жизнью иностранца, закованного в броню отчуждения, трогательно обжигал загрудки моей жены с первого брошенного на него взгляда.
— Давай, — согласилась она.
Мы поинтересовались у Стефана, откуда прибыл сей печальный субъект.
— Он восточный немец, — задумчиво ответил Стефан. — Странный он. Попросил меня поменять ему номер с видом на море на другой, выходящий на шумную задымленную улицу. Первый раз меня просят о таком…
Каждое утро, застав его в момент поедания омлета с ветчиной (другого на завтрак он не ел), я подходил к нему и, лыбясь во всю ширь, напевал: «Хеллоооуууу». Растроганный таким вниманием, немец привставал, глаза его тут же застилала слезная пелена, голова сотрясалась приветственной дрожью, рот бормотал нечто нежно-невразумительное.
На третий день регулярных приветствий мне стало казаться, что уж как-то часто мы с немцем оказываемся вместе. Я встречал его в лифте, за соседним столом в ресторане гостиницы, в магазине сувениров и алкогольном супермаркете. И каждый раз напевал ему радушное «Хеллоу», а он в ответ готов был разрыдаться.
Однажды он слегка наклонился ко мне и, едва не разрываясь от конспирации, спросил по-немецки:
— Warst du im Aquarium?
В ответ я пожал плечами и вышел из лифта.
4
Армян всегда можно узнать по грустным глазам. У евреев глаза тоже грустные, но сильно приподнятые брови делают их вид еще и настороженным.
Араик прибыл на Крит через день после нас, с женой и двумя детьми: годовалым Тиграном и трехлетней Мери. То, что он армянин, я понял сразу. Мы быстро сошлись, долго говорили об Армении, о языке, обычаях, о том, как современная культура подъедает все национальные устои народов, словно тля — стебель, дабы привести человека под общий знаменатель среднестатистического потребителя с устойчивой мотивацией к потреблению.
Вот уже пятнадцать лет как он жил в Германии, выучил язык, получил гражданство и к фамилии Хачатурян добавил фамилию Пфафенгут. Араик Хачатурян-Пфафенгут — немецкое приложение сильно облегчало общение с представителями бюрократического аппарата.
Мы вместе ходили на пляж Star Beach, сообща гуляли по оливковой роще, выпивали в баре после ужина.
— Араик, что означает «Warst du im Aquarium?» — спросил я, отхлебывая пива.
— Это значит «Был ли ты в Аквариуме?» — вдруг он встрепенулся. — Слушай, а к тебе тоже подходил Титмо?
— Какой еще Титмо?
— Ну, этот восточный немец, похожий на замерзшего воробья.
— Да, черт возьми! Вот это да! Араик, что он еще сказал тебе? Интересный тип. Мы с женой здороваемся с ним каждый день, больно вид у него печальный…
— Ну, — начал Араик, — он рассказал, что не женат, что приехал один, что каждый день ходит в Аквариум вместо моря, вот и меня звал в Аквариум, показывал даже абонемент на пятнадцать посещений…
— Подожди, подожди, — перебил я, — ты хочешь сказать, что он ни разу не спустился к морю?
— Вроде так… Я спросил у него, чего он такой бледно-розовый, почему не загорает на пляже? И мне показалось, что при слове пляж его передернуло. Шальной он какой-то, даже для восточного немца шальной, — заключил Араик.
Каждый день, встречая меня где-нибудь, Титмо спрашивал, был ли я в Аквариуме. В подтверждение того, что сам он не забыл посетить столь важное для отдыха место, немец протягивал абонемент с указанными в столбец датами посещения. Когда вечером я встретил его в баре, бармен, кисля лицо, возвращал ему абонемент.
— Im Aquarium schwimmen groe Fische! — восторженно заявил он мне с искрящимися глазами, как у камикадзе за секунду до смерти.
«В аквариуме плавают большие рыбы», — перевел подошедший к стойке бара Араик.
5
Вход был просторный: не толкая друг друга, в проем двери могли одновременно войти полдюжины посетителей. Помещение Аквариума напоминало гигантскую шкатулку с арочной крышей, все пространство которой пронизывал ровный голубой свет. Вдоль стен по периметру стояли огромные стеклянные кубы, на две трети заполненные водой. В аквариумах рассекала воду и прочесывала дно разная морская живность. Морские ежи намертво вцепились в камни. Мурены и крабы, акулы и пираньи, угри и морские звезды — вся морская фауна была расфасована по аквариумам. Я шел вдоль этих посудин, разглядывая рыб. Один аквариум был заполнен лишь наполовину. Сколько я ни вглядывался внутрь, так и не смог разглядеть никого, кроме краба и семги, проплывавших вдоль стекла. Большой зеленоватый краб вяло полз по дну и шевелил клешнями; пузатая семга с грустной головой и розовой полосой вдоль рябого тела кружила над ним. Я подумал, что что-то тут не то, и обратился к русскоязычному гиду.
— Видите ли, — сказала мне гид, — дайверы случайно обнаружили норвежскую семгу в Средиземном море, что, согласитесь, невероятно; ко всему прочему, семга постоянно находилась рядом с крабом, будто охраняла его, что еще более удивительно, ведь у этих животных совершенно разный лимит движения и рацион. Поэтому научным советом Аквариума было решено поместить их в отдельный контейнер и наблюдать.
— Когда их выловили?
— Около года назад.
Гид отошла, а я остался стоять у аквариума и вглядываться в темную гущу воды. На меня находила тревога, я обернулся и вдруг обнаружил, что остался в огромном здании совершенно один. Согласно законам жанра ужас должен был явить себя в ближайшие секунды. Внезапно вода забурлила. «Началось», — подумал я.
Из глубины аквариума резким толчком выплыло нечто и повисло в зеленом теле воды. На меня смотрело существо, отдаленно напоминающее Титмо.
«Этого не может быть!» — прошептал я. Серозные худосочные конечности вытянулись в щупальца, в гибкие скользкие пруты, сплошь покрытые присосками. Глаза немца пучило, как у лобстера, прежде мелкие усики развевались в плавной невесомости, точно ивовые плети. В водной среде немец чувствовал себя куда вольготнее, нежели в воздушной. Титмо пристально вглядывался в меня, готового наложить со страху в сортивные шорты, приблизился вплотную к витрине аквариума и сказал: «Im Aquarium schwimmen groe Fische», — после чего принялся хохотать, как сумасшедший, а семга с крабом зло зашипели с ним в унисон…
Зазвенел будильник, и я открыл глаза.
— Ну что, алкаш, — пошутила Катя, — думал, выпьешь четыре литра пива и встанешь в семь утра?
— А сейчас сколько?
— Десять. На завтрак ты уже опоздал, но мы с Лерой купили тебе фруктов и круассан. Что тебе снилось?
— А что?
— Да ничего, просто ты все про рыб каких-то спрашивал и приговаривал: «Не может быть, не может быть».
— Да так, фигня всякая, — промямлил, привставая, а сам подумал, что надо бы довести объемы вечерних возлияний до разумных пределов.
После моего завтрака мы пошли на пляж.
6
Пляж Star Beach примыкал одним краем к подножию большого двугорбого холма и имел вид бумеранга. С вершины холма пляж походил на аппетитный натюрморт: мраморная говядина моря примыкала к яичнице-глазунье — белому песку с желтыми вставками зонтиков. Торчавшие из-под зонтов алые лежаки казались стручками красного перца. Два валуна и упиравшаяся в пляж скала напоминали пару картофелин рядом со ржаным кирпичом хлеба.
Мы медленно спускались к морю. Разбивавшиеся о берег волны осыпались нежной пеной. На лежаках в разных позах валялись отдыхающие. Немки и краснолицые голландки, невзирая на возрастные изменения груди, загорали топлес. Я заметил синюю палатку Араика и его самого. Он полулежал на полотенце и нервно болтал ступнями.
Араик меня приметил тоже, встал и прокричал бодро по-армянски: «Барев ахпер, ари, ари индз мот!» — привет, мол, брат, иди, иди ко мне. Несмотря на дерганую бодрость, по лицу его блуждала мятая бессонная ночь.
Прежде чем подойти к нему, нам пришлось сманеврировать между немкой с отвислой грудью, толстым негром с двумя детьми и бешеной азиаткой, подскакивающей на лежаке, точно живая форель на раскаленной сковороде.
Катя и Лера сразу подошли к Кристине, поигрывающей Тиграном, как куклой.
Араик резво привстал и сходу стал рассказывать о вчерашнем вечере, словно продолжал рассказ после того, как откашлялся.
— Когда ты ушел, — волнуясь начал он, — я, Титмо и еще один немец продолжали пить пиво. Мы с немцем все пробовали разговорить Титмо или хотя бы свернуть его с темы про Аквариум, которой он успел задолбать всех, даже управляющего гостиницей. — Араик загоготал. — Так вот. Потом немец ушел, и мы с Титмо остались одни. Бармен принес нам еще пива, Титмо взял себе вдогонку ром с колой. Через полчаса наших с ним посиделок Титмо пять раз рассказал, как побывал в Аквариуме. Тут я не выдержал — сам понимаешь: мы, армяне, народ вспыльчивый, — встал из-за стола и сказал ему: «Титмо, ты всех задолбал на хрен своим Аквариумом, что он тебе так приперся?! Давай о женщинах, что ли, поговорим?» И вот я так сказал ему, а сам думаю: нехорошо, обидел человека. Титмо перестал пить и долго смотрел в пол. Потом он встал из-за стола и подошел к стеклянной двери. Стоит, смотрит на ночной бассейн. Постоял минуту и спокойно подошел ко мне, рядом сел. И начал рассказывать о жизни своей. Я сразу понял, что попал на момент, когда человеку нужно жизнь выговорить всю свою — попал на исповедь и, — Араик виновато мотнул головой, — все на телефон записал, в общем… Может, я нехорошо поступил, но сделал это. Ночью я слушал его историю раз десять, Валерик, не поверишь, плакал даже, гм, ты себе не представляешь, братан, что это за…
Араик отхлебнул колы, морщась сглотнул и продолжил рассказ. Постепенно его слова приобрели некую текучесть и, срываясь с губ, превращались в моей голове в яркие подвижные образы. С моря дул утренний бриз, скользящий по телу, как нескончаемая шелковая ткань. Волны налегали на берег плавно, шипя на исходе, точно опадающий песок, это убаюкивало и вводило в транс, так что вскоре, раздвинув ширмы рассказа, я вошел в необычную жизнь Титмо.
7
Титмо родился вблизи Бад-Эльстера — военного городка на юго-востоке Германии — в семье инженера и медсестры. Отец мальчика, Рихард, несмотря на жесткий каркас своего имени, был человеком мягким и безвольным. Имел смешливое лицо, при взгляде на которое тянуло заплакать. На большой, заросшей в висках голове намечалась опушка лысины. Брови взметались, как две пущенные навстречу друг другу стрелы. Рихард больше напоминал еврейского сапожника, чем немца. Сына отец любил настолько, что не считал нужным его воспитывать. Физические методы воспитания Рихард считал недопустимыми и за восемнадцать лет лишь дважды, в сердцах, обозвал сына «сорванцом». Такая беззаботная любовь не сплела ни единой нити, связующей отца с сыном.
Мать Титмо, Грета, настолько отличалась от мужа, что, глядя на эту разность, избитая догадка о счастливом соединении противоположностей казалась более выдумкой, чем предположением. Грета работала в военном госпитале, где облегчала страдания пациентов, прибегая к широкому ассортименту средств, включая собственное тело, не утратившее после рождения Титмо девичьей крепости и теплого, как свежесобранный мед, аромата. Ни сама Грета, ни кто-либо вообще не мог объяснить ненасытности ее тела, бешенства ее похоти, полной ее безответственности перед сыном и мужем. Ко всему прочему, Грета колотила сына вплоть до четырнадцати лет, но ни разу не заставила его заплакать.
Рихард знал об изменах жены, как знали о них в округе все, но прощал супругу легко, как прощают капризы любимым женщинам. Коллеги Рихарда, люди интеллигентные, жалели его, и та почтительность, с которой они обращались к нему, более выдавала их сочувствие, нежели уважение к нему. На улицах же, в барах и магазинах разговоры о похождениях Греты занимали большую часть обсуждаемого в поселке.
Титмо вник в суть родительских отношений с того момента, как начал себя помнить. Воспоминания о том, как на дне рождения кузины он написал в штаны, и фраза дяди Рудольфа — друга отца — о том, что Рихарду досталась пропащая блядь, приходились на один и тот же период детства. Титмо все понимал. Не представляя сути измены, он глубоко уверовал в несправедливость мира, допустившего блуд его матери и, как следствие, позор его семьи.
— Ублюдок! Выкрест! Блядский выкидыш! — кричала детвора вслед тощему сутулому мальчику, который в ответ на ругань только пригибал ниже голову, словно уворачивался от летящего камня.
В школе Титмо познал тишину общего бойкота. Кроме учителей, гардеробщика и двух уборщиц, с ним никто не разговаривал. «Сын шлюхи».
И наверное, он не выдержал бы этого стыда, если бы не бабушка Марта, мать отца. Пока Грета помогала хворым воякам, а Рихард корпел над кульманом, маленьким Титмо занималась бабушка. Большая, белая, с мягкой неспешной речью, она постоянно сочиняла истории, в которых то и дело мелькали длинные тени потустороннего. Издерганного отторжением сверстников мальчика спасала фантазия, он отвлекался и часто засыпал под бабкино кудахтанье.
Бабушка рассказывала о многом: о древних справедливых царях; о мудрецах с белыми как снег волосами; о том, что, когда умирают любимые люди, они превращаются в птиц, за исключением тех, которые тонут — эти обращаются в морских рыб и в море обретают покой. Самоубийцы вырастают в посмертии ядовитыми грибами, убитые насильственно воплощаются в бабочках и имеют шестьсот жизней. Убийц ждет посмертная судьба пауков, которых поедает самка. Подавленный порочным разломом семьи, Титмо находил теплую радость в бабушкиных сказках, в пугающих историях о загробном мире, в неудержимом полете ее воображения. Смерть виделась мальчику доброй волшебницей, приводящей все недоразумения жизни к верному и справедливому заключению. Все рассказанное бабушкой Титмо воспринимал как грани нерушимой истины и постоянно произносил вслух любимые места. «Как морские животные», — приговаривал он, шагая в школу, и представлял себе, что станет дельфином после того, как утонет в озере. «Нет лучшей жизни, — думал он, — чем быть рыбой. Все молчат, и некому крикнуть, что мать твоя — бесстыжая шлюха».
Бабушка умерла,когда Титмо заканчивал десятый класс, и эта смерть стала для него глубоким личным горем. Без дорогого единственного друга мир существовал лишь в видимых формах, начисто лишенный смыслового содержания.
В такой пустоте Титмо окончил школу и встретил совершеннолетие, отметив которое решил уехать из города. Родители поцеловали сына, всучив ему конверт с тысячей дойчмарок.
Покинув родительский дом, Титмо ни разу не посетил его. Родителей он больше не видел. Гулкая пустота сердца не знала привязанностей и тоски. Лишь скучная механика существования заставляла его биться. Эта же скука управляла и его жизнью. Чтобы хоть как-то развлечься, Титмо приехал в Берлин, устроился на работу, снял комнату, а через год поступил в университет на исторический факультет. Погружение в пучину времени, казалось ему, быстрее отдалит его от дома и всего, что в нем осталось. О родителях Титмо почти не думал. Вначале он иногда вспоминал отца, но вслед ему приходила на память и мать, а этого он допустить не мог. Попытки оправдать ее истощили его до стойкого невротизма.
О смерти родителей он узнал лишь после объединения Германии, в пик всеобщего ликования, как еще одно доказательство отличительной несуразности его жизни от жизни многих и многих. Узнал от своего одноклассника Эрика. Первый красавец школы, вожак и задирала, неотступно окликавший Титмо «выблядком», походил сейчас на гнилой картофельный клубень. Эрик ширил в улыбке влажный синюшный рот, из которого, точно обгоревшие пни, торчали черные косые зубы.
Одноклассник рассказал, что мать Титмо померла уже лет десять как: ее зарезал один из солдат, помешавшийся на ревности, не в силах принять ее блудливость как данность. Зарезав Грету, любовник вскрыл себе сонные артерии. Рихард, узнав о смерти жены, отказался вдаваться в подробности ее гибели и на вопросы местных органов отвечал категорическим молчанием. На похоронах он не плакал, ровно принимал соболезнования, а через неделю его настиг сокрушительный инсульт, парализовав все части тела, кроме головы. Голова молчала первые месяцы, а потом заговорила, и большая часть сказанного была посвящена Титмо.
Рихард уверял медперсонал, что Титмо учится, что Титмо работает и вот-вот уже скоро, совсем через чуть-чуть, приедет к своему отцу, чтобы забрать его из больницы и увезти к себе домой, в Берлин, в Дрезден или куда бы там ни было. Медсестры слушали и кивали, машинально повторяя последние слова, сказанные головой. Выходило каждый раз что-то вроде: «Приедет, приедет» или «Да, и увезет в Берлин». Спустя год растительного существования Рихард умер, выкрикнув напоследок: «Титмо, мальчик мой, где ты?!»
После смерти Рихарда дом, за неимением наследников, отошел к государству.
Титмо слушал одноклассника и удивлялся, что внутри него не шевельнулся ни один душевный фибр, ни одна сентиментальная струна не зазвенела в унисон трагичному повествованию. Эрик окончил, не дождавшись обильных слез Титмо, суливших ему роль собутыльника в заливании горя, нарисовал на лице подобострастие и попросил денег в долг, после чего, довольный наваром, исчез из виду.
Встреча с Эриком преобразила его. Он стал вглядываться внутрь себя, но видел лишь лохматую ночь, полную детских страхов и тайн. Вдруг его осенило, что у него есть лишь один наивернейший способ обрести себя: создать семью и растить ребенка, растить его по-настоящему, привязываясь к нему и дорожа им.
Титмо устроился на хорошую работу в Комитет по реабилитации жертв СС. Работал с историческими документами, на сортировку которых уходило гораздо больше времени, чем на их изучение. И чем более трагичные разорванные войной судьбы фигурировали в делах, тем глубже укреплялся он в своем стремлении создать крепкую семью.
Титмо поклялся завести семью в течение года. Установка сроков не казалась ему проявлением инфантильности, напротив, в этом он разглядел подтверждение правильности своего выбора. Он будет любить жену и доверять ей, как младенец доверяет теплу матери. Никаких, к черту, измен, никакой слабости, никаких пустых прощений! Только любовь и взаимовыручка. Так думал Титмо перед сном, так думал, когда просыпался. Прежде равнодушный к женщинам, сейчас он напряженно вглядывался в каждую, кто сможет сделать его мужем и отцом. На работе, в транспорте, стоя в очереди, Титмо изучал лица женщин, их повадки, тревожно вслушивался в вибрацию голосов. Подобно натуралисту, он делал пометки и обобщения, пытался предугадать внутреннюю составляющую женщины по ее внешним данным. Константой оставался лишь один критерий — несхожесть с матерью.
Блуд внушал ему отвращение, физическая близость вне семьи казалась кощунственной, так что в свои тридцать два Титмо ходил в убежденных девственниках. Чувство, когда, глядя на женщину, ощущаешь, как подкатывает к горлу комкий восторг страсти, было ему незнакомо.
Все молодые женщины, попадавшие в его поле зрения, носили на лице некий отпечаток животности, потребность быть употребленными. Их мимика была более рекламой, характеризующей товар, чем живой пластикой лица, отражающей внутреннее естество. Общение с незамужними сотрудницами окончательно убедило его, что и к семейной жизни они подходят как к сделке, сулящей сверхприбыли. Интересы и потребности знакомых мужчин полностью совпадали с женскими, только имели более откровенные сексуальные запросы. Титмо был одинок.
Однажды, на дне рождения сотрудника Пауля, Титмо заметил девушку, худую и молчаливую. Девушку звали Эльза, она приходилась троюродной сестрой имениннику. Эльза была настолько тихой, так скромно было ее присутствие, что никто, кроме Титмо, не обратил на нее внимания, принимая, видимо, за часть обстановки. Эльза отвечала на вопросы Титмо однозначно, не вдаваясь в детали, исследуя смущенным взглядом пол. Титмо еле сдерживался, чтоб не заплакать от этой чистоты, от ненарочитости этих жестов, от небывалого несоответствия этого образа образу утраченной матери.
Когда все начали расходиться, Титмо предложил девушке ее проводить. Не смея произнести твердое «да», Эльза нетвердо кивнула. На следующий день они гуляли по парку. Через неделю поцеловались, через месяц решили пожениться, а через два сыграли свадьбу. Со стороны невесты присутствовали ее родители и брат Пауль. Сторону жениха представлял сам жених. Такая скромность полностью вписывалась в мировосприятие обоих. Спустя год после знакомства у молодоженов родился мальчик, которого нарекли Норбертом.
Титмо вдруг обнаружил себя абсолютно счастливым. Занятия с малышом и помощь супруге наполнили его жизнь новым смысловым содержанием. Все предыдущее стало неважным, еле существующим, застрявшим в сознании похмельным сном.
Норберт рос, радуя родителей крепким телом и ранней смышленостью. В мальчике чувствовалась порода, не проявленная в родителях. Древние сильные гены арийцев, дремавшие в Титмо и Эльзе, проявились в Норберте, чья внешность обещала красоту, характер и благородство. Любящие родители сообща растили ребенка, вели хозяйство, принимали решения. Титмо поражался, насколько просто семейное счастье, еще больше поражаясь факту неприятия этой простоты своими родителями. Иначе как зловещим стечением обстоятельств Титмо не мог объяснить роковую изломанность родительской семейной истории.
Когда Норберту исполнилось четыре года, Титмо преподнес подарок жене: путевку на недельный круиз по Средиземноморью. Эльза бредила морем, и Титмо не прогадал с подарком. Сам Титмо ехать не мог — до отпуска оставалось три месяца, — а ребенок с матерью пусть насладятся морем и отдыхом в полной мере.
Описав круг, самолет взлетел и скрылся в небе. Не успел Титмо проводить семью, как уже почувствовал острую, неуемную тоску по жене и сыну.
А через три дня, когда Титмо был на обеденном перерыве, его настигло это известие…
Диктор программы новостей сообщал, что этой ночью туристский лайнер, рейс № 184, совершавший круиз по Средиземному морю, сойдя с фарватера, напоролся на риф в Эгейском море вблизи острова Дио. Далее говорилось, что из-за значительных повреждений корпуса лайнер дал резкий крен и стал быстро тонуть. Из двух тысяч пассажиров удалось спасти восемьсот сорок шесть человек. Все телеканалы мира освещали трагедию. Туристская и судоходная компании, организовавшие тур, приносили всем родственникам погибших соболезнования, гарантировали солидные компенсации. На месте катастрофы велись непрерывные поисковые работы.
Титмо не помнил, как ушел с работы, не помнил, как пришел в офис туроператора, как наводил справки о жене и сыне, как получил ответ, что в списках спасшихся такие не значатся, не помнил, как оказался дома.
Он четко помнил, как очнулся ночью, как выскочил под ливень, как бежал по улицам в поисках сына и жены. «Норберт, Эльза!» — выкрикивал он, вырастая в безлюдных проулках пугающей тенью. Помнил, как лежал в луже лицом вниз, как малодушие то и дело заставляло его вынырнуть и дышать — теперь уже совершенно бессмысленно. Помнил, как попал в больницу, помнил жар в легких, помнил уколы, здоровую дикцию доктора, сообщавшего о пневмонии и необходимости специального режима, помнил, как отказался от помощи психолога, выделенного ему как потерявшему семью и все смыслы.
Выздоровев, Титмо так и не вышел на работу. Не в силах жить и не в силах умереть, он заперся дома. Поглощая снотворное, большую часть времени он спал. Просыпаясь, Титмо подолгу смотрел в потолок, в точку, или выл, прихватив ртом край подушки.
Все чаще Титмо вспоминал бабушку Марту и ее рассказы, воспроизводил в голове ее ровный уютный голос. «А те, кто утонул, превращаются в свободных и красивых рыб», — вспомнил однажды Титмо и увидел, как жизнь его выходит на новый рубеж…
Титмо начал с учебников по ихтиологии. За месяц посетил все океанариумы Германии. За год объехал все крупные аквариумы Центральной Европы. Специалисты рекомендовали ему дайвинг в Красном море, но он наотрез отказался. Море внушало его человеческой сущности утробный страх и нестерпимую ненависть; оно поглотило основу и содержание его жизни — его семью.
А на Крит он прибыл с единственной целью — изучить местный аквариум.
8
Араик окончил рассказ и глубоко выдохнул. Рассказывал он дергано, иногда даже надрывно, не сдерживая в себе всплесков южной крови, но именно благодаря этой эмоциональности поведанное им обращалось в моих подкорках в живой поток человеческой судьбы.
История Титмо осела во мне пьяной печалью задушевной песни.
— Араик, а ты не спросил у него, что он ищет в аквариумах?
— Спросил. Но он посмотрел на меня очень нехорошо, молча встал и ушел. Но теперь хоть понятно, почему он избегает моря.
— Это да… Слушай, а ведь остров Дио — это та самая безжизненная глыба, что торчит из моря недалеко отсюда, верно?
— Я тоже удивился этому. Странно это все…
Я оглянулся. Пляж опустел наполовину: в отелях близилось время обеда, и отдыхающие спешно расходились. Прибежав с моря, наши жены и дети копошились в палатке. Я крикнул Кате, что пора собираться. Усыпанная искрящимися каплями, она кивнула и побежала принимать душ.
До отеля было пятнадцать минут ходу. Перегретые солнцем, мы с Араиком волочились, как заморенные волки. Пропеченный асфальт дышал жаром, в воздухе тяжело пахло битумом. По дороге мы трижды заходили в магазины — вдохнуть кондиционированного воздуха и остыть.
К моменту нашего прихода в отель мне совершенно расхотелось есть. Я поднялся в номер и упал на кровать. Кондиционер накатывал чудесные волны холода, я лежал и вслушивался в блаженное остывание перегретого тела.
Проснулся я только к ужину — от дикого голода и сильного волнения. Мне вспомнился мой пьяный сон про аквариум, сейчас он казался мне особенно неприятным.
Катя и Лера лежали на соседней кровати, изучая рисованный детский журнал, купленный в местном маркете.
— Привет, семья, — бросил я по пути в душ.
— Привет, пап, привет, — отозвались мои.
Волнение нарастало, и перед ужином я принял двести виски, четырежды опрокинув в себя полную рюмку. Пустой желудок враз всосал спиртное и с силой паровозного выхлопа направил его пары в мозг. Беспокойство исчезло, от этого захотелось есть еще больше. Нужно было идти в столовую, Катя и Лера ждали меня внизу.
В лифте я столкнулся с Титмо. Сегодня он совсем не походил на себя прежнего. Вместо пришибленной осанки — боевой фрунт, на месте жидких глаз — огненные точки.
Почтение к его горю склонило мою голову в уважительном глубоком приветствии. Титмо кивнул коротко и твердо. Перед выходом он пожал мне руку, впечатал в меня взгляд и сказал по-русски, глубоко переживая каждую чужеродную букву: «Спасибо, Валерий». В ответ я радушно приобнял его за хилые неразвитые плечи и чуть не расплакался. После ужина, сморенного спиртным и обильной едой, меня снова потянуло в сон.
Утром нас разбудило чрезмерное оживление в коридоре. Тяжелые быстрые шаги и опережающий восприятие скорый греческий говор. Надо было вставать к завтраку. Когда, собранные, мы вышли в коридор, меня чуть не сбил с ног Араик. Он несся, как раненый зверь, глаза его выражали неподдельный ужас. Мне пришлось его потормошить, прежде чем услышать его голос. Мимо нас пронеслась пара местных полицейских в голубых рубашках с короткими рукавами. У обоих вырастали из рукавов густо волосатые руки. Араик уперся в меня стеклянным взглядом. «Титмо», — произнес он.
9
Дядя Стефана дружил с комиссаром местной полиции. Два толстяка, они быстро сошлись на любви к продолжительным и обильным застольям. Это позволяло знать о происходящих в округе вещах немного больше официальной версии. Стефан, глубоко проникшись случившимся, поделился с нами сполна.
Судя по заключению полиции, мужчина посетил Аквариум за два часа до его закрытия. К вечеру народ стал убывать, и, улучив момент, мужчина спрятался под стойкой последнего в ряду аквариума, в конце зала. После того как последний посетитель покинул заведение, охранник обошел все залы, потушил в них свет и ушел в дежурную смотреть телевизор. Мужчина выполз из-под сосуда, в котором, словно обернутые разноцветной фольгой, плавали экзотические рыбки, встал на раздвижную лестницу, оставляемую чистильщиками в дальнем углу, отодвинул крышку аквариума и нырнул внутрь. Несмотря на длительный предсмертный период, мужчина не совершил никаких попыток, чтобы выбраться из воды. Справляясь с нечеловеческими мучениями, он дожидался смерти, которая и наступила вследствие асфиксии. Перед тем как утопиться, мужчина сделал надпись красным маркером на фасадном стекле аквариума: «Титмо — дельфин».