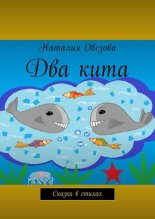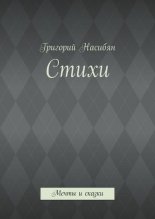Дядьки Айрапетян Валерий
— Весна пришла… — зачарованно выдохнул Семен, потом опомнился, опустил мертвую голову и стал смущенно отряхиваться.
В хирургической реанимации, в этом царстве боли и летальных исходов, образ прекрасного редко кого накрывал; выявив и озвучив его, человек рисковал попасть в диссонанс со средой, с установленным здесь порядком вещей, с властью нерушимых догм. Цинизм, черный юмор и холодность были куда предпочтительней эстетической обостренности и нечаянных восторгов.
Уложив труп, мы покатили его к морозильнику. Лампочку не заменили, в камере все еще стояла антрацитовая ночь.
— Так же, на раз-два, — сказал Семен.
— На раз-два, — отозвался я.
Мы приподняли тело, но вдруг, по молчаливому согласию, решили не бросать.
Ступив вперед и вправо, стали опускать труп почти на вытянутых руках. Внезапно Семен оступился и потерял равновесие, тело соскользнуло, и темнота проглотила его одним глотком.
Хотелось спать. К пяти мы уснули прямо на диване ординаторской, сидя, как пассажиры метро. То ли ангелы небесные встали на свои охранные посты, то ли задремали демоны, но в городе что-то произошло, и за время нашего сна не привезли ни одного сраженного несчастным случаем.
Утром нас подняла старшая медсестра отделения, Нина Петровна. Открыв глаза, я обнаружил над собой навес ее грудей, туго стянутых халатом. Навес раскачивался, будто ялик на взморье.
Мы встали. Утро искрилось светом и билось во все окна. Потрясенный этим, Семен принялся шарить по отделению в поисках сумрака.
К десяти привезли черепно-мозговую, следом — молодого летуна, черт-те зачем шагнувшего с балкона девятого этажа. Летун коротко проконвульсировал и, не дождавшись вмешательства, помер в коридоре. На вид парню было не больше семнадцати. Закончив с формальностями, мы покатили к морозильнику. Семен, отворачиваясь от окон, шел рядом. Когда подошли, он хлопнул по выключателю и принялся отворять дверь. Пока мы спали, в патрон слева вкрутили мощную лампочку. Десятиметровая камера лучилась, как знойный полдень.
Мы уже собрались ухватиться за конечности летуна, как вдруг Семен сказал: «Смотри!» — и кивнул вправо. Я бросил по направлению взгляд и наткнулся на странное сплетение тел. Тела лежали друг на друге, живот к животу, очень естественно и живо, совсем не похожие на два окоченевших трупа. Скорее так встречают утро юные любовники, утомленные долгой и горячей ночью.
Чехов лежал навзничь с широко раскинутыми руками, будто загорал на пляже. Суровые складки больше не омрачали его лица, имевшего теперь выражение нездешнего упокоения и блаженства. Сейчас оно казалось даже красивым.
На нем, озорно подобрав ногу, лежала она. Голова ее покоилась на его серой искореженной груди, повернутое набок лицо устало улыбалось, золотистые волосы разбегались в стороны, как змеи. Классовый контраст тел был очевиден, но сейчас это никак не нарушало их единства. Мир и покой исходил от обоих, как от некогда разлученных любовников, изможденных поиском и наконец обретших друг друга. Мы смотрели на них, как на явленное нам чудо, и в каждом из нас происходила некая работа, глубокая и тихая, по окончании которой мы не могли больше оставаться теми, кем были прежде. Смущенные и растерянные, мы вернулись к нашим обязанностям.
Нежно, как спящего, сняли летуна с каталки и опустили на кафель. Семен заботливо повернул его голову так, чтобы размозженная половина легла на пол и не была видна.
— Совсем еще мальчик, — сказал он.
Мы встали у выхода и с минуту еще смотрели на тела, после чего Семен запер дверь и погасил свет, на этот раз не сотворив тьмы.
Практика
За окном весна и цветет сирень.
В абортарии у нас работа кипит вовсю. Не прекращая тревожиться, стоит дыбом люминесцент и днем и ночью. По белому кафелю равнодушно стекает тоска — со стен на пол, но нам все равно: работа кипит вовсю.
— Эй, студент, — кричит мне доктор, — накрывай!
— Понял, доктор!
На рабочий столик полетела стерильная бязь, на нее — инструменты, все в строгом инквизиционном порядке. За дверью нетерпеливо бубнит очередь.
— Накрыл?
— Накрыл.
— Приглашай.
Заглядываю в блокнот. Первая — Столярова. Открываю дверь.
— Столярова!
— Я!
— На прием.
— А это больно?
— Вам или тому, что в вас?
— Мне.
— Нет.
— Почему так долго? — нервно несется из очереди. — Мы все занятые люди. Время — деньги.
— Убийство, дамы, требует подготовки, — отрезаю я, вытаскивая голову из дверного проема.
— Студент, определи срок, — жуя жвачку, просит доктор.
— Будет сделано, док!
Пока женщина взбирается на кресло, прозванное Эверестом, и разбрасывает ноги по подколенникам, я надеваю перчатки, смачивая пальцы в физрастворе для лучшего скольжения. Два пальца вовнутрь, ладонь на лобок. Катаю маточный шарик. Все просто: матка с куриное яйцо — 6–8 недель беременности, с кулак — 10–12. Я хороший студент и делаю все быстро и вовремя.
— 10–12 недель, доктор.
— Хорошо, молодец.
Дальше — проще. Пока доктор, прищурив ювелирный глаз, исследует дамские пустоты, я полощу эмалированную кастрюльку — из обычной кухонной утвари, наспех переименованную в «для дистрактного материала».
Всем вещам нужны имена, и кастрюльке, волей судьбы попавшей в абортарий, тоже.
— Наркоз готов? — неожиданно вылупился из-под промежности док.
— Смотря что оплачено. Промедол или местный?
— Промедол.
— Готово, док!
— Тогда вводи.
Перевязываю жгутом выше локтя, ввожу иглу, отпускаю жгут, опустошаю шприц. Женщина закатывает глаза и сладко выдыхает. Спустя минуту доктора осеняет.
— Слушай, по-моему, ее не берет. Дай ей ладошкой по лицу.
— А вам слабо, док?
— А я в перчатках стерильных.
— А-а-а…
Шлеп, шлеп. Спит.
— Ну, тогда поехали, — воодушевился доктор и, резво напевая «Зеленый светофор» Леонтьева, принялся впихивать в маточную шейку расширители Гегара. Все в строгом инквизиционном порядке: № 1, № 2, № 3, и так до десятого, пока маточный зев не достигнет оптимального диаметра. В ход пошли кюретки, поблескивая холодом медицинской стали.
— А почему, почему, почему, — напевает доктор, погружая петлю кюретки в разинутое лоно, — светофор зеле-е-е-е-ный, — и водит рукой назад-вперед, в одном ритме с припевом.
— Эй, студент, хочешь попробовать?
Я хороший студент, я обязан постигать науку во всех ее аспектах, и я говорю: «Да».
— Надевай варежки. Уже надел? Подходи.
Перенимаю у доктора инструмент.
— Нежно, но с усердием. Чувствуй ткань. Понял?
— Да.
Хрысь, хрысь, хрысь, хрысь. Моя кюретка скользит по маточной изнанке, соскребая со стенок притаившуюся жизнь.
— Ладно, хватит, давай сюда. И неси посуду.
Кастрюлька, прижавшись к кафелю, равнодушно ждет.
— Скорее, — ерничает док, — сейчас потечет!
Подставляю кастрюлю вплотную к нижней смычке половых губ, так чтобы нисходящий конец металлического зеркала касался посудного дна. К кюреточному «хрысь» подмешивается кисельный «хлюп», и спустя мгновенье из шейки матки показываются багровые сгустки, лениво стекающие в вогнутый ободок зеркала. И понеслось…
Хрысь — хлюп — хрысь — хлюп — зеленые светофоры — боязливо-брезгливый прищур доктора — равнодушие кафеля — весна за окном — очередь за дверью. Хрысь — хлюп — хрысь — хлюп — стекает дистрактный материал в объятия моей кастрюльки.
Что ж, стекайте, младенцы, стекайте, осужденные, стекайте по частям, стекайте целиком, под забористый напев славного доктора. Лейтесь, несостоявшиеся Моцарты и Бахи, Рафаэли и Ван Гоги, перекатывайтесь кровяными сгустками, нерожденные гении и злодеи, казановы и неудачники, террористы и честные налогоплательщики, красавицы и прыщавые мечтательницы, творцы и паразиты, стекайте с высоты Эвереста вялыми комочками — прямо в бездну эмалированного дна!
Вас отвергла материнская утроба?! Не отчаивайтесь! Моя кастрюля станет вам обетованным приютом в промежутке между абортом и турбулентной течью водопровода. Так что стекайте смелее, назло всем рожденным, стекайте осанной, навстречу чарующим веснам, лейтесь прогорклым маслом, дурманящим соком, осыпайтесь ромашковым цветом, перекатывайтесь, имитируя жизнь — ведь жить так хорошо, так весело, так сладко!
— Студент, эта готова. Гони каталку, — вздыхает доктор.
Три-четыре — и освобожденное от новой жизни тело томно распласталось на каталке.
— Увози в третью, там просторно. Не забудь пузырь со льдом на лобок.
— Слушаюсь, док!
За дверью нервно ежится очередь.
— А скоро?
— А больно?
— А доктор хороший?
— А это быстро?
«Да, нет, да, да!» — удовлетворяю по очереди иступленное любопытство абортичек, с трудом вписывая каталку в сложный поворот. Возвращаюсь в операционную и вымываю кастрюльку под краном. Случайный сгусточек упрямо не смывается. Подношу слизистый комок к свету. Боже! Через мутную слизь просвечивают жилки скелетика. Потрясенный, спешу к доку.
— Доктор, смотрите: человек, человек!!!
— Ах, — тянет доктор, — убери, убери… Лучше накрывай на стол, хоть с половиной справиться бы к обеду.
Смываю человечка мощной струей воды, надеваю перчатки, накрываю на стол — все в строгом инквизиционном порядке. Гляжу в журнал, приглашаю дам, удовлетворяю нетерпение очереди.
За окном весна и цветет сирень.
История Лейлы
В макушке Лейла достигала потолка. Могучий треугольник ее туловища застилал собою вход в кабинет. Как две стратегические боеголовки, выпирали из широкого торса груди, их тонус предполагал возможный запуск. Голос Лейлы позволял ей в минуты возмущения разряжаться яростью пароходного гудка. Каждое воскресенье она приносила свое окровавленное сердце и швыряла его мне под ноги.
— Вот, — говорила она. — Посмотри.
Мне следовало смотреть, а после говорить, что все не так уж плохо, что жизнь — это всего лишь сон, иногда, правда, кошмарный. Помимо прямых обязательств, наложенных на меня профессией массажиста, я исповедовал Лейлу, успокаивал и настраивал на бодрый лад. Чтобы размять громаду ее тела, я выкладывался, как галерный раб. Всегда трудоемкий массаж в случае с Лейлой превращался в род пытки. Простое поглаживание изматывало, точно строгание тупым рубанком, растирание роднило меня с дикарем, добывающим огонь трением. Трагедия Лейлы заключалась в чрезмерной горячности ее могучего тела, остудить которую никто пока не решился. Муж Лейлы, проявивший горячность в служении и к сорока годам примеривший мундир полковника милиции, был холоден в постели, так и не сумев погасить неуемного жара супруги. Но Лейла не сдавалась: подсовывала мужу эротические журналы, зажигала ароматические палочки, рядилась в алое кружевное белье, чем становилась похожа на гору с пылающими на ней маками. Периодами, устав от тщетных попыток расшевелить мужа, Лейла решалась завести любовника, даже давала перед сном клятву, что в течение недели найдет себе любовника. В минуты ночных грез воображение Лейлы подло выдавало Кларка Гейбла, который целовал Лейлу в губы и даже немного клонил ее назад, придерживая монументальное туловище сильной и легкой рукой. Таких клятв Лейла давала себе раз двадцать, но так и не дошла до реализации поставленной цели, так и не выполнила данных себе ночных обещаний. Мужчина, женский идеал которого хоть отдаленно напоминал бы Лейлу, если и существовал, то за пределами видимого ею горизонта. Несчастье своей жизни Лейла любила редкой, неистовой любовью. Она несла его в себе с тем трепетом, с каким вдруг забеременевшая, а прежде бесплодная женщина вынашивает младенца. Несчастье жило в ней, как опухоль, оно мучило ее болью и ласкало надеждой.
— Вот, — повторяла она. — Посмотри.
Так прошли две недели и половина наших с нею встреч. После сеанса Лейла искрилась, как бенгальская свеча, и плотоядно поглядывала в мою сторону. Я же, облачаясь в мантию непроницаемости, улыбался в ответ и напоминал о необходимости соблюдать диету.
Уже на втором сеансе Лейла принялась расписывать передо мною исторические панорамы. Она имела диплом историка, но работала в компании по продаже соков. Любовь к истории помогала ей в минуты отчаяния, которое, видимо, и охватило ее ко второму сеансу. В рассказах Лейлы оживали короли и придворные, лилась кровь изменников, текли лиловые соки затяжных оргий. Золото древности запылало передо мной, как костер.
Я наблюдал за тем, как Генрих Плантагенет влюбляется в Элеонору, слышал чудовищный вопль Эдуарда Второго, когда его анус пронзала раскаленная шпага, Иван Грозный в трех от меня шагах прикладывал к своим зловонным язвам изумруды и сапфиры. К пятому сеансу мы подошли к границам Нового Времени. Царь Петр и Карл XII. Большие перемены, завернутые в алые полотнища предсмертных воплей.
Уже к восьмому сеансу личная жизнь Ильича предстала передо мной, лишенная тайн. Окончание курса пришлось на развал Союза. Кутеж и свальный грех в кремлевских палатах, страна несется навстречу свободе, как пьяный корабль, в трюмах и на палубе то и дело раздается пальба, трупы выбрасывают за борт. Мировая история, поведанная мне Лейлой, была пропитана страданиями человеческой плоти и торжеством отмщения. Всякая историческая веха обещала изменить мир, обещание это подкреплялось обычно массовым кровопролитием. Народ ликовал, а после все возвращалось на круги своя, все текло, как и раньше — и так до наступления новой необходимости что-либо обещать и пускать кровь.
На последнем сеансе, в самом его конце, когда общими пассами я принялся соединять тело в одно целое и проводил ладонями от головы к стопам, Лейла заревела. Я как раз закончил второй из трех положенных пассов и подошел к голове, чтобы приступить к последнему. У Лейлы открылся рот, из которого вырвался стон, пронзительный и хриплый, будто со спины ее настиг убийца и заколол в сердце. Удивление и боль соединились в крике, как бечевки в хлысте.
Я отпрянул и встал посередине кабинета. За стенкой шумел турбосолярий, крик растаял в воздушных потоках, нагнетаемых мощным вентилятором. Упершись руками о боковины массажного стола, Лейла слегка приподнялась. Одеяло, которым я накрывал ее, сползло, оголив белое мраморное тело и арбузные груди. Они были невыразимо мощны и огромны, но лежали как-то грустно, словно им было неуютно, но они ничем не могли себе помочь. Груди, полные печального молока, подумал я. Хотя никакого молока там не было уже лет двадцать как: дочь Лейлы училась в институте, ненавидела мать и жалела отца.
Лейла присела на стол и зарыдала. Голова ее затряслась в ладонях, спрятавших лицо, туловище задрожало, а груди стали подпрыгивать, как счастливые дети.
Я стоял и думал, как быть.
Слезы размывали жирные тени и дальше текли по рукам черными ручейками, а с локтей капали на груди и текли уже по ним. Лейла не останавливалась и продолжала плакать. Ее засасывало все глубже, будто она попала в воронку и не противилась поддевшей ее стихии, овладевшему ею порыву.
Откуда-то сбоку нашло на меня это чувство. Как внезапное пробуждение, как нужное решение долгой и трудной задачи. Сначала я вспомнил Элеонору, брошенную Генрихом, потом Марию Стюарт, гордо восходящую на эшафот в шелковом пунцовом платье и кладущую причесанную голову на плаху, Павла Первого, заколотого в своей опочивальне, потом расстрелянных дочерей Николая Второго, с выбитыми глазами и детскими искромсанными лицами, потом сожженных белорусских детей вместе с матерями, евреев в гетто, армян, брошенных на скалы…
Род человеческий страдал, короли и цари умирали в мучениях, рабы гибли от голода и побоев, и Лейла, жена полковника милиции, неудовлетворенная женщина с несбывшимися мечтами, восседала сейчас на массажном столе и тоже страдала, стеная о горькой своей судьбе, о бесстыжей своей силе, о своем одиночестве.
Я подошел к Лейле и обнял ее, насколько мне позволяла длина рук. Я обнял ее и поцеловал в заплаканные размытые глаза. Лейла схватилась за меня, как за спасательный круг, и что есть силы вжалась. Правая ее грудь распласталась вдоль моего живота, от этого сдавленный сосок вынырнул из-под моих ребер и выглянул оттуда, будто трусливый зверек. Лейла замолкла и горячо продышалась в мою подмышку.
— Сестра моя, — сказал я ей. — Плачь.
— Вот, — всхлипывая, прохрипела она. — Посмотри.
Я поднял глаза и увидел, как палач взметнул топор к небесам, с силой опустил его, и голова Марии Стюарт покатилась по эшафоту к замершей и восхищенной толпе.
Немощные
Всякий раз, когда Генералу предстояло дать интервью, выступить на конференции или отчитаться перед вышестоящим, он звонил мне накануне вечером и просил принять его утром.
Я неплохой «специалист по телесной медицине», а попросту — массажист, и Генерал мне доверяет. Ему нравятся мои руки: «сильные и мягкие одновременно».
Он стоит посреди кабинета: крупный мужик с большим животом и при полном параде. Сегодня его ожидают телевизионщики, необходимо высказаться о «противодействии терроризму». Я киваю и прошу раздеваться. Пока мой Генерал снимает китель, галстук, штаны с лампасами, я расставляю в нужном порядке масла, мази, присыпки. И вот он уже в черных шелковых семейниках, оттирает стопы, готовится лечь на стол. Я бросаю на него взгляд: Генерал в этот момент с сожалением покачивает головой и хлопает ладонями по животу.
— Вот, запустил, никак не могу себя заставить в зал пойти… — извиняется он.
Блестящий офицер ГРУ, профессиональный убийца, герой Афгана, в чьем оплывшем, немолодом, но все же бравом лице проступают еще черты хищника, стоит передо мной, краснея, точно дева на смотринах.
— На ночь бы еще умудриться б не есть, но как откажешься? Не могу… — добавляет он, укладываясь на стол, и уже через минуту засыпает крепчайшим сном, сопровождаемый такой изумительной политональной трелью храпа, что хоть подпевай!
Генерал заказывал общий массаж, и я начинаю со спины, затем массирую голову, после перехожу к ягодицам. Как только я приспускаю трусы, Генерал вмиг перестает храпеть, приподымает бровь, открывает глаз и удивляется в пустоту: «Хы!» Убедившись, что я не талиб, готовый обесчестить своего пленника, бывалый солдат закатывает глаз и умиротворенно засыпает. Я не могу не улыбнуться бдительности клиента, тем более что она обнаруживает себя каждый сеанс и исключительно в момент подготовки ягодиц к массажу.
После Генерала («Массаж — великая вещь! Спасибо!») я принимаю Жену Финансиста. Красивая блондинка, чуть меньше тридцати, мать ребенка, не работает, следит за собой и за модой. Считает, что «красоту необходимо поддерживать в первую очередь изнутри». Меня ей рекомендовали, но она не скажет, кто именно. Кокетничает.
— Общий массаж плюс антицеллюлитный сделаем, дело к весне как-никак, надо убрать лишнее, не могу ведь я с этим… — наставляет меня, оглаживая пухлые боковины бедер — «попные уши».
Пока я копошусь с гелями, спреями, щетками, она не спеша раздевается, оставаясь в поле моего бокового зрения: на ней белые трусики тончайшего кружева.
— Не боитесь запачкать маслом? — спрашиваю, тыча в белье.
— Ой, и вправду. Муж подарил… Сниму от греха подальше…
Обнаженная, ложится на стол — с такой лоснящейся довольством негой, будто уверена, что ни один из прожитых в будущем дней не принесет ей ни единой неприятности. Благодарно вздыхает, когда разминаю мышцы надплечий, мурлычет, когда поглаживаю бока, игриво повизгивает, как только начинаю интенсивно пощипывать внутренние поверхности бедер. В конце процедуры наношу на ноги гель, препятствующий накоплению в «подкожке» жира.
— А давайте я встану, чтоб на все ноги сразу нанесли?
— Конечно, как вам удобно… — не могу отказать клиентке.
Жена Финансиста встает, упирается натренированными фитнесом руками в стол и раздвигает ноги. Не придавая значения этой стремительности спортивного тела, стою на коленях и втираю «устраняющий апельсиновую корку» эликсир в молодую кожу. Спустя несколько пассов клиентка ложится туловищем на стол, представив моему взору один из самых совершенных видов: тугой бутон, увенчанный темнеющей в глубине округлых, мясистых полусфер звездой. Обернувшись, Жена Финансиста целит в меня лукавый прищур, ведет бровью и тянет в улыбку рот. Во мне борются мужчина и врач, боевой клич горца и европейский подход к сервису. «Давай, действуй!» и «Не смей!» заглушают друг друга с частотой барабанной дроби перед смертельным цирковым трюком.
— Извините… — произношу наконец и, дотерев эликсир, выхожу из кабинета.
Уходя, Жена Финансиста, одарив меня взглядом, который обычно посылает женщина мужчине, не оправдавшему ее ожидания, проходит к кассе, горделиво расплачивается и уходит.
Мою руки, жду следующего клиента. «Сложный», — записан он в моем рабочем блокноте.
Владелец двух строительных корпораций, смуглый, с тяжелой смоляной головой, дружит с принцем Альбертом и любит обычную, но молодую и сильную нравом женщину. Богат, щедр, жесток и сентиментален. Отелло и Пьеро. Сплошные блоки в спине, тяжелый череп, дряблые ягодицы. Обида, ненависть и желание быть любимым проникли в тело так глубоко, что одним массажем тут не обойтись. Я рекомендовал когда-то ему психоаналитика, но клиент был непреклонен: «Еще мозгоправа мне не хватало!»
…Это повторялось последний месяц нашей с ним работы. После сеанса общего расслабляющего Сложный рыдал малышом, матерью оставленным, упершись в мою волосатую грудь, прикрытую хлопком зеленой хирургической рубашки. Его экстравагантная и отчаянная искренность наряду с финансовой мощью и статусом воротилы подкупали меня. Я сочувствовал ему.
— Она изменяет мне… и врет, врет… все время врет!.. Могу убить ее, любовников этих, все могу, а разлюбить ее не могу, не могу, понимаешь?! — голосит он сквозь частые всхлипы.
Я поглаживаю его мрачную, недобрую, мелко подрагивающую от сдавленного плача голову.
— Бывает, бывает… Надо жить дальше… Вы ведь сильный…
Через два года, пропитанное обидой и горечью, тело его изъест себя саркомой и умрет. А пока я совершенно естественно нахожу слова, что могут хоть как-то ослабить муки стареющего, угрюмого и сильного самца, чья юная самка счастливо и легко отдается молодым и веселым.
Выплакавшись, он расхаживает по кабинету, как человек, что-то мучительно вспоминающий.
— Мне пора! — говорит он вдруг и жмет большой сухой ладонью мою — большую и мясистую.
Когда он будет проходить сложную химиолучевую терапию в Германии, молодая самка сбежит к его партнеру. Думаю, это обстоятельство лишило его сил, и борьба с болезнью не только потеряла смысл, но и стала бременем, ибо взывала к жизни.
После трех «контактов» обычно отдыхаю, набираюсь сил. Сижу в холле клиники и смотрю телевизор, попивая чай. Листаю каналы, очарованный несусветной ерундой ток-шоу и сериалов, отдыхаю со скоростью 24 кадра в секунду. И вдруг — ба! мой Генерал!
Сидит, окруженный нацеленными в голову, точно дулами пушек, микрофонами телеканалов. Суров, собран, глядит исподлобья.
— Мы остановим заразу терроризма! — вещает он не сомневаясь. — Мы сделаем это, потому что мы можем!
На подходе новый клиент. Нужно произвести хорошее впечатление: быть вежливым, грамотно отвечать на вопросы, внимательно слушать, работать первый сеанс не во всю мощь и непременно внушить надежду на исцеление.
Покрываю стол свежей простыней, расставляю масла, крема, гели, присыпки, омываю руки, приседаю (для бодрости), глубоко дышу. Новый человек — новая история, новая боль. Следует подготовиться. Не могу иначе…
Антонио
Антонио встал и переставил диск.
— Привез с Ибицы, — сказал он.
Музыка нагнала фон, фон — настроение, и разговор потек в нужном русле. В квартире Антонио можно говорить только о женщинах, и если, скажем, начать разговор о бухгалтерском учете, то сведется он все равно к женщинам.
Антонио — большой любитель женщин. Ставший мужчиной в тринадцать и крайне впечатленный полученным опытом, к сорока он не сбавил оборотов.
Если вскрыть все ящики, из которых состоит Антонио, то в углу каждого непременно отыщется фигуристая молодуха не старше двадцати пяти. Ему скоро сорок, выглядит он на тридцать, думает о сексе как в двадцать.
— Как твоя последняя? — спрашиваю, не в силах оторваться от международной предметности его быта.
— Какая именно?
— Ну, та, что заглатывает целиком? — говорю, сконцентрировавшись на самурайских мечах.
— А… Так это… Уже все вроде…
— Она же тебе нравилась…
— Да, да, нравилась… Но в одно утро, понимаешь, встал раньше обычного, отлить вроде, смотрю на нее, на спящую, а у нее нос и горбинка на носу невнятная какая-то… Я как представил, что через годы с горбинкой этой будет… В общем, разонравилась она мне, понял, что не моя женщина.
— Из-за горбинки?! Так ведь, э-э-э, пластика носа там, хирургия…
— Не знаю, не знаю… — промямлил Антонио, присаживаясь на высокую тахту. — Видишь ли, хочу найти, чтоб все по мне…
— Блин, это же бред! Тебе пошел пятый десяток — какие на хрен идеалы?!
— Почему идеалы? Просто хочу, чтобы женщина подходила мне. Выпьешь еще?
— Наливай. Слушай, когда ты успел всей этой экзотической фигней затариться?
— Да… Путешествую много. Кое-что здесь покупаю, что-то дарят. Бивни, например, здесь у одного индолога купил. Мечи подарили, плетенки из Таиланда привез, кувшин с Китая, в общем — с миру по нитке.
— Ясно. Ну, это… Нос с горбинкой. И что ты ей сказал? Она, как я понял, планировала с тобой встретить счастливую старость.
Мы синхронно засмеялись. Дряхлый Антонио и начинающая стареть молодуха с разросшейся горбинкой на носу выглядели анекдотично.
— Ничего не сказал особенного. Сидим вечером у меня, фильм смотрим. Она раз — и на мне. Ну, потрахались. Через двадцать минут снова ластится. Я ей говорю: «Малышка, я фильм смотрю. Мне интересно». А она, знай себе, все лезет. Я ей второй раз говорю. Ноль реакции. «Малышка, иди помой посуду». Обиделась. «Я, — говорит, — домой лучше пойду». «Иди, — говорю, — пока». Ну, вот и все, в принципе.
— Не жаль? Как-никак искусница…
— Новая у меня старушка, правда, двадцать семь ей, зато визжит как резаная. — Антон вскинул брови и мечтательно вытянул губы. — Такое вытворяет… Никаких комплексов. Завожусь, как в восемнадцать…
— Это показатель…
— Еще какой… И не обидчивая, знаешь. Не напрягает. Комфортная телка, в общем.
Стены в квартире Антонио завешаны эротическими плакатами. Со всех сторон, не тая искуса, на меня взирают европейки с красивыми персиковыми бутончиками между ног, тугозадые негритосочки, гибкие азиатки с невинными лицами, рыжие ирландские фурии, латиночки, лоснящиеся от загара и приятной истомы… О чем еще можно говорить, пенясь в стекающих отовсюду эстрогеновых потоках!
— Антонио, а семья? А дети? Памперсы там всякие, школа, институт, трудности характера… Не хочешь?
— Ну почему не хочу… Видишь ли, все по-разному к этому приходят. Ты вот рано пришел, кто-то вообще не хочет, а я хочу, но еще не пришел. Одно радует: тянет меня последнее время к чему-то стабильному, и…
— Ни хера себе стабильность! — прерываю его, с трудом отводя взгляд от персикового лона европейки. — Третья девица за месяц. Если это стабильность, то у других, выходит, глубокая заморозка. Нет, Антонио, семья — это не для тебя. Обязательства, ответственность, времени постоянно в обрез, страхи за детей, одна и та же задница прижимается по ночам. Ты у молодой роскошной девицы умудрился отыскать гребаную горбинку на носу, после чего выдал ей расчет, а жену после родов — с растяжками, обмякшими сиськами — тоже рассчитаешь?! Так что не парь меня насчет семьи. Налей лучше, выпьем…
Причмокнув и несогласно вертанув головой, Антонио потянулся к бутылке. Алые шторы, тлеющая ароматическая палочка, бивни, мечи, иероглифы, интимные гели, выставленные в ряд, точно солдаты, эротические постеры, музыка с Ибицы, янтарный коньяк — все это создавало совершенно иную реальность, пропитанную соками любви и озаренную жарким присутствием тропической луны. Лишь изредка проезжавший за окном трамвай напоминал нам, что мы на Васильевском острове и что за окном бушует февраль. Но стоило трамваю укатить, как из-за шкафа вновь выкатывалась жаркая луна, довольная и манящая.
— Нет, правда, — сказал он тихо, — хочется определенности. Насчет семьи не скажу точно, но определенности определенно хочется.
Антонио улыбнулся собственному каламбуру.
— Слушай, Антонио, а на кой черт тебе сдалась эта определенность? Зачем тебе эти привязки? Ты другой. Жизнь потускнеет, а смерть станет ближе. Живи как живешь. Помнишь анекдот про еврея и стакан воды?
— Да, помню: «А пить-то не хочется!», гы-гы… Но я не о том… не о том… Будешь еще?
Я кивнул. Антонио разлил остаток коньяка, и мы оба замолчали. Громыхнул трамвай. Каждый думал о своем. Я — о ранней семейности, Антонио — о возможности поздней женитьбы. Но думали мы, в сущности, об одном и том же: о невозможности покоя по обе стороны экватора. Из-за шкафа всплыла луна, и девушки с постеров пустили по комнате еще одну волну чистого эстрогена.
Тяжелая промышленность
Перед отъездом в Питер я позвонил Лене и сообщил, что можно увидеться. До этого мы виделись всего лишь раз. Я запомнил красивое лицо и роскошную попу, стекающую с глубокого поясничного прогиба. Мы долго переписывались, но так и не встретились. Я запомнил адрес, а сложный код домофона Лена пообещала выслать на номер Аслана — моего друга, с телефона которого я и звонил. Мы условились подъехать к ней через три часа. «Орджоникидзе, 6», — повторила Лена и повесила трубку.
— Она мне нравится, — поделился я с другом. — И знаю: я ей тоже.
Аслан притормозил у кирпичной девятиэтажки и всмотрелся через лобовое в адресную табличку.
— Слушай, а кто такой этот Орджоникидзе? — спросил он.
— Первый нарком тяжелой промышленности. Еще при Сталине…
— Мм. Понятно. Ха-ха… НАРКОМ. Гасился мужик, что ли? — Аслану смешно.
— Скорее гасил… Набирай код, братан.
Друг, вглядываясь в смс-сообщение, тыкал по клавишам домофона.
Пиликнуло, и мы вошли.
Лена открыла, отошла в сторону и прислонилась к стене. Вид ее был застенчив.
Я вошел первым, чмокнул Лену в щеку, потом развернулся и представил ей Аслана, который на секунду потупил взор, потом посмотрел на Лену и улыбнулся ей тонкими губами.
На кухне мы разгрузили пакет, разлили по бокалам вино и сели с Асланом за стол. Лена, разложив по тарелкам жареную семгу, поставила в раковину раскаленную сковороду и открыла кран. Густой клуб пара взвился кверху, как джин, и расползся по потолку.
Кухня была очень мала — от двери до окна было не более трех шагов. Слева от входа, прижавшись друг к другу, теснились стиральная машина, холодильник и газовая плита, будто бы бросая вызов этому ущербному пространству.
— У тебя стиралка, — Аслан кивнул влево. — Это удобно.
Лена вспыхнула одобрением и кивнула. Подмеченная деталь комфорта была ей приятна.
— Да, да, это очень удобно!.. Иначе бы все руками пришлось… Ну, за встречу!
Лена вытянула руку, и тень от бокала легла на колбасную нарезку. Аслан покашлял в кулак, я чокнулся с Леной. Во дворе завопила сирена сигнализации. Друг кашлянул еще раз и энергично замотал головой, будто не соглашался с тем, что заболевает. Было видно, что он простужен: его потряхивало, иногда он передергивал плечами.
Выпить с нами он не мог, так как был за рулем, да и не стал бы все равно. Алкоголь выбивал его из привычного ритма, размягчал и мутил голову. Выпивший в его системе взглядов был равен слабому, а слабых, как известно, первых пускают в расход.
Мы болтали с полчаса, а потом Аслан предложил переместиться в комнату, залечь на тахту.
— Мне холодно, — произнес он, смущаясь.
Войдя в комнату, я обошел ее по периметру, потом сел на тахту и стал осматриваться.
Как только приходилось мне соприкасаться с человеком, который занимался совершенно непонятным для меня делом и находил в нем весомый смысл, я тут же пасовал перед ним.
Кто-то уже нашел, думал я, значит, он больше меня, значит, он сильнее.
И вот сейчас, когда я смотрел на развешанные вдоль шкафа пестрые, ядовитые платья, цветные накладные воротники из меха, шарфы из перьев, туфли на двадцатисантиметровых каблуках и парики, то сразу ощутил то чувство безнадежного отчаяния, какое, вероятно, охватывает отца, что вернулся после долгого отсутствия домой и застал там другого, которого его сын называет папой.
Вещи смотрели на меня молча и торжествовали, упиваясь моим поражением.
Аслан забрался на тахту и укрыл покрывалом ноги. Лена внесла бокалы, потом бутылку и расставила все это добро на краю журнального столика, большую часть которого занимал раскрытый ноутбук. Легкая походка сильного гибкого тела. Тело с пружиной внутри. Мне всегда нравились девушки с чистыми лицами и крепкими, спортивными бедрами. Такие девушки внушали мне чувство надежды и возможного счастья.