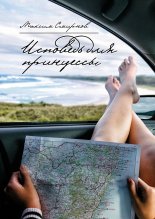Печалясь и смеясь Щербакова Галина
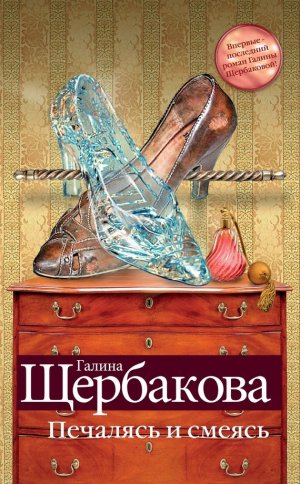
Может, в нас отсутствует орган, отвечающий за чужую боль? Или его не туда пришпандорили? Сломаешь голову, печалясь и смеясь…
Галина Щербакова. Из интервью
Предисловие
Как родилась идея этого сборника? Из нечаянно подсмотренного соседства двух мнений на интернетовском читательском сайте. Первое: «Талантливый автор талантливо пишет. Но так, что настроение портится всерьез и надолго». Второе: «Книга легкая, интересная. В ней есть и юмор, и ирония, и любовь, и ревность, и даже злость». И то и другое суждения – об одной и той же книге Галины Щербаковой. Возникающее из их сочетания противоречие и напомнило высказывание этого автора, которое вынесли в эпиграф книги: «Может, в нас отсутствует орган, отвечающий за чужую боль? Или его не туда пришпандорили? Сломаешь голову, печалясь и смеясь…»
«ПЕЧАЛЯСЬ И СМЕЯСЬ»?.. Не является ли это формулой творчества оного прозаика? Сделать чужую боль «своей» для читателя – не это ли главная задача писательницы? «Читала книгу и думала о том, какой ад творился в душе Щербаковой, когда она ее писала. Горечь и боль писателя за время, в котором мы живем, за людей, которые в погоне за материальными благами теряют человеческий облик, – вот что я увидела в этой книге» (olvia, www.review-books.ru; о книге «Трем девушкам кануть»). «Книгу выдержат, пожалуй, только те читатели, которые не боятся очень сильной, тяжелой и пронзительной прозы» (Марина Маркелова, «Аргументы и факты»; о книге «Яшкины дети»).
Однако, как выясняется, опасения того, что от чтения этих книг «настроение портится всерьез и надолго», сильно преувеличены. Среди читателей Щербаковой много ценителей ее стиля, которые получают удовольствие от ее манеры изложения, ироничной, в меру отстраненной, от так называемого щербаковского юмора: «Теперь мы говорим иногда цитатами, вспоминаем какие-то особенные щербаковские словечки и выражения» (liana_lj).
«Главное – это ее интонация, – заметила литературовед, критик Алла Марченко, – сам способ рассказывания, я бы сказала – довлатовский. И читают ее, так же как и Довлатова, и интеллектуалы, и люди простые». «Природный оптимизм и благожелательное отношение к людям удержали ее от мрачного (и весьма даже соблазнительного в своей ужасти) бытописания нашей и впрямь далеко не всегда приятной жизни; здоровое же чувство юмора и умеренный скептицизм не позволили окунуться в леденцовые реки (пряничные берега) сентиментальности» (Татьяна Морозова, «Литературная газета»).
«Когда мне грустно, я читаю Галину Щербакову – чтобы довести уровень грусти до нижней точки, а потом, как правило, становится легче. Таких писателей в мире очень мало…» (Обзор книг от Анны Матвеевой, http://tau.ur.ru/matveeva.) А известный российский бард Олег Митяев по-своему точно определил отношение писательницы к жизни: «Для того чтобы стало веселее, нужно петь грустные песни».
Итак, печалясь и смеясь… В сборник вошли в основном неизвестные широкому читателю тексты – отрывок из неоконченного романа, рассказы, написанные и в привычной для автора реалистической манере, и сочинения в духе модернизма и даже абсурдизма. («Я не реалист в грубом понимании, – говорила Щербакова. – Но никто меня и не обвинит в оторванности от жизни».) Как бы в противовес к ним – очерки, эссе журналистского толка. Они главным образом – «печалясь», а рассказы – к тому же и «смеясь». Они по замыслу составителя расположились парами: истории «из действительности» цепляют какие-нибудь писательские фантазии – «…скорее грустные, чем смешные, – так завершала свой обзор книг упоминавшаяся здесь Анна Матвеева, – все про жизнь, про жизнь…»
Как она выбирает любовника
Ко мне пришла юная журналистка, красивая и деловая. Ума не приложу, зачем я ей нужна, но мы знакомы сто лет, с ее детства. Она писала у меня под кусточками на даче. Такая была прелесть. Ее занимает вопрос измены. Нормальный вопрос, через который проходит практически каждый человек, ибо он не от лукавого, этот вопрос, он от самого человека, которому, чтобы стать старым, надо много раз видоизмениться не только телом, но и сердцем, и умом. А чтобы стать еще и мудрым, надо как следует перестрадать и душой. Измена, она как-то ложится в этот ряд волшебных изменений. Мою визави, видимо, мучает ее грех любви с женатым мужчиной. Ей хочется, чтоб я ее погладила по спинке, как в детстве, и сказала, что все, мол, ничего, сама дважды женилась, это пройдет (или не пройдет), ну, в общем ей хочется получить от меня какую-никакую индульгенцию, чтоб увереннее идти дальше. И я произношу банальщину, ибо ничто так не выручает, как избитые истины. Это верные кочки в болоте жизни, по которым мы его переходим. Они потому и называются избитыми, что несть числа по ним идущим и спасающимся. Другое дело, что человек – существо любопытное по природе, вот чего только не напридумывал, чтобы не становиться ногой на избитую кочку. Электричество, кибернетику, геном, атомную бомбу, придумал высокие, в небо, храмы и низкие плоские освенцимы. Но я треножу себя. Это другая, больная для меня тема. Широк человек, неплохо бы обузить. Обуживаюсь.
Конкретно о разговоре с юной журналисткой, которой я что-то там наговорила на магнитофон, потом читала это в газете и думала: я это или не я? Я, потому что проклятая техника все зафиксировала, и не откажешься, но ведь и не я тоже. Потому что мой плюрализм, моя широта взглядов на адюльтер и свободную любовь, увы, отнюдь не так широки и безграничны. И вообще я строгая в морали дама. Хотя и не до такой степени, какой меня хотела бы видеть девушка из Нижнего Тагила, от которой я получила письмо.
Письмо издалека. С осуждением всего, что выше мною сказано. Вот оно. «Обсуждая судьбы ваших героинь, мы вдруг увидели, что это мы сами, мы сегодняшние, а будет завтра, и нам надо найти не просто нравственный выход, но выход духовный. Именно духовности им, вашим героиням, и не хватает. Нравственность имеет потолок. Суть же Человека – преодоление потолка. Веры не хватает нашим женщинам, той веры, которую мы потеряли на своем человеческом пути». Дальше речь идет о православии как спасении, но я позволю себе не касаться конфессиональных подробностей. Безусловно, вера – вершина человеческого духа. Но бог один. Ему, весело взявшись за руки, молятся негры-протестанты; чинно сидя на высоких лавках, шепчут молитвы строгие католики; ироничны в своей бесконечно длинной вере иудеи; горячи и страстны по молодости Магомета мусульмане; чванливы православные, смеющие думать, что только они знают божественную правду. А бог один. И он дал нам право выбора. Как выяснилось впоследствии, это одно из самых великих и мучительных прав, всегда, в большом и малом, решающих, в сущности, один-единственный вопрос: в результате выбора остаешься ты человеком или тебя сносит в другое пространство, где ты и потеряешь ту нить, что связывает тебя с Создателем. Нить эта очень крепка – такова любовь бога. И мы натягиваем ее за жизнь своими грехами до истончения, но вера все равно держит нас до свершения нами непростимого зла.
Кто я такая, чтоб определять иерархию человеческих грехов? Они не мною описаны, но клянущиеся на Библиях президенты развязывают войны, клянущиеся на конституциях мочат в сортире, воруют все: православные и иудеи, мусульмане и буддисты. Блуд и срам застили небо, но люди живут, как жили при Нероне, царе Ироде, Гитлере, Сталине. Люди живут по своим правилам и меркам. И подчас их спасает тот самый потолок, о котором моя корреспондентка говорит с легким пренебрежением новообращенного. Она как бы уже на крыше, она как бы уже видит солнце, а там, еще ниже чердака, потолок, а под ним людейки, копошащиеся со своей нравственностью. Как ей объяснить, что я люблю их, что я под потолком. Я с ними. Мое скромное желание – помочь им жить на этом их обретенном пространстве, помочь им жить в ладу с самими собой и другими. Душевный покой – это еще не духовное озарение, это просто покой совести, не сон совести, а именно покой, когда не слеплены в слезах створки души, они сухи, легки и способны к широкому вольному дыханию. Чистая совесть и душевны покой – путь к духовности, ведущей вверх. Взлететь, сидя на корточках со спущенными штанами, не получится.
Человек слаб и безволен, его легко соблазнить сомнительными радостями, потому как радостями истинными и высокими он изначально обделен.
Я, конечно, восхищаюсь этой девочкой, своей корреспонденткой, познавшей многоуровневый путь постижения истины. Меня только смущает ее легкое презрение к тем, кто еще не постиг благодати. Мне хочется сказать ей: не надо! Не надо никого презирать. Ведь может так случиться, что она сама окажется низвергнутой с высот своего духа в мир слабых, живущих под потолком. Иногда жизнь устраивает нам перепады. Те, что ниже, не хуже нее, ничуть! А собственная гордыня «я, мол, другая» – один из самых плодоносящих зло грехов. Сколько беды с нее сталось! Сколько слез пролито…
Почему?
В России человеческое счастье всегда вещь наказуемая. В России не любят счастливых, равно как и красивых, и талантливых, и удачливых, и любимых. В России принято быть некрасивым, бедным, злым завистником и покорным, но ненавидящим слугой. Радость жизни в России надо украсть и спрятать, всех обдурить, не показав, что ты мастак, не промах и не дурак. Или же заявить нагло, хорошо при этом скрипя голенищами или щелкая бичом, чтоб признали и не вякали на такого наглого и грубого, на все способного.
Всякая любовь, вырастающая в системе таких координат, – чудо, светопреставление. Человек, как правило, бросается в этот свет, не помня себя. Знаю. Проходила. И бывает так, что эта любовь остается светом на всю жизнь, не принеся никому зла. Бывает, что рушится семья и создается новая. Так сказать, кому как повезет. Но исходим из того, что наш мир, мир сегодняшней России, полон бедности, скрытой и открытой ненависти и непереносимой, дошедшей почти до края душевной боли. И большую часть этой боли несет в себе женщина.
Три вещи я не сказала моей корреспондентке. Я не сказала, что в сладости адюльтера есть три запрета. Написав это, я обрекаю себя на гнев и возмущение тех, кто, перешагнув запреты, счастлив, благополучен, растит детей и помогает бедным. А уже поэтому как бы и прав. Но давайте договоримся: в мире нет абсолютного добра, кроме бога, и абсолютного зла, кроме дьявола. Все остальное колебимо ветрами, характерами, обстоятельствами и многим-многим другим. Хороши бы мы были, не поставив в этом шевелящемся море жизни некие устои, к которым можно прижаться, опереться и спастись в состоянии «совсем не могу». Опять же, скажет девочка, что написала мне письмо: а заповеди? Уж есть ли крепче опора, чем они? Ну что скажешь, если уже сказано «не убий», «не укради», «не возжелай жены ближнего своего», «не сотвори кумира». Но убиваем! Но крадем! Но грешим! Но цепляем на грудь портрет, мягко скажем, не осененного святостью человека.
Значит, попробуем на простых примерах.
Ну, вот случай. Можно ли бросить семью и уйти к другой женщине, которая в сто раз хуже жены, но любима? Что толку в этой ситуации говорить о предательстве, если это случается сплошь и рядом, и он уходит, и она… И бывает, что и не по одному разу. Любимая тема желтых изданий, кто сколько женился и кто сколько сумел урвать от разводов, – одна из самых разрушающих. Ибо она изничтожает ценностные понятия. А без них нравственности нет, а случается то самое, когда все дозволено. Все ли? Все-таки давайте допустим – не все. К примеру, ситуация с малыми детьми, болезнью жены или мужа или старостью кого-то из них.
Начнем с последней. Она, как ничто другое, таит больше всего боли. Я знала пару. Красивые, интеллигентные, они в нашем небольшом городе являли собой некий особый мир отношений. Они были стары уже даже по нынешним моим меркам. Им было за шестьдесят. «Вот так, доча, – говорила мне мама, – надо жить!» Но так никто не жил. Люди, как все, жили скандально, шумно, неверно, но при этом отдавали себе отчет, что живут дурно. Был образец – эта пара. Я помню, как в одночасье рухнул мир города. Старый господин зачастил в магазин, где работала приезжая, из эвакуированных, дама. Старика что-то потрясло, настиг тот самый амок, в который оступаешься – и тебе конец. Он ушел от жены, с которой прожил сорок пять счастливых лет. Примчались выросшие дети, хватали безумца за фалды, фалды рвались. Амок, он и есть амок. Теперь он ходил по городу с продавщицей, и улицы кривели на глазах у людей. Я просто видела это своими глазами. Девчонкой я поняла: можно сотворить большие безобразия, но улицы будут стоять как вкопанные. Как они не пошевелились, когда пришли немцы. А вот когда по улице повели евреев со звездами на рукавах, дома осели, заборы выгнулись, мир стал отвратительно другим на те двадцать минут прохода евреев по улице. Мы стали другими. Мы были уродами в этот момент, потому что есть вещи, изменяющие саму природу мироздания. Вот так же уродливо было все, когда немолодой молодой вел под ручку свою новую подругу, и она выбрасывала вверх острый подбородочек, как бы угрожая нам всем за возникшую неправильность улицы, по которой шла. Конечно, он оправдывался, конечно, он говорил моему дедушке, с которым его связывала пасечная страсть, какие-то слова. Он говорил, я подслушивала, что к нему явилась молодость как еще один шанс; я не знала слова «шанс», и оно сверлило мозг, оно его раскапывало, видимо, потому что было похоже на понятный мне шанцевый инструмент, то бишь лопату. Я не помню всех слов, что говорил дедушка. Но помню его строгое: «Так нельзя».
Изменщик перестал к нам ходить, а потом они куда-то исчезли, потому что жить в искривленном пространстве не подарок даже при новой молодости. А бывшая жена умерла. Она истончалась, исчезала просто на глазах у всех. Такое стремительное умирание я видела первый раз в жизни. И это был не рак, это было неумение пережить предательство в годы, когда ты уже не можешь доказать не ему, себе, что ты сильна и независима. И можешь еще стать и любимой.
Ее хотели забрать дети, и сын, и дочь. Но она отказалась категорически и тихонько, чистенько исчезла. На ее похороны явился муж, он был уже какой-то другой, и это естественно, он стал таким, каким потребовалось стать в его новой старой молодости, и люди его на похороны не пустили. Выставили пикеты и не пустили ни в дом, ни во двор, ни в процессию, ни на кладбище. Он кинулся к детям, но те как бы даже одобрили народное решение и сказали, что ему на самом деле лучше уйти. Он пришел плакать к дедушке.
– Ты о чем плачешь, – спросил дедушка, – о ней или о себе?
Какой простой вопрос, подумала я, крутясь незаметно рядом. На похоронах плачут о покойнике. О ком же еще?
– Разве я им был плохим отцом? – кричал он на дедушку.
– Значит, о себе, – ответил дедушка.
«О чем они? – думала я. – Это же смерть! Ее никто не победил. Никто не переспорил». Я еще не знала, что пройдет время, и оно замирит отца и детей, и когда-то я их увижу всех вместе на могиле их матери и его жены, когда я буду стоять у могилы дедушки. Но произойдет странное. От старого ловеласа по-прежнему будет искривляться воздух, и кресты, и силуэты. Значит, была в нем неисправимая поломка, которая меняла все вокруг.
Это то, что я не рассказала моей интервьюерше, поддавшись легкому уговору простить измену, ибо как ее не простишь? Так вот это тот самый случай, который определил мой дедушка словами «так нельзя». И к этому я могу добавить только свое сегодняшнее знание: нельзя оставлять никого, ни мужа, ни жену, в ситуации без выбора. Старость женщины – тот случай. Но можно ли во имя этого преодолеть тот сокрушительный соблазн, который как амок, как околдование? Ничто в голову не приходит, кроме отца Сергия, который взял и рубанул себя по пальцу. Больно, но очистительно. Но ведь никто не рубит пальцы в наше время, ибо есть жалость к себе («О ком плачешь?» – спрашивал дедушка), но вымерла как лишняя, как мешающая жалость к другому. И если завтра по улице поведут клейменых евреев ли, чеченцев или цыган, боюсь, что не вздрогнет мой народ, не исказит его внутренняя боль. Он теперь другой. Он сам не один раз ходил на заклание. Он давно жертва, а потому и жесток до крайности.
Возвращение на землю
Последнее, что виделось буфетчице Фене в этой жизни, были мосластые квадратные плечи этой сучки-падали Куцияновой. Они, и только они. Никакого там тебе тоннеля, никакого белого света вдали и тем более никакого облегчения душе, а по всей мутной бесконечности, что без верха и низа, – костистые плоскогорья плеч с синеватыми бороздами от перекрученных лямок, накрест перечеркивающих балясины ключиц. Конечно, Феня должна была заматериться. Но была уже нема, а значит, сама уже точно не существовала. Мослы же оставались, пребывали, расположившись в вечности, – навсегда, что ли? Получалось – навсегда… Отчего отлетавшая душа Фени так рванула, что даже выскочила за какие-то отведенные ей пределы, но была мягко или, скажем, негрубо остановлена и возвращена, как возвращается куда надо мяч, ударившись о стенку…
…Что правда, то правда. Плечи у Милы Куцияновой были не милосские. На божественной скульптурной сборке накушавшиеся амброзии ангелы подсунули хрупкой женщине вместо тонких верхних косточек мужские коленки, плоские, жесткие и пупырчатые, вложив одновременно в сознание этой женщины ложную уверенность в их красоте. Мила всегда носила открытые платья, выставляя налево и направо два мощных приклада, но в этом неэстетичном развороте было столько обаятельной уверенности в красоте, что все ей сходило с этих самых «рук и плеч». Мужиков было до фига. Хотя некоторые, с элементами эстетической организации, покупали ей платки и шали для заворачивания грубоватого Милиного верха.
…А Иван Иваныч подарил ей норковый палантинчик. Правда, к эстетической организации это отношения не имело. Просто Иван Иваныч был человеком с возможностями. Он позвонил в магазин и сказал: «Фукс! Там у тебя еще остались коротенькие норки? Привези мне по-быстрому и тихо». Фукс был через пятнадцать минут.
Секретарша Ивана Иваныча помчалась к персональному (на случай войны!) входу-выходу, чтоб через военную дверь подслушать, «кому и для чего», но Иван Иваныч дверь примкнул плотно, а для верности еще включил и радио «Маяк». Билась в замочную скважину секретарша, исходила злостным любопытством, но… так ничего и не узнала.
Куциянова же напялила палантин на концерт Эдиты Пьехи. На этот же концерт в таких же палантинах пришли жена Ивана Иваныча, буфетчица Феня, любопытствующая секретарша Ивана Иваныча, все Фуксовы родственницы и далее женщины из первого по значимости в той бывшей тогда жизни списка. У Фени сердце облилось кровью, потому что она была умная и смекалистая, ей, чтобы понять, в дверь биться не надо было. Когда Иван Иваныч предложил в прошлую пятницу: «Хочешь?» – и бросил вынутую из сейфа шкурку, Феня, глядя на шелком развернувшуюся красоту, сказала: «Не надо, Ваня… Я могу себе это сама позволить…»
«Ты молодец! Уважаю!» – похвалил Иван Иваныч, и теперь на концерте Феня пялилась: какая и на ком была та? Что на секретарше или Куцияновой?
Секретарша же испытала восторг: у нее шкура как у Главной жены. Бабы Фукса – удовлетворение, что у первой жены, как у них. Тетки по списку просто всех посчитали пальцем. Одна Куциянова, исхитрившись даже из меха выставить плечо-колено, ничего такого не заметила. Как всякий творческий человек, она была зациклена только на себе самой, в норке видела только себя и на Ивана Иваныча посмотрела, как смотрит на хозяина выведенная на старт молодая кобыла, решившая, что пришла на свой персональный праздник. Дура еще не бежала под шпорами и не исходила потом. Куциянова такой осталась до смерти, женщиной-романтиком, а Феня всю жизнь мечтала ткнуть ее мордой в жизнь.
Тут надо бы обозначить время действия, не из-за стоимости норки, а потому что это только начало, все еще живы-здоровы, а главное, никто еще не родился.
…Было это в год снятия Хрущева, но еще до октября.
…Пьеха стучала на сцене стройными копытками, парни из «Дружбы» красиво, как японцы, выводили ей музыкальный фон, а на песне про мадьярку, которая бросила в воду не то венок, не то цветок, Фене поплохело. Замутило ее. Выбираться из первого ряда партера было неудобно, но тут уж не до приличий, потому что здоровая и сильная Феня поняла: еще минута, и она изойдет из всех отверстий. Успела, слава богу, заскочить в мужской туалет, и все… Потом она ножкой стула заперлась там и стирала, и мыла, хорошо, что у нее после всего этого кошмара тут же восстановились силы и не надо было звать на помощь. Справилась, как всегда в жизни, сама. Идя домой во всем мокром, Феня поставила себе окончательный диагноз, посчитала по пальцам начало и конец и сказала: «Рожу. Он мужик добрый. Не оставит без помощи. А если и оставит, черт с ним, я и сама не калека».
Была, конечно, была мысль… У Ивана Иваныча детей нет. То есть есть… ( Есть-есть какое-то получается.) Но это те дети, прежние, от той деревенской дуры, которая давно не в счет… Феня как-то при случае паспорт его посмотрела – чистенький. Ни Коли, ни Мани, ни Пети… Одна-одинешенька Калерия Ивановна. Всей Ваниной жизни наследница. Сумела женщина вовремя подвернуться под руку себе на счастье.
В мыслях же Фени было так: что-то случится, и Ваню в конце концов с верхних ступенек турнут, потому что никакой он не вождь, чтоб на мавзолее стоять. Он же человек безграмотный, это даже по сравнению с ее семилеткой. Он электричества боялся, потому что не понимал. Он был убежден, что Австралия и Австрия – одно и то же, так же, как японцы и китайцы. «Простым же глазом видно…» – говорил. Феня, обнимая его и целуя, отдавала себе полный отчет: Ваня – человек не просто темный, она, что ли, светлая? – Ваня в смысле ума уникум – все мимо. Но зато у кого грудь с любого места видна, как грудь четвертого человека? Рожать от него – одно удовольствие, потому что никаких сомнений в здоровье быть не может, а ум – дело наживное. Заставит дитя учиться и выучит. Тем более что с ее стороны все в порядке и в смысле понятия глобуса, и в смысле понятия физики.
Одним словом, в шестьдесят каком-то Феня родила Игорешку, а Ваню не только не турнули с высот, а взяли в Москву: увидел Леонид Ильич широковыпуклую грудь Ивана Иваныча и не устоял, он вокруг себя любил людей фигуристых. Фене Ваня дал квартирку в доме с подкачкой воды на высокий этаж. Существенное дело, напор у них сам по себе дышит только до второго.
Пока носила и рожала, потеряла из виду Куциянову. А когда Ваня сказал городу последнее прости и Феня по звонку забирала не доеденную на главной гулянке икру (вот опять же характер Ивана Иваныча, – даже в поддаче и среди блюдолизов и стукачей, а ткнул пальцем в хрустальные бочоночки: «Пусть заберет Феня, она кормящая»), ее тут же вызвали со своей посудой, она тогда хорошо принесла в сумке. Некоторое из еды даже при своей работе раньше не видела. Импортное. Вкуса, правда, особого не почувствовала, русское смачнее, но одежечки-обложечки не нашим чета, так бы и съела с ними вместе.
Иван Иваныч уехал, но так и не смог порушить мечту Фени про то, как придут Умные к власти, должно же такое когда-нибудь случиться, и Ваня тут же вляпается, что-нибудь скажет откровенное, как он знает. И Умные возьмут и рассмеются. Это очень хорошо виделось и слышалось Фене – смех Умных над Ваней, смех с подначкой, и как Ваня тут же делает кругом – сам, между прочим! – потому что именно подначку он не снесет. Обидится. Обиделся же он на нее, когда она ему сказала, так, между прочим: «Ваня! Ты с холода всегда слабнешь. Сосуды сжимаются, и нет притока крови. Всю жизнь удивляюсь на эскимосов». – «Тоже мне метереолог!» – сказал он.
«Метеоролог», – нежно поправила она, и напрасно: на полгода отрезала мужчину по собственному недосмотру. Правильность слова она знала случайно, в коммуналке жила с соседом из прогноза погоды. Он им в кухне это слово написал печатными буквами и повесил над плиткой. «Мне, – сказал, – оскорбительно ваше невежество». С этого у них началось повальное образование. Одна бывшая учительница вывесила список с ударениями. Парень-десятиклассник добавил смысл некоторых слов. «Гениталии – органы». Кто-то приписал «КГБ», кто-то возмутился: «Да не будь органов, нас бы уже сожрал империализм. Не было бы нас, и все!» Но все это по-соседски, по-доброму, а Феня была довольна, потому что всегда имела тягу к знаниям. Варишь суп и учишь. «Бур-жуа-зыя». «Кол-гот-ки». «Носки – носков». Но! «Чулки – чулок».
Короче, Ваня уехал. Феня продолжала мечтать о приходе Умных. Сыночек рос. Были приглашения замуж. Зав. автобазой. Инженер по безопасности лифтов. Отставник-полковник. Разведенные. Вдовцы. Но у всех были дети, а это Фене не улыбалось. Зачем ей? Люби их потом или делай вид. А это нервы, которых дай бог чтоб на себя и сыночка хватило.
Через много лет встретила Куциянову, всю в черных тонах. Черную водолазку распирали не забываемые Феней плечи, кожа на лице как бы светилась черным цветом, и, если б не сияющие синие глаза, легко бы подумалось о раковом заболевании, или, как говорят врачи, канцере. Но глаза значили что-то другое. Феня там-сям подвыяснила – все оказалось просто. Куциянова съездила в Италию, и там у нее был жуткий роман с переводчиком, и не исключено, что Куциянова уедет насовсем, ей бы только дождаться, когда дочка кончит школу и устроится в институт. Феня удивилась, что у Куцияновой такая большая дочь, получается, что рожали одновременно, вот и она тоже ждет конца школы… Столько лет Ваню не беспокоила, а теперь придется. Игорешечек учился хорошо, и грешно не устроить его в Москве. А Куциянова, значит, уедет в Италию показывать Европе свои старые мослы. Была бы Феня плохим по качеству человеком, она б сейчас от вдовца-полковника имела бы дачу на берегу Азовского моря. Такое место! Бухточка, как нарочно, у самых ступенек плещется. Сад, что Мичурину не снился, дом, весь виноградом увитый, а на крыше – телескоп. Вдовец любил смотреть на звезды, потому что от сексуального буйства зелени и плодов ему просто требовалось успокоение. «Тут, в саду, – говорил полковник, – просто наливаешься производительным соком. Вы в этом сможете убедиться». Феня подумала тогда, шлепая босыми ногами по кромочке моря: не попробовать ли? Кому от этого будет плохо? И поняла – не хочет. То есть хорошо бы убедиться в силе соков, но без личного участия. Посмотреть бы на вдовца с соками в виде диаграммы там какой или в виде цветного слайда.
Нет, живые мужчины ей не нужны, пусть наливаются вне ее организма. Даже если бы бухточка была в Италии, она и то сто раз бы подумала. Она не Куциянова, которая на такое дело падкая. Старая ревность укусила Фенино сердце, и вот же – природа! Виноватой и кругом подлой виделась Куциянова, Ваня же, Иван Иваныч, выглядел как бы жертвой и, что одновременно Фене казалось не очень правильным, тоже ничего себе потаскун, но тем не менее как бы хороший потаскун, а Куциянова как бы подлая женщина.
…Но потом такое началось, что не до чувства из плюсквамперфекта. Сыночек, идиот проклятый, в Москву ехать отказался категорически, потому что, оказалось, у него тут девка, да еще из каких! Парикмахерша. Феня туда-сюда – ничего не могла сделать, и деньги сулила, и милицией пугала, и убить обещала. Одним словом, все меры! Парикмахерша же – спокойная-преспокойная, как из железобетона, – на Фенин крик разве что моргнет, и то так медленно, что можно успеть ее в этот момент моргания обежать. А надо сказать – было что обегать. Большущая девица, вроде и не современная. Пятьдесят четвертый размер – это до беременности. Нога сорок второй. И все остальное – грудь, грива. Игорь – не хлюпик, но рядом с ней просто исчезал с поля зрения.
– Где ты нашел такую лошадь? – криком кричала Феня.
А он смеется.
– Да я, – говорит, – эту лошадь никому не отдам. Я ее еще буду кормить и холить, потому что такой больше нет.
И все наврал. Все! Насчет не отдам, насчет кормить, насчет холить…
Девка оказалась золотая, уже через год Феня не знала, куда ее посадить и как приветить. Ребеночка их обожала так, что все мечты свои женские забыла. От любви Феня тогда раздалась, но все равно рядом с Олечкой была мелкой. На Игоря цыкала, если тот возникал против жены. Кто бы мог поверить, что это раз – и кончится?
Кончилось. Феня тогда подумала: а чего, собственно, было ждать от такого отца? И через столько лет, через всю ее дурную верность и преданность – на самом же деле! – прорвалась у Фени гнев-обида. И уже не осталось у Ивана Иваныча ни одного светлого места в биографии и природе, а сплошное – сволочь. И как он первую деревенскую жену с дитями бросил, и как на Калерию польстился из-за ее степени по марксизму-ленинизму, и как он, будучи в кресле, шуровал со всеми подряд сотрудницами и просительницами, командированными, женами подчиненных, как она это все знала и – ничего, принимала тоже, хотя за творческого работника Куциянову ей очень хотелось, чтоб случайно напоролся Ваня на битое стекло этим самым своим неугомонным местом. У них при их жизни битого стекла всегда более чем, так что несчастный случай вполне можно было представить. Сколько она хрустальных фужеров списывала – это никакой конторой подсчитано быть не могло.
В общем, сын – в отца, и плачь, рыдай, Феня, а что тут сделаешь?
…Стала Феня жить на два дома. На свой и брошенный. К ночи падала с ног. Кости ночью так крутило, что не уснуть, и тогда она все думала, думала: что ж это за судьба у нее? Почему она подводит ее все время там, где она больше всего сердца положила? Тот же Ваня… Ни разу же не вспомнил о ней до самой своей дурной смерти.
…Перепили вожди на охоте и стали изображать из себя охотников и зайцев. Ване выпало быть охотником, а одному известному вождю – зайцем. Ваня пульнул, заяц упал. Ваня от страху умер, а заяц, оказывается, упал для смеха. Фене рассказал про это родственник Вани, который ездил его хоронить. «Здоровый такой лежал, – рассказывал родственник. – Белый… А этот – заяц – в карауле пять минут стоять не выстоял, зашатало его от слабости здоровья…» Так вот – Ваня. Напоролась жизнь Фени на него, как на мину. Сыночка от него родила. Все в него вложила, на пианино мальчик играл любую мелодию, только напой ему, по-английски щелкал, как птица, а прорвало из него Ванино подлое существо… Хоть бы раз в месяц сына посмотрел, хоть бы какую машинку купил. Феня, думая о внуке, жаром горела: убью за него, и рука не дрогнет…
Только вот силы – чувствовала – кончались. И ноги, и руки, и голова, и сердце вечерами криком кричали, просили у Фени пощады. Феня мокрым полотенцем голову перетянет, ноги в тазик с морской солью сунет, гадостный валерьяновый чай заварит и набухает обидой, набухает. Спроси, на кого? А черт его знает! На себя, дуру. Что бы ей выйти за того полковника? Или за лифт-инженера? Что б ей в семнадцать лет рвануть было куда-нибудь подальше, чтоб ее никто и она никого, чтоб не тянулась за ней судьба от всего их рода-племени, в котором все бабы, как одна, ломовые лошади, а мужики все, как один, только на легком подхвате. Прадед был из лакеев, дед однорукий, всю жизнь в конторе сельсовета рисовал картинки показателей, папаня шоферил в обкоме и спал по двадцать часов в сутки, не меньше. Мама тоже была шофер, так вот она как раз водила молоковоз. По любой погоде, на лысых колесах, а езжай, корми народ, мама-шоферюга… Нет, в их роду женщины были и костью, и мясом, и мозгом. И умом, и силой. Потому и передавали по женской линии только одну-одинокую уверенность – на мужиков расчета нет.
Лучший случай – чтоб не бил… Чтоб хоть дурак, но смирный. Чего Ваня так в свое время в мечту влез? За ласковость. Ладошкой мягкой своей начнет по спине водить – сердце заходится. А уж если подробности начнутся, тут и начало Фениной смерти. Ласку она его не передком воспринимала – для этого она гордая, – а как-то невозможно воздушно… Смешно, если иметь в виду – грех их почти всегда был на жестком президиумном столе, волосы Фени путались в чернильном приборе, бывало, вставала, а на затылке скрепки, колпачки от ручек, так вот мощный дубовый стол от Ваниных ладоней вызывал у Фени ощущение облака, и чем сильнее была тяжесть, тем выше взлеталось Фене, и за это она пошла бы за ним, идиотом, на край света, но он не то что не позвал, а просто ни разу, ни единственного разу не объявился больше… Феня плакала прямо в таз, и соленые ее слезы, попадая в соленую воду, испытывали на уровне существования вод свое водяное счастье единения.
…Это ж сколько прошло времени с того момента, как бросил Игорь Олечку? Да немного совсем. Не зажило это еще у Фени. А понять, что завелась у него другая, уже было можно. Раз не пришел ночевать, два… Хорошо, что еще от Вани осталась роскошь – телефон. Ничего не скажешь – звонил Игорь. Конечно, врал. У приятеля, мол. За городом, не успеваю на электричку. Феня в подробности не вникала. Для себя решила – другую невестку не признает, будь она хоть позолоченная!
Оля сказала Фене, что «новая» беременная.
– Откуда ты знаешь? – спросила Феня.
– Видела глазами, – ответила Оля. – Она сорок второй размер, а живот у нее, как дулечка, вперед. Чем рожать будет, неизвестно. Ну, нет у нее, мама Феня, тела, нет. Из чего расти ребенку – неизвестно.
– Ну и черт с ним, с этим ребенком, – сказала Феня, и ее изнутри как ударило. И еще раз, и еще, Феня за подоконник уцепилась, зубы сжала, хорошо, что Оля спокойная, как мамонт, и на мелкие, тем более чужие, внутренние чувства реагирует слабо. Не ее же изнутри ударило – свекровь, а то, что та побледнела, и взмокла, и держится за подоконник, так ведь держится? Держится. Она баба цепкая. Нечего ее пугать вопросами, что, мол, с тобой, что? Оклемается… Оклемалась Феня, рванула в ванную, включила воду и стала молиться, хотя до этого ни разу в жизни пальцы в щепоть не собирала. Она просила прощения, получалось – за хулу тому ребеночку, что торчал дулечкой на сорок втором размере. И вот тут в самое это ее нелепое моление без умения и правил увидела Феня, что в дулечке – девочка, махонькая такая, с мышонка, но значимости – почему-то! – для нее, для Фени, необыкновенной.
Тогда Феня громко, громче бегущей из крана воды сказала Богу или кто там был на проводе вместо него, что дитя это она не признает категорически, нечего ей так грубо намекать; на двоих внуков сил и возможностей у нее нет…
Но все пошло плохо. Сидело в голове видение девочки-мышонка, а Игорь ни слова, даже в дом свою «сорок вторую» не привел.
Феня не выдержала, спросила:
– Так на каком же вы этапе?
– Разведется Ирка с мужем – распишемся. Нас уже сроки поджимают.
– Так она у тебя уже целованная! – закричала Феня.
– Она у меня уже рожалая. У нее сыну четыре года. – Феня сказала себе: «Сейчас я рухну», – и тихо присела на стул.
– И где ж это вы собираетесь обретаться своей многодетной семьей?
– Без проблем, – ответил Игорь. – От матери у нее хорошая квартира со всеми делами.
– А куда ж вы мать дели?
– Ты выражайся! – ответил Игорь. – Рак. Умерла.
– А отец существует в природе?
– Тоже умер.
– Нашел своему ребеночку наследственность, – пробурчала Феня. – Сплошные покойники.
– Можно подумать, – засмеялся Игорь, – что с тобой этого не случится… Что ты бессмертная!
– Так ведь живу еще! – резонно ответила Феня. – А их нету.
– Меньше народу, больше кислороду, – засмеялся Игорь.
– Добрый ты у меня! – сказала Феня. – Гуманист.
– Кстати, – сказал Игорь. – Я фотографию видел у Ирки с одной гулянки. Так там и ты, и ее родители. Молодые и пьяные…
– Я? – удивилась Феня. – Откуда ж я могу с ними быть?
– Ты ж всех знаешь! – засмеялся Игорь. – У Ирки мать была журналисткой. Куциянова ее фамилия.
Феня сдержалась, как белорусский партизан. Потому что еще до слов пришло к ней приказание: держись, женщина, и сиди устойчиво. Вернее, сиди усидчиво.
– А! – ответила она как бы равнодушно. – А!
Тут надлежало спросить и про отца. Получилось бы в масть. Но Феня решила – ширк! ширк! – вытереть пыль. Встала, пошла размазывать грязь, чтоб больше было.
Ах ты, девочка-мышонок! Родишься ведь и будешь… Не нужна ты мне! Не нужна! Потому что я однолюбка, у меня Ваня – один, сын – один, внук – один. На два не делюсь, мышонок. Неделимая я частица… Я, мышонок, атом… Так с тряпочкой-вехоткой добралась Феня до старого ученического портфеля, в котором держала большие фотографии. В то самое время, как родить Куцияновой дочку, Феня не помнила у Куцияновой мужа. Итальянца долбаного помнила, хотя в глаза не видела. Другие разные мужские особи всплывали на поверхности воды воспоминаний… Инструктор по идеологии, например… Похабистый такой мужчинка… Главреж оперетты, круглый, как хорошо покатавшийся по свету колобок… Феню тоже щипал, причем больно, зараза, пришлось даже дать по рукам, обиделся, дурак, нажаловался завстоловой. Вот она, фотография. Вот. С юбилея газеты. Феня была на обслуживании. Стоит с самого краю, на животе поднос плашмя, на голове черт-те что, тот еще вид. В моде тогда были начесанные и налаченные башни. У нее выше всех. Было из чего строить. Куциянова, как у нее и принято, с голым разворотом плеч. Идеологический инструктор, главреж, Ваня… Все тут, все по местам… Ваня, как и полагается первому человеку, в центре, девки из общего отдела к нему притулились, кто головкой, кто бочком, но он стоял прямо, он понимал, что вспышка магния – это не просто. Это документ. Не отмажешься. Поэтому руки его шкодливые висели строго по швам и лицо изображало серьезность, ужимок не допустило.
– Мам, я пошел! – сказал Игорь.
– Подожди, – ответила Феня. – Ты не эту фотку имеешь в виду?
– Точно! Она… – засмеялся Игорь. – Ты тут как Екатерина Вторая…
– Я такая и есть, – сказала Феня. – Ну, кто ж отец, если Куциянова – мать?
– Так начальник же обкома! – сказал Игорь. – Он Ирку потом уже признал, хотя она и незаконная. Ирка моя – дитя греха.
– Тогда понятно.
Феня отнесла фотографию в портфель. Щелкнула замком. Она-то, дура, придумала Игорю автокатастрофу со своим «женихом». Даже выстригла из газеты подходящую по срокам заметку. Между прочим, другие поверили тоже.
– Обратной дороги нет, – сказала Феня так, как «Пива нет и не будет». – Никто теперь калек не держит, а мышонок явно будет слабенькая от брата и сестры. Выкинут ее к чертовой матери или родители, или врачи, и концов не найдешь. Мы народ такой.
Феня почувствовала, как начала концентрироваться до величины точки. Хорошее такое, решительное действие. Все лишнее в стороны, все нужное втягиваешь в себя и трамбуешь, трамбуешь… Силу, терпение, настойчивость, презрение, ум, хитрость, самостоятельность… Плотненько, плотненько друг к другу, чтоб больше влезло, чтоб девочке-мышонку выжить в любом случае, а у нее именно «любой случай» и будет… Потому как замесили тебя, девчоночка, на плохих дрожжах.
…А потом развернулись перед Феней плечи-приклады, не пройти. Пришлось сквозь них пробиваться силой.
…Феня умирала, лежа животом на портфеле с неформатными фотографиями. В это время дочка Куцияновой, лежа на спине, рожала в «рафике» «Неотложки», на нее матом орали медсестра и санитары, чтоб дотерпела до больницы, но что возьмешь с этой природы-бабы, если ей пристало рожать!
Чвакнула девочка-мышонок на ладони медсестры-неумехи и тут же расщепила пронзительные глазки, чтоб посмотреть на первых людей на земле Фениной сущностью.
– Ишь, – сказали ей санитары, – какая серьезная. Как пуля…
С точки зрения чечевицы
Тоненькая девушка вскочила со словами «Садитесь, пожалуйста», и огромная тетка с сумками с хрустом внедрилась в узенькое пространство, выдавив еще пару слабых телом пассажиров. Видели бы вы ее лицо. Лицо не смущенного и благодарного человека, а торжествующего хама, уверенного в своем праве. Я просто ощутила утяжеление атмосферного столба в закутке нашего вагона. Но каким разным по атомному составу был этот чертов столб! Выдавленные пассажиры генерировали свой гнев против тоненькой, они убивали ее глазами, и девчушка виновато стала пробиваться к выходу.
И тут я поняла: ее выталкивали не только они, а вся толпа. Ее не любили все. В крошечном пространстве квасился всеобщий гнев против столь малого хорошего. И это было так видно! Я хотела понять, что это есть, почему девчонка так всех раздражила. Потому что она встала, а ты нет, значит, получается, что ты хуже? Да ведь ты безногому-то точно уступил бы. И люди вели тайный скрупулезный выбор вариантов, когда бы они встали. И я, грешница, подумала: не надо было уступать место этой тетке, не надо, и все, по определению. Тетка – хамка.
У меня на этот счет есть свой опыт, давний-предавний.
…Моему сыну два месяца, и у меня кончается декретный отпуск. Тогда, в конце пятидесятых, он, этот отпуск, был двухмесячный. Почти истерически я ищу няню. Нахожу ее прямо на вокзале, в толпе бегущих из деревни людей. Это было время выдачи крестьянам паспортов в хрущевскую «оттепель». Первые признаки свободы после Сталина – и сразу массовый побег из деревни. Я отлавливаю в толпе девчонку. Дома перво-наперво вычесываю из нее вшей. Потом облачаю ее в собственную городскую одежду. Ее удивляет комбинация – такая красавица – и под всем? Не видно же! Ей непонятен пояс с чулками, как непонятен он был моей маленькой внучке, когда я пыталась ей рассказать, что это такое. Девушка кладет сахар в чай с кончика ложки, и я объясняю, что нужно класть хоть две, хоть три с верхом до нужной сладости.
Девушка остается и живет, объясняя мне, хозяйке, что живет она как в раю. Перед самым летом, проходит где-то полгода, я застаю барышню за интересным занятием. Она набивает в свой мешок не только те вещи, которые были ей отданы, но и те, что считались моими. На жалкий вопрос «Что ты делаешь?» она с лицом той тетки, что через полвека выдавливает людей в метро, объясняет мне:
– Вы думаете, я дура? Эсплутаторов давно прогнали, а вы остались. Теперь что ваше – то и мое.
Надо сказать, что все происходит в коммуналке на глазах соседей. И я вижу, что она, коммуналка, на ее стороне. И я теряюсь, я чувствую себя виноватой перед этой юной дурочкой, вымытой и без вшей. Наискосочек стоит соседка, учительница истории. Читаю некоторое смущение на ее лице. Господи, да это же она, я видела, как она шептала что-то моей няне, а когда я вошла, заговорила громким голосом политинформатора.
Итак, коммуналка против меня. В них во всех взыграла классовая солидарность. Ведь, с точки зрения чечевицы, я «эсплутатор» и «не наш человек». Вот ведь не отдаю дитя в ясли, фря такая. А чем их ясельные хуже моего сына?.. А девчонке место на заводе, разъелась тут на сладком и жареном. Когда няня уходит, мне начнут сочувствовать, и эта их фальшь будет больнее, чем страх потерять работу, чем жалость об утраченном платьице из набивного шифона и туфель-лодочек. Девчонка их унесла, как и хотела, а я стою и реву обо всем сразу. Коммуналке приятны мои слезы. Но одновременно – что ли, мы не русские? – они предлагают посидеть в очередь с дитятей, пока то да се… И я уже кидаюсь им в ноги с благодарностью, я уже не помню провокатора-историчку.
Описывая долготерпенье и ужасы жизни русского человека, литература всегда умилялась его качествами, будь то Платон Каратаев, дед Щукарь, всеми забытый Фирс или многажды восхваленный скромняга Теркин. Я не буду ни с чем спорить, в национальном характере каждого народа есть много чего, и хорошего, и дурного. Но почему история в метро сейчас и история в коммуналке полвека тому встали одна за другой? В них есть общее, общее русское – неумение быть благодарным, незнание слова «спасибо». Не просто спасибо дяде за игрушку, а папе за велосипед, а то спасибо, которое – основа человеческого общения. Ведь если нет чувства благодарности, нет ничего, нет замеса жизни. Благодарность и «хорошесть» едины. Не может быть хорошим человек, будучи неблагодарным. И наоборот. Неважно, за что спасибо – за место в транспорте, за тарелку супа или за возможность учиться, за то, что дали родители, а то и просто посторонние, за участие и сочувствие. Одним словом, жизнь стоит спасиба. Конечно, возникает встречный вопрос: а большевизм и фашизм? А рабство и калечество? Тоже спасибо?.. Но согласитесь: в любой самой страшной ситуации моменты для «спасибо» есть. И это, поверьте, больше и существеннее, чем «место подвигу» в жизни.
Меня еще в «совке» поражало, как по-барски, в смысле по-свински, мы ведем себя у младших братьев, абхазов, прибалтов, молдаван… Во всем всегда мы держали за собой право занять лучшее место и напомнить всем, как все должны быть благодарны за теснящую их задницу. Ну, вот теперь разбежались по сторонам. И мы же во всю мочь орем, какие все вокруг неблагодарные за «все, что мы для них сделали». Даже без минимальной попытки повиниться за посадки и высылки 1947–1953 годов в той же Эстонии, за коллективизацию, будь она неладна. А чтобы первыми поблагодарить за дружбу, за гостеприимство, за взаимовыгоду, она ведь тоже была, – это нет. Всегда тупое лицо своего «права тетки в метро». Встань, подвинься, раз ты такая молодая, а я вся из себя старая. Но чтоб сказать спасибо – да ни за что! Мы, русские, не кланяемся. У советских собственная гордость. Из спасиба шубу не сошьешь. Это, между прочим, из пословиц русского народа. Так что очень все запущено, господа, очень.
Женщина в красном Загадочная история
Лёне Петрову дали квартиру. По-быстрому сбросились, сбегали в угловой «Гастроном», кое-чего купили, прижали ордер на квартиру в самом центре стола стаканчиком для карандашей и торжественно выпили. Женщины мелко после этого вздрагивали и целовали Лёню а темечко, мужчины вздрагивали крупно, хлопали Лёню по плечу и требовали честного слова, что новоселье он не замотает.
Лёня пил, не закусывая. Все принимали это за признак взволнованной рассеянности и на закуске не настаивали: ее и так было мало. А если Лёня и будет чуть не в норме, так кто же этого не поймет? Кто осудит? Ему и полагалось сегодня быть пьяным от счастья.
– Ты не в себе, старик? – спрашивали Лёню. – Вот скажи, что ты испытываешь?
Лёня смотрел на всех круглыми трезвыми глазами, и вид у нeгo был такой, что ему задают явно что-то бестактное.
– Офонарел! – альтруистически радовались мужчины, доедая закуску, а женщины собирали в газету крошки и сочувственно вздыхали.
Они бы очень удивились, если бы узнали, что Лёня трезв, как то самое неизвестное стеклышко, что выпитое вино – 176 граммов – непостижимым образом превратилось в его организме то ли в компот, то ли в квас, а состояние замеченного офонарения можно было рассматривать только в смысле «просветления», «озарения», когда видишь, как с шумом летят во все стороны брызги от отряхивающейся мокрой мухи и с каким треском падает на тротуар осенний лист.
Лёню озарили поцелуи в темечко, этот блиц-стол с ордером под стаканчиком, эти дружеские подталкивания в бок с напоминаниями о новоселье… «Они прекрасные люди, – подумал Лёня. – Это надо использовать. Другого случая не будет».
Когда все ушли, он снял пиджак, предварительно спрятав во внутренний карман ордер. Вынул из стаканчика самый длинный карандаш и на чистом листе бумаги столбиком записал фамилии всех сотрудников их отдела. Было их 16 человек. Потом Лёня напротив каждой фамилии поставил цифирь. Означала она заработок. Следующий этап был творческим. Лёня закурил, походил по комнате, почеркал что-то там на другом дополнительном листке, а когда через два часа вышел из комнаты, лицо его было вдохновенным и уставшим.
Мимо пробегали туда-сюда люди, его снова потолкали в бок, напомнив о новоселье. Кто-то из опоздавших поохал на тему «Как повезло», и после этого Лёня снова вернулся в свою комнату.
«Очень прекрасные люди. Я их, пожалуй, недооценил». И он снова стал колдовать над списком, что-то там зачеркивая и дописывая вновь.
В конце рабочего дня Лёня пошел по комнатам.
Начальник отдела прижал Лёню к груди и шёпотом ему рассказал, как он вырвал из горла квартиру для Лёни у начальника соседнего отдела.
– Еще немного – и заглотнул бы тот ее, – довольно смеялся начальник. – Но я не простак! Я тут все козыри – и молодой, и перспективный, и кандидат, и женился недавно, и здоровье слабое, и сирота.
Начальник удовлетворенно любил в этот момент Лёню, а тот, опустив голову, ждал.
– Так что теперь гони новоселье!
– Вот я потому и пришел, – встрепенулся Лёня. – Не хочу откладывать.
– Да ты устройся вначале! Не торопись!
– Неразумно, – мягко сказал Леня. – Я вам сейчас объясню. Устроюсь я, куплю там что-то, поставлю, повешу, а вы потом завалитесь…
– И все у тебя порушим! – захохотал начальник.
– Да это уж ладно. Рушьте. Но вы же с подарками придете?
– Само собой!
– А вы знаете, что мне надо?
– А ты скажи, – веселился начальник. – Ложки, плошки, сковородки?
– Что вы, – возмутился Лёня. – Зачем же вам лично бегать по хозяйственным? Это пусть женщины. Я думаю, Иван Кондратьич, чтоб вам не морочить голову, вы мне люстру купите двухламповую, а к ней в комплекте бра продаются, 35 рэ стоит.
Иван Кондратьич крякнул. Он смотрел на Лёню, на его благодарные и ласковые глаза и думал, что все это повернулось как-то неожиданно, но не отказываться же?
– Ладно, я посмотрю! – растерянно буркнул он.
– Вот спасибо! – обрадовался Лёня. – А захотите переиграть в пределах суммы, поставьте меня в известность. Очень прошу об этом, чтоб дубляжа не было.
И Лёня пошел дальше. Он подходил ко всем вежливый, ласковый, и все, как по команде, сами заговаривали о новоселье.
– Не будем тянуть! – убеждал Лёня. – Ни к чему, дорого яичко ко Христову дню. Нет, нет, нет, никаких бра. Бра будут! Мне шторы в синюю клетку нужны. Шесть метров. По три пятьдесят за метр. У меня диван серо-голубой…
Старенькая машинистка, которая знала Лёнину покойницу-маму, была сговорена на набор ножей и вилок, но уже после Лёня сообразил, что, кроме зарплаты, она еще получает полностью пенсию, а значит, имеет почти столько же, сколько их отдельские мэнээсы. Лёня догнал мамину подругу в коридоре, когда она уже уходила домой, и попросил добавить к ножам и вилкам сувенирный деревянный кухонный комплект за пять семьдесят.
На другой день Лёня написал два заявления о материальной помощи в местный комитет и в дирекцию.
В АХО договорился о бесплатной машине для переезда. В комитете комсомола выпросил на часок урну для голосования, наклеил на нее бумажку с игривыми словами «Для веселья на новоселье!» и пошел, ласково улыбаясь, по комнатам.
– Сколько можете, бросьте в эту самую щелочку. Все вам пойдет на радость!
Бросали неохотно. Но медь бросать стеснялись. Полтинники отсортировывали в кармане, чтоб не достать случайно. Больше всего летело в урну почему-то пятнатчиков. Улов разочаровал Лёню, где-то из глубины стали подниматься мысли о скаредности человечества.
И он еще раз, для напоминания, прошел со списком.
– Я старый сервиз – он у меня был без трех блюдечек – продал, так что ты, Петро, смотри не подведи. Сейчас конец месяца, заглядывай в «Посуду».
– Зеркало, учти, не шире шестидесяти сантиметров, иначе в проем не войдет. И, смотри, прямоугольное, мне круглое в ванную Мария Александровна покупает.
– Слушай, детка, ты молодая, легкомысленная, боюсь, подведешь. А сейчас как раз в магазине есть разноцветные коробки для круп. Вот если сейчас все бросишь и поедешь – достанешь.
– Старик! Не профилонь! Стопки, о которых мы договаривались, есть в подарочном отделе гастронома. Taм, правда, наценочка выходит, они туда шоколад сунули, белую балерину и ленты пять метров. На шоколад не претендую! Балерину и ленту бери себе!
– Знаешь, Лёнь, – оказала ему Тамара Зотова, – я к тебе не приду. Мне ведь кандидатский сдавать на другой день. Ты уж извини…
– Жаль! – сокрушался Лёня. – А мы с тобой о чем договаривались?
– Скатерть за мной с салфетками…
– О, мать! Нe убивай! У меня твоя скатерть запланирована железно. Ты, ладно уж, сиди, зубри, а скатерть принеси на работу, ладно? Вырвись, купи, только не забывай: гладко-белую или голубую. У меня шторы в клетку синие, диван с голубизной, ковер у меня серебристый. Мне гамму нарушать нельзя. Я и то боюсь, Муратов мне должен настенную живопись купить, а мне теперь что зря вешать не годится.
И Лёня бегом бежал к Муратову прямо с дрожащими руками и ногами.
– Я тут с Зотовой говорил о скатерти. И испугался. Ты мне живопись еще не брал? Нет? Некогда? Ты брось, брось, всем некогда. Ты только помни. Мне надо две горизонтальные, одну вертикальную. И тона чтоб были спокойные, холодноватые. Без всякой желтизны. Ищи зиму. Или деревья без листьев. Ежели женское лицо будет – то бледную брюнетку с большими глазами, платком закутанную. Хорошо бы платком серым.
– А зеленым не хочешь? – спросил Муратов.
– Нет, что ты! – испугался Лёня. – У меня сине-серая гамма.
– Гамма, говоришь, – тихо переспросил Муратов. – А если я по этой гамме красным мазну? А?
– Ни в коем случае! У меня красные мазки в коридоре.
– А еще где? – спросил Муратов.
– Кухня у меня слоновой кости, ванная зеленоватая, коридор в красное ударяется, так что платок мне только серый.
– Для гаммы? – прицепился Муратов.
– Я же тебе и говорю!
– А гамма-глобулин у тебя есть?
– Зачем? – удивился Лёня. – Это же для инъекций. Ты брось шутить, я с тобой серьезно.
– И я тоже, – мрачно говорил Муратов. – Мне хочется, как в твоем коридоре, удариться в красное. Или опять же что-нибудь для инъекции…
– Муратов! Я с тобой буду шутить на новоселье, – рассердился Лёня. – Ты уходишь от вопроса. Тебе хочется мне приятное сделать?
– Нет, – сказал Муратов. – Иди ты к черту.
Лёня забеспокоился не на шутку. В конце концов, живопись не самое главное, можно обойтись, но если так каждый начнет, то прекрасно задуманное и организованное мероприятие может лопнуть.
Зотова – пac. Одно дело она идет в дом – тут с пустыми руками стыдно, а на работу вполне может не принести скатерть с салфетками. И что с ней сделаешь? Бесчестные люди были, есть и будут.
Теперь этот хам Муратов. Тут уже явный отказ, хотя свинство это с его стороны неимоверное.
А до новоселья всего три для. И еще кто-нибудь найдет себе уважительную причину.
Лёня нервничал. Все валилось из рук, а тут еще случайно услышал, что начальник в командировку собирается.
Лёня решительно взял список и пошел к нему.
– Иван Кондратьич! – спросил он жалобно. – Это правда, что вы уезжаете?
– Да, скорее всего, – ответил начальник.
– А как же новоселье? – совсем заскучал Лёня.
– Ну, Петров, это уж вы без меня обойдетесь. Я свое дело сделал.
– Купили? – радостно спохватился Лёня.
– Что купил? – растерялся Иван Кондратьич.
– Люстру двухламповую и бра. Как договорились.
Непонятным цветом замигали глаза у начальника, заскрипел он своим кожаным креслом, задвигал бумагами на столе.
«Стыдно ему. Что забыл, – тепло думал об Иване Кондратьиче Лёня. – Все-таки хороший человек».
– Сколько я тебе должен? – не своим голосом спросил начальник.
– Ну, уж! Должны! – засветился Лёня. – 35 рублей с копейками стоит все это хозяйство.
И снова заскрипел креслом Иван Кондратьич. Но бумажник достал. Вынул четыре десятки, посмотрел, что осталось. Вздохнул.
– Я вам сдачу дам, – сказал Лёня. Достал трешку и два рубля, подождал, пока положит Иван Кондратьич деньги на стол. Поменял их местами.
– Жаль, – сказал, – что не будет вас, Иван Кондратьич.
– Ох, как жаль, – сказал тот.
А Лёня пошел дальше.
– Не надо тебе бегать! – сказал он Taмape. – Ты мне скатерть отдай в денежном выражении.
Звонким рублем получил он зеркала – круглое и прямоугольное, шторы в синюю клетку, ножи и вилки, стопки с шоколадом, сувенирный набор за пять семьдесят.