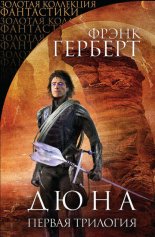Город Брежнев Идиатуллин Шамиль

Мавашей бы их раз двадцать, подумал я уныло. Но никакие маваши и йока-гери в такой тесноте и полусогнутом положении не проходили. Я подумал, лег на пол, задрав ноги, заполз на лесенку пятками вверх, уперся ими в доски, вцепился в перекладину, ледяную и шершавую даже сквозь варежки, и несколько раз пнул каблуками со всей дури.
Руки в варежках все-таки соскользнули, я чуть не грохнулся – шею бы точно сломал, но сумел удержаться. В башке бухало, в глаза, рот и нос сыпался мелкий сор, в животе разливался прохладный ужас, а вскочивший батек, подхватив, бережно стаскивал меня с лесенки, кажется, почти не ругаясь.
Пока я приходил в себя, он тоже накуролесил изрядно: извел еще треть зажигалки на попытки прожечь в стылой древесине хотя бы дырочку, за которую можно зацепиться, принимал от меня отодранные от мешков полоски и клочк газет, в которые были завернуты яблоки, заполнял всю яму вонючим дымом и заливисто кашлял, стуча головой о доски. Не угомонился, сплзал в погреб, разорил электропроводку, которая все равно не было сегодня подключена, и мучительно долго, беззвучно шепча и громко, со свистом пыхтя, что-то делал наверху. Съехал вниз, поправил одеяла, в которые закутал меня, будто ребенка, только потом накрылся ветошью сам, бессильно уронил размочаленные проводки и пояснил, что хотел пропихнуть медную жилу в щель, чтобы попробовать расшатать одну из досок или хотя бы чуть отвести ее от поперечного бруска, скрепляющего щит с наружной стороны.
– Ты кури, если хочешь, – предложил я неловко.
Батек отмахнулся, потом спохватился и спросил:
– Или ты сам хочешь?
– Да ты что, пап, я не курю.
– Я знаю, знаю. Просто если хочешь, то давай, без проблем.
– Чему ты учишь ребенка.
– Ребенок нашелся, дылда такая. Не куришь – и слава богу. И не начинай. Если будут говорить, что так теплей, не верь.
Если будут, ага, подумал я и продекламировал, чтобы отвлечься:
– К вечеру в доме стало тепло, чьи-то мозги улетели в окно.
– Ужас, – сказал батек. – Сам сочинил?
– Да ты что. Вот вы отсталые все-таки. Это же садистские куплеты. У вас не рассказывали, что ли?
Батек неуверенно пожал плечом. Я, тщательно выбирая куплеты без матов и совсем уж кошмариков, рассказал несколько историй про маленького мальчика, вечно находившего что-то на беду себе и окружающим. Первую пару батек встретил неодобрительным хмыканьем, на третьем куплете оно переросло в хихиканье, на пятом батек начал ржать – дико, всхрапывая и вытирая слезы, – так что мне пришлось выдержать длиннющую фразу перед очередным «нет, не поедет он к бабушке в гости». Я уточнил:
– Что, правда не слышал? Вот вы кресты все-таки.
– Здрасте. Почему кресты-то?
Я вздохнул и объяснил, потому что спешить все равно было некуда. Потом, додумывая на ходу и сам себе удивляясь, рассказал, что садистские куплеты и анекдоты – это как раньше частушки и разное народное творчество, на все темы буквально, хоть тебе про пьяного соседа, хоть антисоветские какие-то вроде «дедушка старый, ему все равно».
Батек хмыкнул и строго велел, вытирая глаза:
– Такие-то не рассказывай никому.
– Нет, блин, щас в «Пионерскую зорьку» напишу, чтобы меня в эфир. О!
– Что такое?
– Я забыл совсем. Послушать же можно, хоть не так скучно будет. Если не раздавилось, конечно…
Батек, замерев, со странным, насколько я мог разглядеть в полутьме, видом наблюдал, как я осторожно извлекаю из бокового кармана и включаю приемник, про который совсем позабыл, а брал ведь как раз, чтобы в дороге развлечься. В дороге не получилось, хоть сейчас получится.
Сейчас тоже не получилось: радио свистело, шипело и мяукало, но по-человечески говорить или играть не хотело. Один раз только пролетела и ноюще сгинула длинная пианиновая трель.
Я блинкнул, вырубил приемник и принялся запихивать его обратно в карман.
– Нет, – сказал батек решительно. – А жаль.
– В смысле? Что не ловит? Ну да.
– Да нет, я про другое: прикидывал, может, пригодится нам на что.
– А ты… передатчик можешь сделать? – спросил я с недоверием и восторгом.
Батек хмыкнул и с сожалением признался:
– Из приемника вряд ли. Я насчет раскулачить думал, чтобы инструмент получился, да там нет ничего. Плата, резисторы, ферритовая трубка, толку с нее – она хрупкая, как стекло.
– Ну, острая, значит, – предположил я. – Если надо, давай. Или корпус разбить можно, пластмасса знаешь какая острая бывает, если сломать правильно.
– А не жалко подарок-то?
– Ну… жалко, – признался я. – Только здесь все равно не играет, и вообще… А если выберемся…
– Если выберемся, я тебе три таких куплю.
– Магнитофон, – поправил я.
– Хорошо.
– «Панасоник».
– Не наглей.
Я хихикнул и подумал: вот упрямый. Трудно ему пообещать, что ли? Все равно покупать не придется. Я разозлился на себя за эту мысль и снова полез наверх.
Витальтолич, похоже, придавил крышку люка чем-то тяжелым – наверное, пластиковым ящиком с инструментами, – а потом накатил одно из колес нашего газика. Как умудрился только, не заводя. Шофер, военная смекалка, подумал я с горячей ненавистью.
И, чтобы отвлечься от нее, принялся толкать и подстукивать доски в разных местах. А сам думал про острую сломанную пластмассу и про ферритовую трубку, хрупкую, как стекло. И острую, как стекло.
– Ну чего ты стучишь? – спросил батек, усталым голосом, как раз когда я, кажется, придумал.
– Пап, надо, короче, попробовать одну доску выломать, тогда получится. Дверцу мы не поднимем, а вот дырку проделать можно.
– Ну а я что все это время… – начал батек, вздохнул, зашуршал и протиснулся поближе ко мне.
И я объяснил, что колесо стоит ведь только на одной, максимум двух досках, судя по звуку, вот на этих.
– Колесо переднее, под полтонны нагрузки – газик полторы весит, а самое тяжелое мотор, он впереди.
Я нетерпеливо согласился и продолжил: значит, вот на этих досках колесо, слышишь? Вот, а еще четыре доски, одна справа и три слева, получается, не под грузом – ну или только с краю ящиком придавлены. Их можно было бы расковырять и выбить, если бы не толстые поперечные перекладины с той стороны. Они очень плотно привинчены к доскам, и шляпки винтов тоже снаружи – ни расшатать, ни отвинтить. Ни палец, ни проводки в щели не лезут. И инструментов нет – только банки да яблоки. Кронштейны, на которых стоят полки в погребе, не выдираются. Лестница слишком длинная, ее не развернешь, чтобы брус подковырнуть.
– Тока вот нет, – сказал батек тоскливо в который уже раз.
– Ну да, но смотри вот – а если доску между колесом и бруском, вот эту, подрубить или подрезать, что ли, чтобы было за что схватиться?
– Чем? Ногтями? Пробовал. Зубы не влезут, тоже пробовал.
– Стеклом.
– Откуда тут стекло?
– Пап, – сказал я мягко. – У нас полный погреб стекла, вообще-то.
Батек кисло подышал мне в лицо, глядя в упор, – света хватало, чтобы разглядеть, что зрачки у него широченные, а белки в красных прожилках. Подышал, сморгнул и с шумом рванул в погреб.
– Ты это, замерзнешь, пап, телягу мою надень, – крикнул я вслед, но он уже вернулся с банкой.
– Это что, варенье? Перемажемся ведь.
– А разница-то. Хотя ты прав, – сказал батек, скрылся внизу, крякнул, пошумел, послышался плеск и звяканье, и батек выполз со словами:
– В уголок сядь-ка, а то напорешься еще.
Остро запахло укропом и вообще огуречным рассолом.
Я вдруг почувствовал, что дико хочу жрать.
Батек поднялся по лестнице к щели, через которую сочился слабый синий свет, и принялся разбирать длинные изогнутые осколки, зажатые жестяной крышкой трехлитровой банки.
– Пап, а ты бутерброд не взял? Или там…
– Или там яйцо вареное, – пробурчал батек, не отрываясь от расчленения распахнутой стеклянной звезды. – Или курочку. И соль в спичечном коробке. И огурчики… Вон, огурчики возьми. Или яблочки. Шарлотку-то явно…
Дальше я не услышал, полез в погреб.
– Турик, аккуратно, там стекла торчат! Вообще, погоди-ка, сейчас принесу.
– Не-не, я осторожно.
Я в самом деле был очень осторожен, не двинулся к полкам, пока глаза не научились распознавать силуэты банок и особо – ту, что с отломленным верхом. Я очень осторожно запустил руку в кольцо из почти невидимых лезвий и ухватил сразу несколько холоднющих сморщенных огурчиков – правда, извлек только пару, остальные выпали. Ладно хоть рассол вытек, но и без него пальцы онемели почти сразу, как если бы я тащил пучок сосулек. Я поспешно запихнул их в карман, к приемнику, выхватил из другого кармана варежки и несколько секунд беззвучно скулил, топчась на месте и сжимая-разжимая пальцы. Потом черпанул из сундука яблок уж сколько получилось и выполз наверх. В щеки и лоб будто Снежная Королева дунула.
– Блин, в погребе теплее, что ли, – пробормотал я, ввинчиваясь задом под одеяльный кокон, стоящий в углу вигвамчиком.
– Конечно… Теплее… – пробормотал бтек, не отвлекаясь от строгающих движений, от которых, впрочем, шума было меньше, чем от его шуршания локтем по боку или переступаний с ноги на ногу. – Около нуля, плюс-минус… А то помидоры… Замерзли бы на фиг… А на улице… Пятнадцать…
– Огурец будешь? Или яблоко? Зайчик передал.
Когда я был маленький, батек с такими словами привозил мне всякую ерунду – пряники, конфеты или просто несъеденный бутерброд с работы. Я класса до третьего в этого зайчика верил. И очень живо себе его представлял.
Батек хмыкнул, но не отвлекся:
– Потом… Сам потихоньку… Сразу не глотай…
– Ага, – сказал я, пытаясь хоть немного отогреть в ладони округлую ледышку с хвостиком. – А почему в погребе теплее, тепло же наверх идет?
Батек все так же короткими выдохами принялся объяснять насчет промерзания земли и круглогодичной единой температуры в правильном погребе, но я уже не слышал. Я откусил яблоко и распахнул рот, стараясь не завыть от разламывающих голову ледяных щипцов – и не выронить откушенный такими стараниями фрагментик. Челюсти пришлось сжимать силой, да еще упираться кулаком в лоб, чтобы башка не лопнула.
– Жуй получше… Согревай во рту… Заболеешь…
Я хмыкнул. Сейчас явно опасность номер один – заболеть от перемороженных яблок.
После второго кусочка дело полегче пошло. Вкус, правда, не ощущался ни у яблока, ни у огурчика, – просто ледышки с мякотью, одна сладковатая, другая солоноватая. Ладно, северные олени всю жизнь корешками из-под снега питаются, совсем безвкусными и горькими, – и ничего, знай по городу бегают и возят тупых девок в страну свою оленью.
Я чуть ожил и, может, даже поумнел. Потому что сказал:
– Пап. А может, на фиг стекла, крышки же есть, железные. Тоже полный погреб.
Батек замер, с шорохом свалился вниз и принялся, пыхтя и шмыгая, вертеть и мять жестяную крышку. Но стругал он ею совсем недолго, меньше чем через минуту разочарованно пробормотал: «Не, дрянь, не пойдет…» – и снова заширкал стеклом.
Не в ту сторону, значит, поумнел, подумал я, от огорчения отгрыз слишком большой кусок и беззвучно заныл от долгого ледяного удара в виски и переносицу.
– Ты… чего?..
– Кисло, – соврал я сквозь сжатые зубы.
– Варенье… Если хочешь… – пробормотал батек.
– Чтобы точно пропоноситься? – спросил я весело. Впрямь стало чуть веселее – и, кажется, теплее.
Вместо ответа батек перестал шуршать, подышал вхолостую, медленно сполз ко мне и присел рядом, тяжело сопя. Я на ощупь сунул ему в руки несколько яблочек и огурцов, накрыл своим чуть согретым, кажется, коконом, спросил, где стекло, покорно выслушал несколько ЦУ, вполз на лестницу, пригляделся, как велели, ухватил плотно, чтобы не скользил, длинный осколок и принялся так же размеренно, как батек, водить острием по чуть распахнувшейся, кажется, щелочке между досками.
Батек, судя по звукам, проходил те же стадии усвоения полярной пищи, что и я. Освоился тоже быстро и вроде повеселел – во всяком случае, принялся рассуждать на тему того, что пропоносимся, так не беда, у нас целый погреб в качестве выгребной ямы, при всем желании закакать не успеем. Я сперва сказал «фу», потом – «вонять… будет…», а батек разразился рассуждениями насчет «замерзнет, отвалится, уберем», потом вдруг решил, что я хочу в туалет, но стесняюсь, и принялся заклинать не стесняться. Потом сказал:
– Ну все, хватит уже для начала.
– Почти… – выдохнул я.
– Не порежься только.
И я, конечно, сразу порезался. Стекло провернулось в онемевших пальцах и чикнуло по ладони. Я замычал, высасывая кровь и сплевывая. Батек всполошился, вскочил, ругаясь, схватил мою руку, пытаясь рассмотреть, с треском оторвал кривой кусок майки и замотал, наплевав на мои протесты. В глазах у него, кажется, были слезы.
Мне его что-то жалко стало. Я сел и отвернулся, держа руку на весу.
Батек, потоптавшись, бодро заговорил:
– Ничего, еще маленько поковыряемся – зацепим и выломаем все. Или хватятся нас. Мамка из больницы приедет – нас нету. Туда-сюда метнется, соседей обзвонит, родственников, поймет и приедет.
– Ага, – сказал я, чтобы не молчать.
– Или сторож проснется, услышит. Вечереет уже, ночью звуки лучше ходят. Стучать будем. Приемник твой включим, тоже вариант. Как зашипит, сторож и насторожится.
Сторож насторожится, ха.
– Ха.
– Ты не кисни, Артур, понял? Завтра будешь все это со смехом вспоминать – как два здоровенных мужика вот такую дощечку проковырять не могли. И как щенки, честное слово, мордами тыкались – такие, знаешь, неумелые и не понимающие, что такое и за что их.
– Пап, – сказал я, сморщив нос. – Я знаю за что. Это же из-за меня все на самом деле.
– Ерунду не говори.
– Правда из-за меня.
И я ему все рассказал. Вообще все. Про то, как Витальтолич голову мне заговором морочил. Про бумаги у райисполкома и расстрел Садата. Про Серого. Про Ренатиков нож. Про махлы, толпой и с Гетманом. Про Ильина. Про Хамадишина. Как он бил меня – и как я его.
Не по порядку рассказал, бестолково и все время останавливаясь, чтобы не разреветься. Но батек, кажется, понял.
Он почти сразу сполз по стеночке рядом со мной, обхватил за плечи поверх одеял и прижал к себе, сильно и неудобно, так что мое колено упиралось мне в подбородок, его плечо – в висок, а говорить приходилось в слой вонючих одеял. Но он вроде слышал все – судя по тому, что иногда принимался часто дышать, а иногда впивался пальцами так, что я сквозь телягу и слой одеял чувствовал.
– Мескенем минем[11], – сказал папа, когда я замолчал.
Из глаз у меня полилось. Из носа и рта, кажется, тоже. Я замер, уткнувшись лбом в колени и надеясь, что не всхлипну сейчас.
И заревел, конечно. Громко – сперва просто так, а потом словами:
– Пап, прости, а. Я не хотел, честно.
– Ты меня прости, улым[12], – сказал папа, уткнувшись головой мне в плечо.
Я подумал, насколько мог сквозь икающие рыдания, и все-таки спросил:
– За что?
– За… За все это.
Папа, кажется, повел свободной рукой вокруг и бессильно уронил ее перед собой.
– Я твой отец, я за тебя отвечаю, я тебя защищать должен, а в итоге – не сделал ничего, даже не догадывался, идиот старый.
– Да ты-то при чем тут! – почти возмутился я.
– Плохо было, улым? – спросил папа.
Я покивал и снова судорожно всхлипнул – кажется, уже успокаиваясь.
– Ну и кончилось все плохое, считай. Теперь все хорошо будет.
Он отпустил мое плечо и повернулся ко мне лицом. И я ведь знал, что он просто так говорит, чтобы меня утешить, – я ж не дурак, здоровый пацан, ну и обстоятельства, как говорится, шепчут, что пахнет тут совсем не хорошо. Но очень уж мне хотелось папе поверить. Может, потому, что мне давно говорили, что все будет так себе, плохо и не факт вообще, что будет. А что хорошо, тем более всё, тем более человек, который, похоже, меня любит, – давно такого не было.
Но все равно я спросил:
– Почему?
– Потому что мы постараемся, – объяснил папа.
– Мало ли что мы постараемся.
– Нет, мы много постараемся.
– Пап, я человека убил, – напомнил я и опять заревел. – Чего тут стараться, если я убийца получаюсь.
– Ох ты господи, – сказал папа растерянно и вдруг сообщил: – А я засранец, Артур, я как-то обосрался нечаянно.
– При чем тут… Что, в штаны прямо?
– Ага, в штаны полную кучу.
– Ну, ты маленький был, наверное.
– Если бы… Там такая куча была – маленький не наложит.
Я невольно захихикал, папа, приободрившись, сообщил:
– Это же позор вообще, да, как после этого жить? А я живу. Потому что, а, такое с каждым может случиться, бэ, про тот случай никто не знает, вэ, я больше не срусь. Засранец я?
– Брехло ты, – сказал я уверенно.
– Чего это?
– Не срался ты ни фига. И потом, одно дело обосраться, другое – человека…
– Так. Артур, давай раз и навсегда разберемся. Ты хотел его убивать?
– Я за Серого мог, наверное…
– Давай без «наверное». Ты шел его убивать?
– Нет.
– Он, наоборот, мог тебя убить?
– Н-не знаю.
– Мог, – уверенно сказал папа. – Значит, с твоей стороны была допустимая самооборона.
– Или недопустимая, а он к тому же мент, то есть, ой, милиционер.
– Не при исполнении – значит не милиционер. Он на тебя напал, а не ты на него – значит ты имел право сопротивляться. Он сильнее – значит ты имел право применять, как это, любые средства, чтобы защитить свободу и жизнь. А нож – ну, случайность. Ты ведь его у того мальчика отобрал, чтобы выбросить, правильно? Ну и, значит, хорошо, что не выбросил. А то был бы в том лифте не мент убитый, а…
Он резко замолчал и сглотнул.
Я горько сказал:
– И кто в это поверит?
– А кто должен поверить? Я уже верю, ты тоже, этот… Ну какая разница. А больше никто не узнает, правильно?
Я пожал плечом. Папа тихо сказал:
– Улым, я никому не скажу.
Мне стало смешно. Конечно не скажешь – кому говорить-то, банкам с огурцами да замерзшим яблокам?
Папа не унимался:
– Никому, понял? И ты никому. Мне рассказал – и все, и хватит.
Я зажмурился. Страшно захотелось никому не сказать – но так, чтобы такая возможность была. А я бы не сказал. Ох как бы я не сказал. Хоть кому. Хоть завучихе, хоть вражеским пацанам, хоть собаке Рейгану или Пиночету с Сомосой каким-нибудь. Каждому из них и всем вместе – ни словечка.
– Да, – сказал я, не открывая глаз, но тут же их распахнул и спросил: – А если этот?
Папа меня сразу понял. Он как-то ловко понимал меня сегодня, и я его тоже. Странно даже.
Он сказал:
– Если до сих пор не сказал, то и не скажет. Тем более теперь.
Точно, подумал я с ненавистью.
Папа мне тоже рассказал, короче и толковей, про аварию на заводе. Я не совсем все понял, но, подумав, сказал, кажется, вполне логично:
– Так это же диверсия. Ну натуральная, пап. Может, он на самом деле шпион? Завербованный, специально чтобы… Я в кино видел.
– Турик, да они только в кино и бывают, – ответил папа. – А так-то мы сами себе диверсанты, и никакой посторонней помощи не требуется.
Я не согласился, но спорить не стал. Подумал еще и сказал:
– Я его убью.
– Хватит, – сказал отец. – Больше никого, понял?
Меня затрясло.
– А то засранец будешь, – сказал папа очень серьезно. – Пообещай вот сейчас, что больше – никогда и никого.
– Да само собой.
– Пообещай.
Как будто не знает, что я вот эти «пообещай» всю жизнь ненавижу. Хотя, может, и не знает еще.
– Обещаю, – буркнул я с омерзением.
И подумал: теперь веселая жизнь начнется, мне убивать нельзя, меня – можно.
Раз так, буду учиться бить первым – и так, чтобы только не убить, а все остальное в ассортименте.
Папа, кажется, успокоился, медленно встал и принялся разминать руки и ноги, покряхтывая. Подвигал локтями и неожиданно сказал:
– Надо было сразу мне сказать, понял?
– Про что?
– Про все. Когда в милицию забрали, когда подрался, когда угодно. И отныне, запомни, – никогда не поздно сказать, понял? Мамке-то не надо, тем более теперь, а мне – никогда не поздно. Что бы ты ни сделал, я помогу, понял? А если ты не сказал и я не знаю – как я помогу?
– А как ты поможешь? Вот сейчас, например?
– Да все так же. Других вариантов у нас нет вроде, правильно?
Он подождал, решил, что я помалкиваю не от усталости, а в знак согласия, и продолжил:
– Значит, способ решения задачи только один. И задача только одна на сегодняшний день: жить. Не замерзнуть и вообще.
– А на завтрашний?
– И на завтрашний такая же. Это, понимаешь, такая дурацкая задача, каждодневная. И самое обидное – все самому приходится решать, без подсказок и шпор.
– Н-ну… Ладно. Давай решать. В смысле, не мерзнуть: одеялами вот накроемся, сядем спокойно и будем тепло хранить.
– Нет уж, так неинтересно. И потом – движение жизнь, ты же знаешь.
– Да я двигаюсь, двигаюсь. – Для убедительности я пошевелил рукой и ногами. – Сейчас, отдохну только.
– Давай-давай, отдыхай пока, потом сменишь, – велел папа и взгромоздился на лестницу.
Я расслабленно откинулся на стену. Стена была твердой и холодной даже сквозь телягу и слой одеял, нос не дышал, рука садняще пульсировала, а другая просто мерзла, но на это было плевать. Хорошо мне было. Уже сейчас – хорошо, как давно не было.
Не соврал папа, значит.
Я медленно сунул здоровую руку в карман, чтобы согреть немножко, и наткнулся на холодную панель радиоприемника. Машинально крутнул колесико, и карман вдруг заныл негромко и визгливо.
«Все бегут-бегут».
Я застонал и быстренько поменял Леонтьева на неровное шипение.
Папа сказал:
– Это ж эти, «Земляне». Или «Самоцветы».
– Вот именно.
– Так оставь. Ты же любишь.