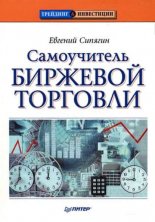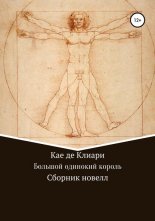Империя должна умереть Зыгарь Михаил

3 октября похороны ректора превращаются в мощнейшую демонстрацию протеста. Бастуют уже более сотни предприятий Москвы, начинают присоединяться и работники железных дорог. В знак солидарности с Москвой останавливаются и петербургские типографии.
10 октября прекращается движение поездов на всех направлениях из Москвы. 12 октября в Москве начинает бастовать телеграф.
В Петербурге в этот же день прекращается движение поездов. Прекращается подвоз топлива, на грани полной остановки оказываются крупнейшие заводы.
13 октября Московская городская дума объявляет всеобщую забастовку.
В Петербурге тоже бастуют все: городские и земские управы, банки, магазины, почта и телеграф, даже чиновники в правительственных учреждениях. К вечеру 13 октября от мира и друг от друга отрезаны обе столицы.
Революция Витте
9 октября Сергей Витте, теперь уже граф, по-прежнему самоуверенный после американского триумфа, приходит к императору. Он в фаворе — но не облечен какими-то полномочиями (несмотря на формальную должность). Император воспринимает его скорее как человека со стороны — ведь Витте долго отсутствовал и не принимал участия в разработке последнего манифеста о создании законосовещательной Думы.
Анализируя нарастающие беспорядки, Витте говорит, что у царя есть два варианта действий: или назначить военного диктатора, который жестко разгонит все демонстрации, или пойти на крупные политические уступки. Сам Витте — за второй путь. Более того, он передает императору «записку» — на самом деле объемный политологический трактат (кто точно из окружения Витте его составил — неизвестно), объясняющий, что реформы неизбежны.
Эта записка — совершенно революционный документ. Она начинается с рассуждений о том, зачем вообще существует государство, — вопрос, которым вряд ли хоть раз задавался Николай II. «Государство не может жить и развиваться только потому, что оно существует… должна быть цель, государство живет во имя чего-нибудь», — пишет автор. И тут же продолжает, что единственная цель любого государства — это обеспечение моральных и материальных благ граждан.
Главным моральным благом для любого, считает автор записки, является свобода. «Человек всегда стремится к свободе», и именно стремление к свободе — наиболее древнее, традиционное состояние человека. Как раз самодержавие, как и любая другая форма государственности, — это что-то новое, сравнительно недавнее изобретение. А борьба за свободу существовала всегда — с самых древних времен.
Эта мысль — абсолютно новая для императора. В картине мира Николая II, которую ему привил Победоносцев, самодержавие — это изобретение Бога, оно превыше всего, сам Бог сделал его царем. Теория, изложенная в записке, отличается от концепции Победоносцева так же, как учение Дарвина об эволюции от веры в божественное сотворение мира.
Теория, разумеется, подкреплена примерами: «Не год назад, конечно, зародилось нынешнее освободительное движение. Его корни в глубине веков — в Новгороде и Пскове, в Запорожском казачестве, в низовой вольнице Поволжья, церковном расколе, в протесте против реформ Петра с призывом к идеализированной самобытной старине, в бунте декабристов, в деле Петрашевского, в великом акте 19 февраля 1861 года и, говоря вообще, в природе всякого человека».
Тут автор переходит на современность, доказывает, что стремление человека к свободе задавить нельзя: «Казни и потоки крови только ускорят взрыв. За ними наступит дикий разгул низменных человеческих страстей». Единственный выход: «Лозунг "свобода" должен стать лозунгом правительственной деятельности»[55].
Витте считает, что власти должны возглавить реформы, а не плестись в хвосте у запросов общества: во-первых, устранить произвол карательных органов, во-вторых, обеспечить равные гражданские права, в-третьих, реформировать систему госуправления и, наконец, решить три вопроса: рабочий, аграрный и национальный.
«Ход исторического прогресса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует если не путем реформы, то путем революции. Но в последнем случае она возродится из пепла ниспровергнутого тысячелетнего прошлого. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, все сметет, все повергнет в прах», — прогнозирует автор записки.
Император внимательно выслушивает Витте — даже более того, зовет жену. Они обсуждают его доклад вместе — и отпускают. Николай II обещает подумать.
Германия — мать порядка
В день доклада Витте, 9 октября, из Петергофа, где живет император, ситуация еще не кажется тревожной. Но уже к 12 октября все меняется. Николай II обнаруживает, что заперт в Петергофе. Министрам из Петербурга приходится добираться до царя на двух военных кораблях: «Дозорный» и «Разведчик». Вся железнодорожная сеть России прекратила работу; телеграф также молчит.
«Милые времена!» — иронизирует в своем дневнике Николай II. У императора невероятная выдержка. Он уже совершенно не контролирует страну, лишь обрывочно узнает о происходящем в столице.
В Финском заливе, недалеко от Петергофа, появляются два немецких крейсера. Но это вовсе не угроза — они приходят спасать Николая II. Кайзер Вильгельм, двоюродный брат императрицы, как обычно, регулярно присылает родственнику письма с подробными рекомендациями по поводу внутренней политики. В октябре германский император уже советует российскому уехать за границу — и предлагает убежище. Кроме того, он готов оказать военную помощь: немецкие войска могут быть введены в Петербург или любой другой регион и немедленно навести там порядок.
Письмо Вильгельма становится главной темой обсуждения в высшем обществе — многие находят эту идею спасительной. На собственные полки уже нельзя полагаться без опаски, революционеры ведут там постоянную агитацию, того гляди они откажутся нести службу и усмирять беспорядки. Немецкие же солдаты в этом смысле абсолютно надежны. Многие советуют царю ехать. Витте считает, что, уехав, император уже не сможет вернуться. Трепов колеблется.
Трудно понять, в каком эмоциональном состоянии находится император. С одной стороны, все приближенные описывают его как человека невероятно сдержанного, хорошо умеющего скрывать свои чувства. С другой — его часто характеризуют как человека недоверчивого и подозрительного. На императора очень сильное впечатление произвела гибель сербского короля Александра и его жены королевы Драги. В 1903 году их зверски убили офицеры из ближайшего окружения. Николай знал Александра, и теперь, два года спустя, он, конечно, вспоминает о его участи и опасается заговора приближенных.
Театральный бунт
Когда столицы начинает трясти, актриса Мария Андреева больше не может сидеть в провинциальной финской Куоккале. Несмотря на все прошлые скандалы она возвращается в Москву, в МХТ — репетировать новую пьесу своего мужа «Дети солнца». Сам Горький по-прежнему живет в Финляндии. Но Марусю интересует уже вовсе не театр.
«Милый Константин Сергеевич! Вчера, когда я вернулась домой, я горько плакала! Мне кажется, что я никуда не гожусь как актриса. Все, что я делаю на сцене, банально, неинтересно, никому не нужно. И вот Вы говорите мне то же самое. Может быть, это и так, может быть, лучше оставить мысль о сцене?» — пишет Мария Андреева Константину Станиславскому 28 августа. Андреева недовольна тем, как она играет, по одной причине — ее совершенно перестала увлекать сцена. Куда интереснее та игра, которая происходит в жизни. Она состоит в подпольной революционной организации и получает максимальное удовольствие именно от этой роли. Еще в Куоккале они с Горьким устраивали подпольные концерты со сбором денег на нужды Боевой организации РСДРП. Со сцены сельского клуба Горький, Андреева и Леонид Андреев читали стихи и прозу — а по рядам передавали ридикюль с надписью «В пользу Боевой организации». Собранные деньги Андреева отсылала руководителю Боевой организации РСДРП — Леониду Красину.
В Москве Маруся еще сильнее увлекается революционной деятельностью. Опять-таки собирает деньги по поручению Красина: например, на подпольную типографию или на побег заключенных из Таганской тюрьмы.
14 октября в МХТ идет генеральная репетиция «Детей солнца». Вдруг посреди спектакля в зале выключается свет. Это московская электростанция присоединилась к забастовке.
Московская городская дума, крайне оппозиционная, еще накануне объявила всеобщую забастовку. Депутаты требуют, чтобы бастовали все, не исключая больниц и водопроводов. Это решение поддерживает абсолютное большинство членов — против только братья Гучковы, Александр и Николай, выходцы из богатой старообрядческой московской семьи.
Всеобщая забастовка с политическими лозунгами — это тягчайшее преступление, возмущается Александр Гучков. Бастующие покушаются на жизнь и здоровье населения, это коллективный психоз, охвативший русское общество. Гучков стыдит коллег по думе, которые, по его словам, «чужим здоровьем, чужой жизнью хотят добиться своего благополучия, требуя одновременно, чтоб им выдавали жалованье, когда кругом бедные будут умирать от голода и холода». Поддержать аргументы Гучкова приходит главврач детской Морозовской больницы, в которой нет воды и света. Под впечатлением от его рассказа городская дума уступает — и отправляет делегацию к университету, туда, где проходит бесконечный митинг рабочих, просит их вернуться на работу. Но уже поздно — делегация возвращается освистанная, а рабочие принимают резолюцию о передаче всей власти революционному комитету.
Петербург скоро догоняет Москву. Бастуют все: городские и земские управы, банки, магазины, почта и телеграф, даже чиновники в правительственных учреждениях. Мария Андреева требует, чтобы труппа МХТ тоже начала бастовать. Три раза труппа собирается, чтобы это обсудить. Андреева произносит страстные речи. Но Станиславский и Немирович объявляют, что театр не закроется, но «присоединится сочувствием к бастующим» и даст спектакль в пользу их семейств.
Впрочем, это скорее исключение. Протест в моде. Забастовку поддерживают профессора, они создают фонд помощи бастующим рабочим, в который каждый член профсоюза должен сдать свой трехдневный заработок. Бастовать начинают даже такие представители творческой интеллигенции, которых раньше трудно было заподозрить в интересе к политике, например артисты балета императорских театров. Танцоры избирают стачечный комитет, в который входят трое зачинщиков: Анна Павлова, Тамара Карсавина и Михаил Фокин, все трое — будущие звезды дягилевских балетов. Все время забастовки Фокин ходит советоваться к Дягилеву. Тот советует не уступать.
Дирекция императорских театров планирует уволить зачинщиков и требует от всех сотрудников подписать заявление о лояльности: фактически тот же прием, которым воспользовался капитан броненосца «Потемкин», когда просил желающих есть борщ встать в строй справа, а не желающих — слева. Немногие соглашаются — но, к примеру, подписывает письмо друг Дягилева, балетмейстер Сергей Легат[56].
Сам Дягилев находится в нервном возбуждении: «Что у нас творится, описать невозможно: запертые со всех сторон, в полной мгле, без аптек, конок, газет, телефонов, телеграфов и в ожидании пулеметов. Вчера вечером я гулял по Невскому в бесчисленной черной массе самого разнообразного народа. Полная тьма, и лишь с высоты адмиралтейства вдоль всего Невского пущен электрический сноп света из огромного морского прожектора. Впечатления и эффекты изумительны. Тротуары черны, середина улицы ярко-белая, люди как тени, дома как картонная декорация», — пишет он другу Бенуа во Францию. Тот уехал с семьей еще в январе, после Кровавого воскресенья, и теперь переживает, что милые его сердцу петербургские дворцы «превратят в щебень».
«Имеется теперь два выхода, — размышляет Дягилев, — или идти на площадь и подвергаться всякому безумию момента (конечно, самому закономерному), или ждать в кабинете, но оторвавшись от жизни. Я не могу следовать первому, ибо люблю площадь только в опере или в маленьком итальянском городке, но и для кабинета нужен "кабинетный" человек, и уж во всяком случае это не я. Отсюда следствие плохое — нечего делать, приходится ждать и терять время. А когда пройдет эта дикая вакханалия, не лишенная стихийной красоты, но, как всякий ураган, чинящая столько уродливых бедствий?» Письмо отправлено 16 октября 1905 года.
Двоюродный брат и бывший любовник Дягилева, Дима Философов, тоже увлекся политикой. Он снова отдалился от Сергея, вернулся к Мережковским и даже поселился в их доме; свой тройственный союз они называют «троебратство». Казалось бы, еще пять лет назад Мережковские презирали политизированных стариков, концентрировались на духовном и мистическом, думали исключительно о познании религии. Но летом 1905 года Мережковский говорит жене: «Самодержавие — от Антихриста!» Чтобы не забыть эту его фразу, Зинаида записывает ее на коробке от шоколада.
В октябре 1905 года Зинаида Гиппиус уже мистически предчувствует революцию — так, как истовые сектанты ожидают скорый конец света. 17 октября она пишет Диме Философову письмо, которое спустя годы будет опубликовано как пророческое, под названием «За час до манифеста». Она предчувствует революцию в марте, во главе ее будут социал-демократы — если, конечно, власти не отсрочат катастрофу реформами. Заканчивается письмо так: «Главное — я реально представила грядущее насильническое (сами говорят) правительство и народный террор и кровь. И то, что это — в плане! Для их истины — такой путь! Это делать, так делать — мы не можем физически. Ни шагу на это не могу».
Кадеты и женщины
Власти уверены в том, что забастовочное движение — часть дьявольского плана, который разработали оппозиционеры. Трепов, а тем более Герасимов убеждены, что забастовки организовал Союз союзов и что им же создан Петербургский совет рабочих депутатов. В этом убежден даже Николай II — он пишет матери про «знаменитый "Союз союзов", который ведет все беспорядки». Это, конечно, преувеличение. После ареста Милюкова и компании Центральное бюро Союза союзов на некоторое время просто перестает существовать, потом постепенно их места заполняются новыми людьми, куда менее известными широкой публике. Уже в октябре, после начала забастовки в Москве, новое Центральное бюро Союза союзов делегирует своих представителей в Петросовет. Все это носит скорее стихийный и случайный характер — никакой четкой организации нет и в помине.
А чем же занят в это время один из важнейших членов могущественного Союза союзов Павел Милюков? После освобождения из Крестов он уже не имеет никакого отношения к этой организации. На 12 октября назначен учредительный съезд либеральной партии — первой легальной оппозиционной партии в России, — в которую, наконец, должен превратиться Союз освобождения. Правда, есть проблема — железные дороги бастуют, и на съезд в Москву не добирается три четверти делегатов, в том числе и почти все представители Петербурга. Но Милюков считает, что откладывать все равно нельзя. Так он в считаные месяцы после возвращения из Чикаго оттесняет всех ветеранов российского либерального движения и становится лидером партии, которая будет называться «партией народной свободы», а также конституционно-демократической или, сокращенно, КД, а ее членов будут называть кадетами.
На жизнь партии влияют и обстоятельства личной жизни Милюкова. В работе съезда (спонсируемого поклонницей Милюкова Маргаритой Морозовой) активно участвует жена Милюкова Анна. И именно она поднимает вопрос о том, что всеобщее избирательное право должно быть распространено на женщин (в проекте либеральной конституции, которую писали члены Союза освобождения весной 1905-го, об этом речи не было). Уязвленная Анна Милюкова начинает бороться за свои права — и публично дебатировать с мужем. Он против, считает, что не нужно нагружать партийную программу лишними мелочами. Но ее внезапно поддерживает большинство участников съезда. Так в программе первой российской либеральной партии оказывается революционное по тем временам требование — позволить женщинам голосовать.
Пока кадеты обсуждают права женщин, начинается всероссийская забастовка.
Конституция или смерть
13 октября Витте получает телеграмму, из которой узнает, что будет назначен председателем Совета министров. Никакого упоминания о предложенных реформах в телеграмме нет. Витте просит аудиенции у царя и заявляет, что не видит возможности служить на предложенном посту, если его программа не будет принята.
Но император не может принять предложение Витте, так же как и предложение кайзера Вильгельма — и то и другое кажется Николаю II нарушением той клятвы, которую он давал, когда вступал на престол: передать своему сыну ту же власть, что он получил от отца. Это же ему все время твердит жена — она буквально помешана на том, что нельзя отбирать у цесаревича Алексея его наследство. По мнению Александры, Николай не имеет права идти на уступки, потому что тем самым он обкрадывает своего сына. И императору кажется, что выход только один — подавить восстание.
Для этого в Петергоф срочно вызывают великого князя Николая Николаевича. У императора особые отношения с дядей Николашей — так Николая Николаевича называют в семье. Ему 49 лет, он на 12 лет старше царя. Он один из самых доверенных людей — дядя обожает, даже обожествляет императора. По словам Витте, однажды Николай Николаевич сказал ему: «Вы считаете, что император — человек? Мне кажется, что не человек и не бог, а нечто среднее». Великий князь известен своим мистицизмом — как и его брат Петр, и «черные принцессы», лучшие подруги императрицы черногорки Стана и Милица. Они все вместе участвовали в ритуалах доктора Филиппа. А теперь, осенью 1905-го, уже увлечены новым проповедником — Григорием Распутиным.
Впрочем, Николай Николаевич не только мистик, но и профессиональный военный. В семье его считают выдающимся военачальником. Николай II хотел назначить его командующим на японский фронт, но тот поставил условие — он будет командовать без оглядки на Петербург, сможет увольнять и назначать, кого захочет. Император не рискнул так сделать — обиделся бы другой дядя, главнокомандующий флотом великий князь Алексей. Но теперь, после войны и позорной отставки Алексея, именно Николай Николаевич становится первым человеком во всей армии. Только его император может попросить задавить восстание войсками.
Пока Николай Николаевич пытается добраться из Тулы до Петергофа по бастующей железной дороге, Трепов 14 октября выпускает приказ, который расклеивают по всему охваченному волнениями Петербургу. В нем генерал-губернатор извещает население, что полиция будет беспорядки подавлять, а «при оказании сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Он объясняет своему родственнику Мосолову, что единственная цель такой жесткой формулировки — избежать кровопролития: протестующие будут знать, что войскам приказано стрелять, поэтому не будут нарываться.
В Петергоф дядя Николаша приезжает только 15 октября, но вовсе не в диктаторском настроении. Перед тем как зайти к племяннику, он достает револьвер и говорит министру двора барону Фредериксу: «Я сейчас пойду к Государю и буду умолять Его подписать манифест и программу графа Витте. Или Он подпишет, или я у Него же пущу себе пулю в лоб из этого револьвера».
Император уступает — зовут Витте, просят его подготовить проект манифеста. Николай II проводит несколько дней (с 15 по 17 октября) в обсуждении текста манифеста с Витте и другими чиновниками. Советуется со всеми, с кем только может. Дядя Николаша, барон Фредерикс и Витте — за. Жена — против. Отговаривает Николая II и его адъютант Владимир Орлов (по прозвищу Влади): лучше дать конституцию не под давлением, а хотя бы через полгода, говорит он.
Император снова спрашивает Трепова: сколько дней потребуется для восстановления порядка в Петербурге и возможно ли это без многочисленных жертв. «Ни теперь, ни в будущем дать в том гарантию не могу; крамола так разрослась, что вряд ли без этого суждено обойтись. Одно упование на милость Божию», — отвечает Трепов.
«Трепов трус», — говорит Влади Орлов. «Он не трус», — настаивает император.
В пять часов вечера 17 октября Витте привозит новую редакцию текста, со всеми правками. Царь подписывает. Манифест гарантирует «гражданские свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», а также дает избирательные права всем «классам населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав». Наконец, он создает Государственную думу, без согласия которой не может быть принят никакой закон. Подписав документ, Николай II вызывает адъютанта Влади. Император сидит, опустив голову, и плачет. «Не покидайте меня сегодня, мне слишком тяжело, — говорит он Орлову. — Я чувствую, что, подписав этот акт, я потерял корону. Теперь все кончено». Адъютант утешает императора, говорит, что еще не все потеряно, еще можно «сплотить всех здравомыслящих и спасти дело». Выйдя от императора, Орлов звонит в департамент полиции — Петру Рачковскому — и торопит его «сплотить всех здравомыслящих»[57].
«После такого дня голова сделалась тяжелою и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и умири Россию!» — пишет император в дневнике.
19 октября публикуется указ о формировании Совета министров и назначении Витте его председателем — по образцу европейских премьер-министров. А еще публикуется «доклад графа Витте» — то есть фактически программа нового правительства, едва ли не самая либеральная за все время существования России. В тексте говорится, что Россия «переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». Далее правительство обязуется не вмешиваться в выборы в Государственную думу и «устранить репрессивные меры против действий, явно не угрожающих государству».
Кроме того, Витте рассуждает о том, чего хочет российское общество. «Не может быть, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства». Впрочем, эти размышления увлекают премьера недолго. Ему некогда — пора набирать новое правительство.
«Завтра на улицах будут христосоваться»
Трепов узнает новости от Витте по телефону. «Слава Богу, манифест подписан. Даны свободы. Вводится народное представительство. Начинается новая жизнь», — с облегчением говорит генерал своему советнику Рачковскому. «Слава Богу… Завтра на улицах Петербурга будут христосоваться, — вторит ему Рачковский и продолжает, повернувшись к начальнику тайной полиции Герасимову: — Вот ваше дело плохо. Вам теперь никакой работы не будет». «Никто этому не будет так рад, как я. Охотно уйду в отставку», — отвечает Герасимов.
Вечером глава правительства Витте собирает министров. Обсуждают уже подписанный манифест и отдельные, еще не прописанные детали: в частности, предстоящую амнистию. Витте требует освободить всех осужденных за политические преступления, вернуть всех ссыльных, открыть двери Шлиссельбургской крепости, чтобы показать, что «нет более старой России, а существует новая Россия, которая зовет всех строить новую, светлую жизнь». С ним спорит министр финансов Коковцов. Он против всеобщей амнистии и предлагает не распространять ее на террористов, сидящих в Шлиссельбургской крепости. Нервы Витте истощены так, что он начинает кричать на Коковцова при всех: «С такими идеями, которые проповедует господин министр финансов, можно управлять разве зулусами».
В углу сидит Победоносцев — и молчит. Для него манифест — трагедия. 24 года назад он спас Россию от конституции, теперь же проиграл своему давнему другу Сергею Витте. Престарелый Победоносцев подает в отставку.
Для большинства правительственных чиновников рангом пониже манифест — полная неожиданность, о его подготовке никто заранее не знал. «В чем дело? Что это значит? Как понимать манифест?» — расспрашивают полицейские Герасимова. Большинство сходится на том, что теперь тайная полиция, специализирующаяся на борьбе с врагами режима, будет закрыта.
Вчерашние специалисты по борьбе с инакомыслящими обсуждают, кто куда пойдет устраиваться: кто на железную дорогу, кто в охранники. Их начальник Герасимов отшучивается: «Успокойтесь. Без нас не обойдутся. Полиция имеется даже во Французской республике. Кто хочет, может уйти, — а нам работа найдется».
18 октября по всей стране праздник, который будут вспоминать и через 10 лет. Столичные интеллигенты торжествуют. Сергей Дягилев покупает бутылку шампанского и мчится к родственникам. «Ликуем! Вчера даже пили шампанское! Привез Сережа! Чудеса», — записывает его тетя Нона, мать Димы Философова.
Забастовка заканчивается, снова работает водопровод, идут поезда. В обеих столицах — демонстрации, половина — с портретами императора, вторая — с красными флагами; одни поют гимн, другие — революционные песни. «Те и другие бесчинствуют, учиняют насилие над прохожими, которые не снимают шапок», — вспоминает губернатор Джунковский. Полиция не вмешивается.
Впрочем, политики недовольны и считают манифест полумерой. В Москве сестра Маргариты Морозовой устраивает пышный банкет по случаю окончания съезда кадетов, совсем не ожидая, что будет и второй, куда более мощный повод. Зал переполнен, настроение восторженное. «Нас и манифест готовились чествовать вместе», — вспоминает Милюков. Он герой дня — его, как триумфатора, поднимают на руки, ставят на стол, чтобы он произнес речь, «всовывают в руки бокал шампанского», а «некоторые, особенно разгоряченные, лезут на стол целоваться по-московски и, не очень твердые в движениях, обливают основательно шипучим напитком». Милюков недоволен — он считает, что праздновать нечего. Он выступает сдержанно, говорит, что это только начало — «чтобы удержаться на том, что достигнуто, нельзя покидать боевого поста». Заканчивает свою речь он и вовсе мрачно: «Ничто не изменилось; война продолжается».
Примерно в это время антипод 46-летнего Милюкова, 25-летний Лев Троцкий кричит с университетского балкона празднующей толпе: полупобеда ненадежна, враг непримирим, впереди западня. Он рвет царский манифест и пускает его клочья по ветру.
Жиды сбросили корону
Гораздо меньше ясности в провинции. Никаких слухов там не было, просто утром 18 октября выходят газеты с опубликованным манифестом. Почти никто не понимает, что это значит.
Монархист Василий Шульгин, житель Киева, офицер запаса и будущий депутат Государственной думы, описывает, как празднуют наступление политической свободы на Майдане: площадь забита народом от края до края, люди свисают с балконов, посреди «моря голов» стоят «какие-то огромные ящики, также увешанные людьми… Я не сразу понял, что это остановившиеся трамваи. С крыш этих трамваев какие-то люди говорили речи, размахивая руками, но, за гулом толпы, ничего нельзя было разобрать. Они разевали рты, как рыбы, брошенные на песок», — пишет Шульгин. Все радуются: кто-то тихо, а «кто-то дуреет и пьянеет от собственного множества». В городской думе происходит стихийный митинг. Участники требуют освобождения политзаключенных, поют «вечную память» погибшему «борцу за свободу» — ректору Московского университета князю Трубецкому. Потом митингующие выходят на балкон здания думы, украшенный царским вензелем и короной. Их немедленно отламывают и заменяют красным флагом.
Шульгин описывает это очень патетично: «Царская корона… вдруг сорвалась или была сорвана и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни… И толпа ахнула. По ней зловещим шепотом пробежали слова: "Жиды сбросили царскую корону…"» Шульгин в этот момент даже не подозревает, что именно он через 12 лет окажется тем человеком, который по-настоящему сбросит царскую корону — примет из рук Николая II акт об отречении от престола.
Но пока Шульгин в ужасе от происходящего в Киеве: студенты учиняют разгром в здании городской думы: рвут царские портреты, протыкают им глаза, а один студент даже, «пробив головой портрет царствующего императора», надевает порванное полотно на шею и бегает по зданию с криками: «Теперь я — царь!»
В Киеве разрешено жить евреям, но и антисемитские настроения здесь очень сильны. «Киевлянин» — одна из главных черносотенных газет страны. Ее главный редактор — отчим Шульгина, Дмитрий Пихно.
Вечером 18 октября к редакции «Киевлянина» приходит толпа студентов и рабочих, желающая разгромить ее. Полицейские грозят открыть стрельбу. Тем временем редактор Пихно уговаривает наборщиков выпустить новый номер. Они боятся — говорят, что революционеры грозились вырезать их семьи, если они продолжат набирать монархический «Киевлянин». Тогда главный редактор произносит перед ними прочувствованную речь: «Прошу вас не для себя, а для нас самих и для России… Нельзя уступать!.. Если им сейчас уступить, они все погубят, и будете сами без куска хлеба, и Россия будет такая же!» Два самых старых наборщика соглашаются. Они просят у Шульгина «рубль на водку» и с риском для жизни набирают свежий номер «Киевлянина» — всего две страницы. Это единственная газета, которая выходит в городе на следующий день, 19 октября.
Митинг вокруг городской думы продолжается недолго. Прибывают казаки и начинают разгонять митингующих. Начинается страшная давка — с человеческим жертвами: «Где раньше минут за пять стояла многотысячная толпа, там теперь виднелись трупы убитых, помятые шляпы, калоши, зонтики и несколько дамских платьев, — так опишет события того дня "Киевлянин". — На площади и прилегающих улицах происходило побоище между "черной сотней" и интеллигенцией, а также и евреями, перешедшее к вечеру и последующие два дня в стихийный еврейский погром».
По словам Шульгина, погромы начинаются из-за слуха о том, что «жиды царскую корону сбросили», — и возмущенные городские низы используют это как повод, чтобы начать громить и грабить еврейские лавки. Офицер Шульгин, пасынок издателя черносотенной газеты, во главе отряда мечется по городу, пытаясь предотвратить погромы и убийства евреев. Погромщики искренне не понимают, почему военные не на их стороне: «Господин офицер, зачем вы нас гоните?! Мы ведь — за вас. Ей-богу, за вас!» Убедить толпу не громить еврейские дома Шульгину не удается: «Только я их разгоню — как через несколько минут они соберутся у того края пустыря. В конце концов это обращалось в какую-то игру».
Союз русских
Доктор Дубровин, конечно же, взбудоражен манифестом. В его огромной квартире на следующий день собираются единомышленники. Они уверены, что Витте «вырвал» манифест у царя угрозами, поэтому он не имеет никакой законной силы. Именно в эти дни дома у Дубровина придумывают название для той самой массовой организации, о которой давно мечтают монархисты, — Союз русского народа.
«Союзники» (так называют себя члены организации) собираются бороться против манифеста 17 октября — и за неограниченную власть царя. Еще они называют себя «истинно русскими людьми». Это и есть те самые «здравомыслящие люди», собрать которых мечтал царский адъютант Влади Орлов.
Квартира Дубровина становится центром монархического Петербурга — уже хотя бы потому, что у него много свободного места. Преуспевающий врач вложил заработанные деньги в строительство многоэтажного дома на Невском. Когда «союзники» перестают помещаться в его собственную квартиру, он выделяет под офис организации еще одну, соседнюю. Сюда же всех желающих направляет департамент полиции — ведь Рачковский давно курирует благонадежного Дубровина. Ну и, само собой, МВД берет на себя финансирование Союза.
Буквально через пару дней после манифеста 17 октября начальник тайной полиции Герасимов встречает Дубровина дома у Рачковского. Тот просит у Герасимова инструкций. Герасимов советует посылать своих активистов на революционные митинги — и вступать там в дискуссии, спорить, срывать оппозиционную пропаганду. Дубровин обещает, что так и поступит. (Но не сделает этого.)
Члены Союза русского народа принимают устав и начинают издавать газету «Русское знамя». Главный редактор — сам Дубровин. «Работали все и несли свой труд идейно, без ожидания какого-либо вознаграждения, благодаря чему Союз разрастался незаметно, но быстро, — вспоминает Дубровин, — волна оскорбленного чувства за поруганную Родину быстро разливалась по всему пространству униженной России, охватывала умы и сердца во всех слоях населения и привлекала к Союзу массу новых единомышленников».
Реформа или ловушка
Через пару дней после подписания манифеста новость о нем добирается до Женевы, столицы русской оппозиции. Лидеры самой мощной оппозиционной партии — Михаил Гоц, Евгений Азеф и Виктор Чернов — изучают свежий номер Journal de Genve с опубликованным царским манифестом. Чернов не верит, что все это всерьез. «Крупная уступка, — говорит он. — Видно, что давление всеобщей забастовки стало нешуточным. Приходится маневрировать».
Чернов не один так думает. Почти все эсеры в один голос говорят, что это «очередная хитрость, хладнокровно задуманная ловушка», «эмиграцию и подпольщиков в Россию заманивают», чтобы потом «всех разом сгрести и вымести с русской земли крамолу начисто»[58]. Не согласны только Гоц и Азеф. «Ты думаешь, что рад этакой полицейской цели, весь государственный строй России будут ставить вверх дном, потрясать всю Россию неслыханными новшествами, придавать бодрости всей оппозиции?» — спрашивает Азеф. Чернов же настаивает на своей конспирологической версии: «Это маневр, но не грубо полицейский, а тонко политический». «Революционеров велено скрутить в бараний рог, а обществу обещают политические поблажки. Разделяй и властвуй: успокой оппозицию и при ее пассивности раздави революцию, а потом уже и с оппозицией делай что хочешь», — убежден Чернов.
Но Гоц не согласен: «Со старым режимом покончено. Это — конец абсолютизма. Это — новая эра». Более того, по его мнению, «с террором тоже кончено» — Боевую организацию пора ликвидировать.
Чернов согласен, что террор — это крайняя мера, он допустим лишь в странах неконституционных, там, где нет свободы слова и печати. Но, поскольку правительству верить нельзя — оно может и обмануть, — совсем распускать Боевую организацию нельзя, надо «держать ее под ружьем». Азеф не согласен — он считает, что в замороженном состоянии террористическая организация существовать не может: либо люди готовят теракт, хранят динамит, соблюдают дисциплину, либо они ничего не делают. Не имея конкретной цели, Боевая организация не выживет, лучше ее просто распустить.
За террор бьется один Савинков. Его товарищи даже начинают обсуждать возможность отколоться от партии и начать террор самостоятельно. Но Савинков решит подчиниться решению ЦК. Хотя и будет жалеть об этом позже.
Борису Савинкову всего 26 лет, он дисциплинированный член партии. Но у него есть младший товарищ — 25-летний Михаил Соколов по кличке Медведь. Он еще не успел принять участие в терроре, а только мечтал о нем. Его и таких, как он, решение ЦК партии не устраивает. Они решают начать собственный террор.
Чернова Гоц отправляет в Россию — открывать в Петрограде первую легальную газету партии эсеров. Спустя пару дней Чернов приходит прощаться с идеологом партии, который остается в Европе. У Гоца парализована вся нижняя часть тела, начинают отниматься руки. Жена Гоца включает граммофон, Чернов поет. У него «глупо-счастливое настроение». Незадолго до этого врачи, наконец, выяснили причину болезни Гоца — опухоль оболочки спинного мозга — и предлагают сделать сложнейшую операцию. Гоц соглашается — но они с Черновым не обсуждают проблемы со здоровьем. Они говорят только о будущем российской политики. «Так не хотелось — эгоистически не хотелось — портить собственную радость пессимизмом», — вспоминает Чернов.
«Тяжкое преступление, достойное смерти»
18 октября, на следующий день после манифеста, 32-летний большевик Николай Бауман собирается организовать в Москве шествие к Таганской тюрьме (где сам недавно отсидел 16 месяцев) под лозунгом «Разрушим русскую Бастилию». Собрав группу добровольцев в Немецкой слободе, Бауман берет извозчика и, размахивая красным флагом, едет в сторону центра города, выкрикивая «Долой царя!». Крики марксиста очень злят крестьянина Николая Михалина — он бросается к Бауману с куском арматуры. Запрыгивает в экипаж, наносит ему первый удар, Бауман падает на землю. Михалин спрыгивает и добивает его еще несколькими ударами по голове.
В тот же день Михалина арестовывают — в полицейском участке он ведет себя довольно самоуверенно и говорит, что будет убивать всех, кто ходит с красными флагами. Очевидно, Михалин состоит в одной из московских монархических групп.
Через полгода его признают виновным в убийстве и приговорят к полутора годам службы в арестантской роте. Консервативная газета «Московские ведомости» Грингмута будет возмущена приговором: «Все Русские люди чтут и любят Царя. Все согласны в том, что оскорбить Царя — это значит совершить тяжкое преступление, достойное смерти. Но в этот день московские интеллигенты и Иудеи были вполне безнаказанны. Начальство попряталось, — и сволочь с красными тряпками расхаживала по улицам, нагло насмехаясь над Русским народом… Не может Русский человек согласиться с дурацкими выдумками наших юристов-интеллигентов. Враг Царя, Царский оскорбитель в глазах Русских людей был, есть и будет тяжким преступником, достойным смерти, которому нет места на Русской земле. Не можем мы позволить, чтобы всякая интеллигентская шушера, всякий гнусный Иудей подкапывались под Царскую Власть и поносили и оскорбляли Божьего Помазанника».
«В этот день», о котором пишет газета, 18 октября, новость об убийстве распространилась быстро. Уже на следующий день к генерал-губернатору Москвы Петру Дурново приезжают глава Союза союзов Павел Милюков и земский деятель князь Шаховской (которого недавно принимал сам император). Обращаясь к нему «товарищ», они просят разрешить торжественные похороны убитого Баумана.
«Какой я вам товарищ?» — отвечает Дурново. Но шествие разрешает — более того, распоряжается удалить полицию, при условии что организаторы будут сами следить за порядком.
20 октября похороны Баумана становятся грандиозной политической манифестацией. Гроб несут от здания Технического училища (современный университет имени Баумана) до Ваганьковского кладбища. Море цветов и венков, толпы народу, революционные песни и антиправительственные речи на кладбище.
Уже затемно толпа начинает расходиться и идет обратно в город — около Манежа происходит стычка между участниками процессии и казаками, которые расквартированы в Манеже. Есть новые убитые. Возмущенная Московская городская дума принимает решение удалить из города всех казаков, а заодно и ликвидировать политическую полицию (против снова выступают только два члена городской думы, братья Гучковы).
Напряжение нарастает. Спустя несколько дней опубликован указ об амнистии — на свободу должны выйти все политзаключенные, кроме признанных виновными в убийстве. То есть амнистия не касается членов Боевой организации эсеров — например, Григория Гершуни и Егора Сазонова. Но отпустить должны тысячи заключенных по всей стране и особенно в Сибири.
В Москве, к примеру, «политические» содержатся в двух местах: в Бутырке и в Таганской тюрьме. В первой освобождение проходит гладко. А начальник Таганки тянет с выполнением амнистии — в итоге под стенами тюрьмы собирается многотысячная толпа.
Звонят губернатору Джунковскому. Он с трудом пробирается к Таганке — все улицы вокруг запружены людьми с красными флагами. Пройдя, наконец, внутрь, он обнаруживает, что указ об амнистии составлен в спешке — одна из важных «политических» статей в нем не упомянута. На всякий случай, чтобы прояснить ситуацию, прямо из тюрьмы Джунковский звонит в Петербург — премьер-министру Витте. Витте подтверждает, что это недоразумение и освобождать надо всех «политических». Уходя, губернатор слышит упреки со стороны заключенных-уголовников: «Как это, нас, верноподданных, не освобождают, эти же шли против царя, а их освободили».
Свинья, жаба и другие министры
При новых порядках российская столица превращается в совершенно другой город. Если совсем недавно Петербург был похож на призрак без света, движения и каких-либо признаков жизни, то теперь это карнавал — непрекращающийся митинг.
21 октября Петросовет выносит постановление: «Только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых не посылают своих номеров в цензуру» — и на следующий день столичные газеты выходят без одобрения цензоров. Те же, кто не решился на такое, просто не выходят — потому что профсоюз типографских работников отказывается их набирать.
Вчерашние диссиденты испытывают гордость, недавние охранители прячут глаза. Забастовка в Мариинском театре заканчивается хеппи-эндом — мятежные артисты балета победили. Зато те, кто подписали заявление о лояльности, опозорены. Балетмейстер Сергей Легат, который уступил требованию начальства, кончает жизнь самоубийством. Весь театр поражен. Сергей Дягилев пишет статью под названием «Пляска смерти», в котором обвиняет чиновников от культуры в смерти Легата.
В эти дни Дягилев знакомится с Максимом Горьким, они даже обсуждают идею вместе издавать художественный журнал. Удивительный альянс: эстет Дягилев до сих пор все свои проекты осуществляет либо на деньги государства, либо при существенной господдержке. А Горький — живой символ протеста, минувшей зимой он провел месяц за решеткой и все еще ждет суда. Правда, теперь все уверены, что этот суд не состоится.
Гражданская жена Горького Маруся Андреева становится издательницей — она теперь руководит журналом «Новая жизнь». Популярная актриса, конечно, чисто номинальный руководитель — на самом деле журнал становится первым легальным печатным органом друзей Андреевой — большевиков.
Осенью 1905 года из-за границы возвращаются политические эмигранты, на свободу выходят политзаключенные. Толпами приезжают швейцарские изгнанники: Виктор Чернов, Юлий Мартов, Владимир Ульянов, Петр Струве.
Для Струве 17 октября — особый день, рожает его жена. У нее уже начались родовые схватки, когда муж врывается в палату с криком «Нина, конституция!». Спустя пару дней он оставляет жену с новорожденным ребенком, закрывает никому уже не нужный эмигрантский журнал «Освобождение» и уезжает в Петербург. Он собирается продолжать выпуск журнала уже на родине.
Но начинает он не с редакционной работы, а с гастролей — Струве выступает с речами в разных городах и всюду говорит об опасности диктатуры, которая угрожает России: «Диктатура тех, кого именуют "черной сотней", и тех, кто себя именует "революционным пролетариатом"». Струве же считает, что «стране не нужна и противна всякая диктатура, она жаждет только права, свободы и хозяйственного возрождения».
Ленин в это время берет в свои руки «Новую жизнь», фактически изгоняя оттуда набранных Андреевой сотрудников. А Мартов начинает редактировать другую газету — она называется «Начало». Меньшевистская газета пользуется куда большей популярностью — в ней публикуется король столичного протеста, Перо Лев Троцкий. День за днем Троцкий призывает к народному восстанию. Главные герои его публикаций — Сергей Витте и Петр Струве. «Витте — агент биржи, Струве — агент Витте» — называется одна из его статей. Он не жалеет желчи для своих врагов, причем либералов, конечно, он обвиняет еще более страстно, чем правительство.
Уровень свободы слова запредельный. Прямо на Невском, у католической церкви Св. Екатерины, cтоит лоток, на котором свободно продаются вчера еще подпольные издания: женевские, парижские, лондонские, старые номера «Искры», «Революционной России», «Освобождения» — все что угодно. Главный борец с революцией полковник Герасимов в шоке. Остановившись возле прилавка, он долго роется в ассортименте и даже покупает что-то для личной коллекции.
Столичная пресса, освободившись от цензуры, вынуждена бороться за аудиторию с революционными изданиями. Возникает целая плеяда сатирических журналов, высмеивающих власть.
Особым развлечением для полковника Герасимова становится приносить министру внутренних дел Дурново подборку свежих карикатур: «Это — граф Витте, а вот это — в виде свиньи или жабы — это вы, ваше высокопревосходительство». Впрочем, на свои карикатуры министр не обижается, но страшно злится, когда высмеивают царя: такие журналы он всегда приказывает конфисковать. Этим он, конечно, только подстегивает спрос: «запрещенный» номер продают уже не по 5 копеек[59], а за рубль[60], два[61], а то и пять рублей[62].
Активный гражданин и активный полицейский
В «конституционном» Петербурге гражданское общество пытается брать на себя все больше функций — даже те, которые государство и не планировало им отдавать. Общественные организации начинают действовать фактически как параллельная власть. Петросовет принимает постановление о восьмичасовом рабочем дне, правда, добиться его выполнения ему не удастся. На страницах органа Петросовета — газеты «Известия» — обсуждаются вопросы о регулировании цен на продукты, снижении квартплаты для малоимущих.
Совет рабочих депутатов, например, формирует свою собственную «милицию», которая должна следить за тем, чтобы полиция не нарушала закон. Для начала уполномоченные Петросовета приходят инспектировать тюрьмы, чтобы проверить — выполнен ли указ об амнистии. Их пускают. Герасимов взбешен — и увольняет того полицейского, который пустил проверяющих.
Еще больше возмущает полковника ситуация, случайно подсмотренная им на улице: на Литейном проспекте человек с повязкой на руке подходит к постовому и что-то говорит ему. Полицейский, выслушав, идет за ним. Герасимов бросается следом и спрашивает, в чем дело. «Господин с повязкой» весьма охотно разъясняет: «Вот в этом дворе невероятно антисанитарные условия. Помойная яма давно не чищена и страшно воняет. Я предложил городовому немедленно принять соответствующие меры».
Герасимов в ярости. Он не может понять, на каком основании общество присваивает себе его власть: «Но, позвольте, кто вы такой?» — кричит он. «Я — представитель милиции, организованной Советом рабочих депутатов», — уверенно отвечает человек с повязкой. Герасимов требует от полицейского немедленно арестовать «представителя милиции». Но Герасимов в штатском — и полицейский не в курсе, что перед ним начальник тайной полиции. Он крутит пальцем у виска и спокойно идет за человеком с повязкой на рукаве — составлять протокол об антисанитарном состоянии двора.
Витте, желающий начать новую жизнь, совершенно не учитывает такого важного фактора, как настроение бюрократии. Ей никто не объяснил, каковы новые правила игры. И не факт, что она эти правила приняла бы. Тысячи людей (госаппарат в 1905 году — примерно 250 тысяч человек) искренне верят в то, что прежний порядок был правильный, и он их устраивал, а как действовать в этой новой ситуации, они просто не знают.
Полковник Герасимов с первых дней советует новому министру внутренних дел Дурново арестовать всех руководителей общественных организаций. «Ну, конечно. Если пол-Петербурга арестовать, то еще лучше будет, — шутит Дурново, у которого, конечно, тоже чешутся руки. Но он держится: — Запомните: ни Витте, ни я на это нашего согласия не дадим. Мы — конституционное правительство. Манифест о свободах дан и назад взят не будет. И вы должны действовать, считаясь с этими намерениями правительства как с фактом». Дурново очень старается соответствовать времени. Но многие — как, например, Герасимов — не хотят стараться. Они искренне не понимают нового курса и требуют арестов и репрессий.
Правительство Витте
Казалось бы, Сергей Витте достигает всего, чего хочет. Он сегун, великий визирь — как ядовито называют его враги из петербургского высшего света. Он обладает максимальной властью, которую когда-либо получал госчиновник в России. Он имеет возможность осуществить собственную программу реформ и, как председатель Совета министров, самостоятельно набрать себе кабинет.
Витте начинает искать себе министров. Но тут оказывается, что большинство известных общественных деятелей не хотят с ним работать. Сначала он вызывает Дмитрия Шипова, бывшего главу московского земства, первого лидера оппозиции. Затем — Александра Гучкова, крайне активного депутата Мосгордумы и наследника богатой купеческой семьи. Их обоих очень смущает кандидат на пост министра внутренних дел — одиозный Петр Дурново, работавший заместителем у трех последних министров. Потом Витте встречается с представителями земского съезда (в том числе с князем Георгием Львовым, тем самым, который через 12 лет станет главой первого Временного правительства). Земцы чувствуют, что они на подъеме, что они, наконец, заставили правительство считаться с обществом, — и теперь требуют, чтобы власти продолжили реформы и созвали учредительное собрание. Потом Витте встречается даже с Милюковым — тот советует ему не составлять правительство общественного доверия, а собрать технократический «деловой» кабинет.
Витте встречается с владельцами СМИ, чтобы посоветоваться, — и издатель популярнейшей «Биржевой газеты» в лицо говорит ему, что с ним никто не хочет сотрудничать, потому что никто ему не доверяет.
Очевидно, что в атмосфере внезапной свободы слова Витте вовсе не выглядит привлекательной фигурой. Все потенциальные министры сторонятся его, потому что даже переговоры с Витте — удар по репутации. Кроме того, либеральные политики считают, что сила на стороне общества и они могут диктовать условия правительству. Популярность Петросовета, Троцкого, левых газет «Начало» и «Новая жизнь» тоже постепенно растет; социал-демократы, конечно, пока не могут тягаться с лидерами кадетов, но постепенно публика становится более радикальной, чем была год назад. Левые входят в моду, никто не хочет запятнать себя публичным рукопожатием с Витте.
Все, кто встречает Витте в этот период, вспоминают его в крайне нервном, уставшем, почти неадекватном состоянии. Очевидно, премьер-министр работает едва ли не круглосуточно, не может найти людей, которые бы его устраивали, и очень недоволен всем вокруг. По словам московского губернатора Джунковского, огромный стол в кабинете Витте «завален бумагами, а весь пол устлан в беспорядке брошенными конвертами». Видно, что граф Витте сам вскрывает бумаги и письма и, прочитав, бросает на пол. И это еще довольно дружелюбная оценка — другие вспоминают несвежие воротники, мятые галстуки и прочие признаки усталости и переутомления. В воспоминаниях Витте будет жаловаться на либеральную интеллигенцию, особенно на профессуру и земцев. Если бы она не оттолкнула его предложение, все могло бы пойти совсем по-иному, сетует он. Впрочем, и либералы будут потом вспоминать это как уникальный потерянный шанс.
Среди кадетов начинается раскол: некоторые члены Союза освобождения, которые из-за забастовки не доехали до учредительного съезда, теперь обвиняют Милюкова в рейдерском захвате. Другие начинают ссориться из-за отношения к манифесту 17 октября — часть либералов считает, что принимать манифест ни в коем случае нельзя, а надо стремиться к провозглашению России республикой.
Московские купцы — одни из немногих, кто полностью поддерживает манифест 17 октября. Рябушинский вспоминает, что большая часть его товарищей считает, что цель достигнута. Более того, предприниматели создают политическую партию, которая должна поддерживать реформы Витте. Она получает название «Союз 17 октября». Лидером становится представитель богатой старообрядческой купеческой семьи и одновременно один из самых активных депутатов Мосгордумы — 43-летний Александр Гучков (отказавшийся, впрочем, быть министром у Витте). У 34-летнего Павла Рябушинского намного меньше политического опыта, но он избран в ЦК партии.
Кадеты остаются в оппозиции Витте, но одновременно критикуют и Советы, которые вслед за Троцким продолжают стремиться к «перманентной революции». Разочаровавшийся в марксизме Струве считает бывших товарищей популистами, называет Советы «унизительным зрелищем». Попытку Петросовета самовольно установить восьмичасовой рабочий день кадеты считают «преступлением перед страной».
С формированием кабинета Витте меняется вся архитектура власти. Уходит на второй план недавний фаворит императора Трепов. Николай II назначает его дворцовым комендантом — аналог нынешнего главы ФСО. Он теперь уже не единоличный посредник между страной и царем, а просто самый важный приближенный императора, отвечающий за его личную безопасность.
Но, пожалуй, еще более эпохальная отставка — уход самого влиятельного дяди царя, великого князя Владимира, того самого, которого считают виновником расстрела протестующих 9 января 1905 года. Но его отставка с Кровавым воскресеньем никак не связана — это результат семейной ссоры.
Двоюродный брат императора, великий князь Кирилл, женится на английской принцессе Виктории Мелите, которая за пару лет до этого с грандиозным скандалом развелась со своим первым мужем, изменявшим ей с мальчиком-слугой. Оскандалившийся муж Эрнст Людвиг, герцог Гессенский, — родной брат императрицы Александры. Именно поэтому Николай II и Александра не одобряют свадьбу Кирилла и Виктории, более того, наказывают его изгнанием. Взбешенный этим дядя Владимир демонстративно хлопает дверью. С этого начнется самая затяжная и самая драматичная вражда в царской семье: между Ники и Аликс, с одной стороны и дядей Владимиром, его женой Михень и их детьми — с другой. Эта вражда не забудется и через 12 лет, в 1917-м, когда дети великого князя Владимира (и Кирилл в том числе) войдут в так называемый заговор великих князей против Николая II.
Святой и бунт
Принятие манифеста — вовсе не конец кризиса. 23 октября обстановка накаляется до предела в Кронштадте, крупнейшем военном порту России всего в 30 км от Петербурга. Вечером матросы Кронштадта узнают, что комендант крепости арестовал 40 солдат за предъявление требований об улучшении положения. Моряки останавливают поезд с арестованными солдатами. В ответ конвой открывает огонь и убивает одного матроса.
Это становится сигналом к восстанию 12 флотских экипажей.
Потом восстание переходит в погромы лавок в городе. Большая часть жителей панически бежит из города. Утром 27-го числа уезжает и самый известный житель города — священник Иоанн Кронштадтский.
Николай II пишет в дневнике 27 октября: «В Кронштадте со вчерашнего дня начались беспорядки и разгромы. Добиться известий было трудно, так как телефон не действовал. Ну, уж времена!!!»
На следующей день восстание, начавшееся как политическое, перерастает в пьяный дебош. Матросы громят лавки и не предъявляют никаких требований.
Подавлением беспорядков в Кронштадте занимаются два генерала: Николай Иудович Иванов и Михаил Васильевич Алексеев — именно они через десять лет возглавят русскую армию и будут двумя самыми близкими к императору генералами в 1917 году. Но в 1905-м они пока мало известны широкой публике — оба только что вернулись с маньчжурского фронта. Они быстро справляются с пьяными моряками. Генерал Иванов использует свой зычный голос — он выходит к бунтовщикам и кричит во все горло: «На колени!» Оторопевшие от неожиданности матросы подчиняются. Полностью восстание удается подавить с помощью пулеметной команды и пехотного полка. Убиты 50 человек, ранено 200.
Уже на следующий день Николай II записывает: «Все успокоилось после серьезных беспорядков среди морских команд и артиллерии на пьяной почве». Но на этом история не заканчивается. После подавления мятежа Петросовет объявляет забастовку протеста, в которой участвует 140–160 тысяч человек. Забастовки в поддержку кронштадтских моряков проходят в Москве, Вильно, Харькове, Киеве.
76-летний отец Иоанн Кронштадтский остается в столице три дня — пока на острове все окончательно не успокоится. Либеральная пресса после этого долго высмеивает «народного батюшку», который убежал от восстания: в одной из газет публикуют карикатуру, на которой священник изображен верхом на осле, переходящем вброд Финский залив.
Удивительно, что как раз в этот момент, когда самый популярный священник России переживает, возможно, самые тяжелые дни своей жизни — фактически он вынужден бежать из дома, — другой претендент на роль духовного лидера, 36-летний Григорий Распутин, наслаждается первыми минутами триумфа. 31 октября император и его жена приезжают в гости к черногорским принцессам, Милице и Стане. И там знакомятся с новым протеже Милицы — «божьим человеком Григорием».
Знакомство производит на царскую семью огромное впечатление. Император и императрица, очевидно, пережили сильное потрясение — манифест 17 октября противоречит их убеждению о том, что власть дана царю Богом. Распутин тоже так считает — и в этом его особая ценность. Николай и Александра воспринимают его как истинного выразителя мыслей и чувств простого народа; он говорит им то, что они хотят слышать, и помогает пробить то «средостение» из чиновников и придворных (а также либералов и интеллигентов), которое отделяет царя от народа. Распутин, появившийся около императора, когда тот был наиболее близок к демократии, постепенно будет эту демократию для него заменять — он станет для Николая и гласом народа, и гласом Божьим; лучшей фокус-группой и самым надежным соцопросом.
Новые союзники
«Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на успокоение», — пишет Николай II матери про графа Витте. Действительно, никакого успокоения нет и в помине. Петросовет во главе с Носарем и Троцким раз за разом призывает рабочих к очередным забастовкам — они не достигают такого масштаба, как в начале октября, но и спокойной ситуацию не назовешь.
В конце октября премьер-министр Витте принимает делегацию рабочих, бывших активистов гапоновской организации. Рабочие просят его амнистировать Гапона и вернуть им 30 тысяч рублей[63], которые лежали на счетах организации. Витте обещает деньги вернуть и отправляет делегацию в министерство торговли. Про Гапона говорит, что все сложно. Нет сомнений, что старую рабочую группу премьер собирается использовать как контролируемого спойлера, с помощью которого он сможет бороться с Петросоветом. И вряд ли рабочие это понимают. Они пишут своему лидеру, что никакой новый «Рабочий союз» больше создавать не надо, лучше возродить прежние «Собрания». Гапон едет в Петербург. Правда, нелегально, по поддельным документам.
Город сильно поменялся с января. Гапона без рясы и без бороды здесь мало кто узнает (он очень переживает, пишет, что без рясы он как Самсон без волос). Бывший священник идет в здание Вольного экономического общества — туда, где, загримированный, он вместе с Горьким выступал перед толпой вечером 9 января. Теперь здесь заседает Совет во главе с Носарем. Там Гапон встречает старого друга — Петра Рутенберга, которого, в отличие от него, амнистировали. Рутенберг советует Гапону зайти в зал заседаний, подойти к Носарю, попросить слово и сказать: «Я — Георгий Гапон и становлюсь, товарищи, под вашу защиту». «И никто тебя не посмеет тронуть», — уверен эсер, и не придется скрываться, ждать амнистии.
Но Гапону этот план не подходит. С одной стороны, он не хочет быть на третьих ролях в Петросовете. С другой — он все еще опасается за свою жизнь, не зря же перед приездом в Россию он обсуждал с друзьями вопрос, не повесят ли его. Наконец, Гапон мечтает возродить именно свою организацию.
Но пока Гапон колеблется, ситуация очень быстро меняется. Забастовки не утихают. А 12 ноября приходят новости из Крыма — в Севастополе восстали команды боевых кораблей. Лейтенант Петр Шмидт сам себя произвел в капитаны второго ранга и объявил себя командующим Черноморским флотом.
В газетах об этом только обрывочные сведения — но ясно, что это смертельный удар по политике успокоения Витте. После принятия его манифеста стало только хуже. Все больше влияния набирает «силовик» при Витте — глава МВД Дурново. Да и сам Витте уже требует жестких мер.
Правительство издает указ, вводящий новые наказания за участия в забастовках: до полутора лет тюрьмы для рядовых участников и до четырех лет для организаторов. В Севастополь отправляют войска.
13 ноября Петросовет обсуждает вопрос о новой всеобщей забастовке — но не решается ее объявить. 14 ноября на предприятиях начинаются массовые увольнения — выгоняют больше 100 тысяч рабочих.
В этой ситуации для Гапона придумана другая роль. Витте решает, что заигрывать с петербургскими рабочими уже не обязательно — намного полезнее будут зарубежные связи бывшего священника. К Гапону приходит личный помощник Витте — бывший агент полиции Иван Манасевич-Мануйлов. Он обещает ему помочь воссоздать собственную рабочую организацию, даже дать на нее денег, но с одним условием. Гапон, хоть он уже и не так популярен в Петербурге, по-прежнему самый известный российский оппозиционер за границей. А правительству Витте как раз очень нужно получить крупный кредит — российская экономика трещит по швам, все переговоры с парижскими банкирами проваливаются. Гапон должен поехать в Париж и авторитетно заявить местным СМИ, что правительство Витте стабильно и эффективно, революции не будет, кредит давать неопасно.
Гапон соглашается. Ему выдают 500 рублей[64] на проезд, а потом и те самые 30 тысяч[65], компенсации которых требуют его товарищи. Правда, власти просят Гапона пока не афишировать выплату этих денег. И он соглашается. Он все еще уверен, что не Витте его использует, а, наоборот, он использует Витте. Одну тысячу из этих тридцати он сразу вносит в казну «Собраний». Остальные оставляет на хранение помощнику.
21 ноября происходит долгожданное торжественное мероприятие — второе открытие «Собраний петербургских фабрично-заводских рабочих». Приходит 4 тысячи человек, причем все они утверждают, что представляют не только себя, но и товарищей. Гапон счастлив — он снова лидер мощной организации. На открытие приходят Носарь и другие руководители Петросовета. Они, конечно, очень ругаются, потому что подозревают, что Гапон — спойлер. Но он себя таковым совсем не считает.
Враг справа
Открытие гапоновского клуба — не единственное важное событие в столице. 21 ноября происходит первый митинг Союза русского народа. Власти выделяют под мероприятие здание Михайловского манежа. В центре возводится помост для выступающих. Общее число участников неясно: сотрудник МВД Владимир Гурко считает, что около двух тысяч, а издатель черносотенных газет Павел Крушеван уверен, что есть и 20 тысяч.
Участники вспоминают, что обстановка напряженная, «в воздухе много электричества» и многие опасаются, что сразу после митинга участники пойдут что-то громить.
Погромы, которые то и дело устраивают монархисты и им сочувствующие, — оборотная сторона беспорядков осени 1905 года. В то время как марксисты ходят по улицам с красными флагами и призывают к забастовкам, по другим улицам ходят «правые» с хоругвями и портретами императора. Они, как правило, заставляют прохожих снимать шапки (иногда насильно), а кроме того, избивают тех, кто кажется им похожим на еврея или студента. Даже в Петербурге (а тем более в провинциальных городах) человеку в очках попадаться на глаза шествию хоругвеносцев небезопасно.
Такая репутация отталкивает от монархического движения многих. Накануне митинга 21 ноября доктор Дубровин и его друзья приходят к петербургскому митрополиту Антонию — они просят благословить знамена и хоругви Союза. Но митрополит не собирается быть любезным с черносотенцами — пусть даже за ними стоит МВД. «Правым вашим партиям я не сочувствую и считаю Вас террористами, — говорит Дубровину митрополит Антоний, — террористы-левые бросают бомбы, а правые партии вместо бомб забрасывают камнями всех с ними не согласных». И прогоняет «союзников». Дубровин очень обидится — и не забудет митрополиту этого оскорбления.
Митинг 21 ноября, впрочем, проходит без инцидентов. Выступают сам Дубровин, известные публицисты-монархисты, два епископа. Все считают, что многолюдный митинг в поддержку власти в разгар революции — это успех. 27 ноября начинает выходить газета Союза русского народа — «Русское знамя». Главный герой каждого номера газеты — премьер-министр Витте, граф Полусахалинский, объект жгучей ненависти Дубровина и его единомышленников. Требование отставки Витте — рефрен едва ли не каждой публикации «Русского знамени». Союз получает деньги от правительства — но это вовсе не мешает ему возглавлять борьбу против премьер-министра.
Доктор Дубровин развивает небывалую активность — он встречается, наверное, со всеми чиновниками, которые недовольны Витте, и предлагает им свои услуги. В начале декабря Дубровина принимает великий князь Николай Николаевич, который еще полтора месяца назад умолял императора принять проект Витте, а теперь горько раскаивается в этом. «Витте, побуждаемый жидами, ведет к революции и распадению России», — увещевает великого князя доктор Дубровин. Николай Николаевич обещает договориться о встрече Дубровина с правой рукой царя — Треповым[66].
У премьера совсем не остается сторонников. Почти вся либеральная часть общества так или иначе оказывается под влиянием революционеров, а те консервативные чиновники, которые еще вчера поддерживали Витте, сегодня все больше прислушиваются к Союзу русского народа.
Конец Советов
25 ноября Гапон, в соответствии с договоренностью, уезжает в Париж. А на следующий день арестовывают председателя Петросовета Носаря-Хрусталева. Новым председателем Совета становится его заместитель Лев Троцкий. Полковник Герасимов требует арестовать весь Петросовет, но Дурново все еще боится, что это обострит ситуацию.
На самом деле ситуация почти не меняется — Троцкий по-прежнему руководит Петросоветом и готовится к вооруженному восстанию. В эти дни ему исполняется 26 лет — он один из самых молодых и энергичных революционеров. Он напоминает Гапона год назад — мгновенно принимает решения, ни секунды не сомневается в собственной правоте и заражает этой уверенностью остальных. Более опытные лидеры теряются на его фоне. Мартов с первых же дней своего возвращения в Петербург жалуется, что «не может справиться с мыслями». Ленин тоже смотрит на происходящее со стороны — он пишет в «Новую жизнь», но к Петросовету никакого отношения не имеет. Когда при нем говорят о том, что Троцкий — самый яркий лидер революции, он мрачнеет, но признает, что «Троцкий завоевал это своей неустанной и яркой работой».
Исполком Петросовета обсуждает, чем ответить на «взятие правительством в плен товарища Носаря», — и принимает так называемый Финансовый манифест. Он призывает население забирать вклады из сберегательных касс и требовать при всех денежных расчетах, включая выдачу зарплаты, выплаты суммы золотом. Это должно было истощить золотой запас Госбанка и ускорить финансовую катастрофу правительства. К этому моменту отток денег из сберкасс идет полным ходом и без призыва Петросовета, к началу декабря золотой запас Госбанка сократился на 250 миллионов рублей[67].
Впрочем, Герасимов вспоминает, что вовсе не у финансиста Витте в этот момент сдают нервы, — новый министр юстиции Михаил Акимов (шурин главы МВД) случайно оказывается свидетелем спора между главой тайной полиции и министром внутренних дел о том, кто готов взять на себя ответственность за арест Петросовета. Он вмешивается в их разговор — и выписывает ордер, который не решается согласовать его зять Дурново.
2 декабря восемь газет публикуют Финансовый манифест — их тиражи изымают, газеты закрывают. Среди прочих закрыты и «Новая жизнь» Ленина и Марии Андреевой, и «Начало» Мартова и Троцкого, и «Народная свобода» — новая кадетская газета, которую редактирует Милюков.
На следующий день полиция окружает здание Вольного экономического общества, где заседает Петросовет. Офицер заходит с ордером, но председательствующий Троцкий не дает ему слова: «Пожалуйста, не мешайте оратору. Если вы хотите выступить, сообщите свое имя, и я спрошу у совещания, желает ли оно вас выслушать». Растерявшийся офицер ждет окончания выступления. Затем зачитывает ордер. Троцкий говорит, что Петросовет примет это к сведению, и просит офицера покинуть зал. Тот идет за подкреплением. Сам Троцкий, правда, вспоминает другую историю — перед арестом, узнав, что здание окружено войсками, он приказывает: «Сопротивления не оказывать, оружия врагу не сдавать». И по его команде депутаты с диким скрежетом начинают ломать свои револьверы и бросать их на пол.
Французская рулетка
Накануне ареста Петросовета Витте приказывает напечатать тысячным тиражом обращение Гапона к рабочим: «Стой, пролетариат — осторожней — засада! Ни шагу вперед, ни шагу назад. Резким шагом вперед не вызывай темного и озлобленного реакционного чудища. Избегай крови… жалей ее… и так ее достаточно пролито». Удивительный поворот — только в январе Трепов привозил к царю делегацию рабочих в противовес шествию во главе с Гапоном, теперь же Витте хочет использовать самого Гапона как противовес Петросовету.
Гапон тем временем дает запланированные интервью французской прессе. «Сегодня политика господина Витте, по крайней мере частично, удовлетворяет требованиям русского народа… — говорит Гапон в интервью Le Matin. — Политика Витте страдает нерешительностью, поскольку он пытается примирить фундаментально противоположные партии: придворную, революционную и промежуточную — партию буржуазных конституционалистов. Он ищет поддержки у всех и не получает ни у кого. Однако если либералы согласятся помочь ему, когда он попросит их принять участие в формировании кабинета, мы не станем свидетелями экономического краха, который угрожает России. Хотя Витте отказался амнистировать меня, я изменил прежнее дурное мнение о нем. Думаю, что он единственный стоящий человек, который у нас есть, единственный, кто может спасти нас. Если революционеры найдут с ним общий язык, это может быть основой освобождения России».
Собственно, это довольно трезвый анализ ситуации — куда более умеренный, чем даже у либерала Милюкова. Удивительно, как изменились взгляды Гапона всего за пару месяцев. Теперь он звучит примерно как октябрист Гучков — объясняет, что очень важно отказаться от всех прежних планов вооруженного восстания (оно «спровоцирует ужасающую реакцию»), а также снять ряд требований — в том числе о восьмичасовом рабочем дне («сейчас Россия к этому не готова — это разрушит промышленность и вызовет страшный голод»).
Две недели спустя он устраивает неформальную пресс-конференцию: приглашает корреспондентов сразу нескольких газет — и русских, и французских — на завтрак в ресторан, чтобы опровергнуть обвинения, будто он работает на Витте. «Мне что Витте, что Дурново — все едино, но я говорю, что при Витте писать и говорить можно, а при Дурново будет хуже. Интерес наш, чтобы у власти был Витте, а не Дурново. Вот и всё. А мои сношения с Витте — вздор. Я хочу, чтобы нашим рабочим организациям вернули взятые деньги и имущество», — уверяет Гапон.
В качестве лидера оппозиции в изгнании Гапон становится вновь очень востребован. После ареста членов Петросовета его приглашают на всевозможные мероприятия, посвященные ситуации в России: зовут в парламент, он встречается с лидером социалистов Жаном Жоресом, с писателем Анатолем Франсом.
Оттуда Гапон уезжает на юг Франции — он стремится вернуться в Россию, жаждет быть официально амнистированным, а посредник в переговорах с Витте, Манасевич-Мануйлов, назначает ему встречу в Монте-Карло. Вскоре в российских бульварных газетах напишут, что Гапона видели играющим в рулетку — как раз во время кровопролитного восстания Москве.
Восстание детей
Ни в Петербурге, ни в Москве воззвания Гапона ни на кого не производят впечатления. Их просто не успевают напечатать. Московский совет рабочих депутатов, в отличие от Петербургского, еще на свободе — и его члены решают призвать ко всеобщей забастовке, переходящей в вооруженное восстание, — ровно так в листовках, которые разбрасывают по городу, и написано. С этого момент Москва становится ареной решающего противостояния.
Московский протест — это юношеское безумие. Один из членов Моссовета, эсер Владимир Зензинов, вспоминает, что решение начать восстание — не продуманное, а исключительно эмоциональное. Никаких шансов на успех у московской молодежи нет. Это студенты и молодые рабочие, вооруженные в основном «дрянными револьверами», которые так возбуждены происходящим, что считают просто необходимым принести себя в жертву революции. Самому Зензинову в декабре 1905-го 25 лет, но многим революционерам еще меньше.
Еще не существуют никаких соцсетей, интернета, мобильной связи — даже обычный телефон доступен далеко не всем. Но тысячи 20-летних москвичей наэлектризованы, под воздействием газетных новостей и разговоров со сверстниками они готовы идти на смерть — и рвутся это сделать. Даже спустя годы Зензинов будет сравнивать декабрьскую бойню в Москве с детской шалостью: «Можно было отметить странную особенность этих дней — даже тогда, когда кровь уже пролилась, — это какое-то детское задорное веселье, разлитое в воздухе: казалось, население ведет с властями какую-то веселую кровавую игру».
Безоружные юноши и девушки весело разоружают городовых. Те не сопротивляются. Вот пример, который вспоминает эсер Зензинов:
— Гражданин, ваше оружие!
— Мне мой револьвер дорог, как память, — я не хотел бы с ним расставаться…
— Нам сейчас оружие нужнее. Дайте ваш адрес. Когда револьвер нам больше не будет нужен, вы его получите обратно.
В Москву приезжает Горький вместе с женой — в письме своему бизнес-партнеру Константину Пятницкому он описывает происходящее скорее как хулиганское народное гуляние: «Черными ручьями всюду течет народище и распевает песни. На Страстной разгонят — у Думы поют, у Думы разгонят — против окон Дубасова поют. Разгоняют нагайками, но лениво».
7 декабря начинают бастовать железные дороги, почта и телеграф, трамваи, все заводы и фабрики Москвы, не выходят газеты. Отсутствие новостей порождает панические разговоры: популярен слух о том, что черносотенцы начинают истреблять интеллигентов. Но все черносотенцы, конечно, сидят по домам.
8 декабря десятитысячный митинг собирается в саду «Аквариум». Полиция окружает сад, на выходе обыскивает участников митинга и арестовывает тех, кто вооружен. Впрочем, митингующие не хотят сдаваться — большинство перепрыгивают через забор и прячутся. Митинг заканчивается бескровно, но по городу идут слухи о том, что собрание в «Аквариуме» расстреляно. Молодые революционеры во главе с эсером Зензиновым решают отомстить — бросить бомбу в окно здания московской тайной полиции. Бросок точный — взрывом сносит крышу, здание сгорает дотла. Вместе с находившимся там дежурным. С этого момента игра заканчивается.
Товарищи Зензинова, лидеры партии эсеров, в это время находятся в Петербурге — они готовят вооруженный мятеж в столице. Руководителем восстания Азеф назначает Бориса Савинкова — тот вернулся в Россию, живет на Лиговском проспекте и удивляется, что его никто не арестовывает. Он почти не скрывается, даже в газете публикуется под настоящим именем. При этом он видит, что жители города совсем не хотят никакого восстания — даже сил на очередную забастовку у них нет.
Все еще пытаясь сколотить будущую армию революционеров, Савинков идет на заседание районного боевого отряда, которым командует Рутенберг. Сначала эсер, друг Гапона, произносит пламенную речь. Все воодушевлены. Потом слово берет Савинков — и говорит, что ему надо понять, на какую борьбу готовы жители.
Есть три вида борьбы, говорит он. Первая группа добровольцев может заняться индивидуальным террором: напасть на дом Витте, взорвать правительственные здания, убить кого-то из высших военных чинов. Вторая группа может стать частью революционной армии: направиться в город и попробовать захватить Петропавловскую крепость. Наконец, третья группа может остаться и защищать квартал. Абсолютное большинство готово записаться в третью группу — но не участвовать в восстании или терроре.
Московская бойня
Поздно вечером 6 декабря министр внутренних дел Петр Дурново узнает о том, что Моссовет печатает листовки с призывом ко всеобщей забастовке и вооруженному восстанию. Он решает не тревожить своего непосредственного начальника Сергея Витте, а звонит сразу в Царское Село — разбудить царя. Тот вызывает его к себе к семи утра — и поручает принимать самые решительные меры: «Ясно, что или мы, или они. Дальше так продолжаться не может. Я даю вам полную свободу предпринять все те меры, которые вы находите нужными».
Дурново дает Герасимову отмашку: можно начинать массовые аресты. Тот счастлив: в воспоминаниях он с гордостью пишет, что на самом деле начал готовиться к репрессиям сразу после манифеста 17 октября. В первый же день в Петербурге арестовано 350 человек, на следующий день 400. Арестовывают в том числе людей случайных — например, забирают в тюрьму 24-летнего адвоката Александра Керенского, который пока не имеет никакого отношения к революционерам (он хотел вступить в Боевую организацию эсеров — но его не взяли). Через 12 лет уже Керенский выпишет ордер на арест полковника Герасимова.
Когда премьер-министр Витте просыпается 7 декабря, он не может поверить своим глазам. Он проспал собственную власть. За ночь император, Дурново и Герасимов все решили без него.
Но главные события происходят в Москве. Генерал-губернатор Дубасов просит у великого князя Николая Николаевича подкрепления — тот отвечает, что свободных войск у него в Петербурге нет. Тогда Дубасов начинает войну своими силами.
Война идет в самом центре города. Баррикады повсюду: на Тверской, на Арбате, на Сретенке, на Триумфальной площади, у Никитских ворот, на Патриарших прудах… Квартира Горького находится на Воздвиженке, но он бегает по всему городу и записывает впечатления. Горький в восторге: «Публика настроена удивительно! Ей-богу — ничего подобного не ожидал! Деловито, серьезно — в деле — при стычках с конниками и постройке баррикад, весело и шутливо в безделье. Превосходное настроение!» Горькому 37 лет, но он тоже заражен юношеским революционным азартом, его совершенно не смущает смерть людей: «Все сразу как-то привыкли к выстрелам, ранам, трупам. Чуть начинается перестрелка — тотчас же отовсюду валит публика, беззаботно, весело. Бросают в драгун чем попало все кому не лень. Победит, разумеется, начальство, но — это ненадолго!»
Дубасов продолжает настаивать на подкреплении — он просит 15 тысяч. Солдат, расквартированных в столице, только 5 тысяч, и он считает, что этого мало. 15 декабря присылают свежие войска — Семеновский полк, отличившийся при подавлении недавнего мятежа в Кронштадте. За день до этого Дубасов привлекает еще и добровольцев из Союза русского народа. В Москве идет настоящая гражданская война.
Тактику восставших сейчас назвали бы террористической — они прячутся в жилых домах и обстреливают солдат из окон или с крыш, а потом убегают дворами и переулками. Те отвечают артиллерийским огнем. Большая часть погибших — конечно, мирные жители. Симпатии большинства москвичей — на стороне революционеров. «Вместо того, чтобы истребить врага, приводят в нищету и выгоняют на мороз ни в чем не повинных жильцов! Население терроризируется и озлобляется, а революционеры, конечно, нисколько не боятся и перебегают себе из дома в дом, — пишет в дневнике публицист-монархист Лев Тихомиров. — Мне жаль только гибнущих жителей, солдат и самих революционеров. За что столько крови? Для сохранения губящей Россию неисцелимой язвы?»
Еще более откровенен глава петербургской тайной полиции Герасимов: «Что было самым опасным в это время — эти революционные партии находили активную поддержку среди всего населения, даже в таких слоях его, которые, казалось бы, ни в коем случае не могут сочувствовать целям этих партий. Мы, на ком лежала задача охранения основ государственного порядка, были совершенно изолированы и одиноки. Тяжело признаваться, мне редко приходилось встречать людей, которые были бы готовы из убеждения, а не для извлечения материальных выгод (таких людей было немало!), оказывать нам активную поддержку в деле борьбы против революции. А революционеры, которые стремились не только свергнуть правительство Царя, но решительно боролись против самых основ существующего строя, всюду встречали поддержку и сочувствие». Герасимов — искренний монархист, такова его система ценностей: интересы всего населения для него куда менее важны, чем личность императора и преданность ему.
Общее число погибших неизвестно — газеты сообщают о двух тысячах раненых и 424 убитых, но эти цифры могут сильно отличаться от реальности. Почти всю неделю москвичи живут без какой-либо информации. В городе ходят фантастические слухи, например, говорят, что истинная цель революционеров — выманить из Петербурга как можно больше войск, чтобы устроить там восстание и свергнуть правительство. Если бы москвичи знали, что у молодых революционеров не было вообще никакой цели, — они бы не поверили. Родственники случайных жертв и жители кварталов, разрушенных артиллерийским огнем, хотели придать произошедшему хоть какой-то смысл. И вряд ли они поняли бы такое объяснение молодого Зензинова: «Бывают положения, когда люди идут в бой без надежды на победу — это был не вопрос стратегического или политического расчета, а вопрос чести: ведь так в свое время действовали и декабристы, пошедшие на верную гибель».