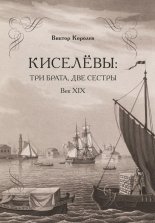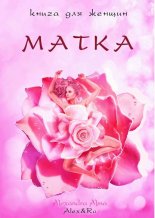Индульгенции Солнцев Иван

Дисклеймер
Все упомянутые ниже в авторской речи, речи персонажей и иных частях текста события, а также имена, фамилии, отчества, названия торговых марок, адреса и иные имена собственные являются вымышленными. Любые совпадения с реально существующими лицами, местами, названиями и торговыми марками, а также совпадения событий в сюжете произведений с реально происходившими событиями совершенно случайны, и автор не несет ответственность за возникающие на почве этих совпадений домыслы.
Автор не признает за собой безусловное согласие с мнениями и суждениями тех или иных персонажей, в том числе – при ведении повествования от первого лица, и не осуществляет никаких призывов к тем или иным действиям, а только представляет картину повествования.
Также автор не считает допустимым повторение в реальной жизни тех или иных негативных (в том числе противозаконных) опытов персонажей и не несет ответственности за субъективное восприятие читателем изложения данных полностью вымышленных событий.
Напоминание
extra infernum post mortem est non terribilis.
externa inferno post mortem nihil.
infernum intra cum vita est terribilis.
verum infernum intra in vita.
МЕЖДУ СЕКУНДАМИ
Саша
…но не могу рассмотреть, как ни пытаюсь, и текст кажется лишенным явного смысла.
Лишь острые углы. Они видны отчетливо.
Я впервые понимаю, что вся эта комната тоже полна острых углов.
Отрываюсь от экрана ноутбука. Ложусь на кровать.
Мир открывается мне заново, и он полон острых углов. Один угол ярко освещен. Торшер из IKEA. Я лежу на большой кровати из IKEA. Живу в мире из IKEA. Но это ни для кого не новость. Для вас точно. Вы же со мной в этом мире? Я не одинок? Правда? Вроде как вы киваете.
Спасибо.
Тьма на миг.
Мир снова настежь, и другой угол затемнен. Это мой дом. Я закрываю глаза, а когда открываю, мне кажется, что я потерялся, и вокруг – белая бесплодная пустыня. Белые панели, белые поверхности. Целый белый мир, сосредоточенный в трех взглядах. В каком-то шоу говорили, что видеть белые вещи вокруг после пробуждения – это здорово, и это побуждает к жизни. Но советы дает тот, кто не умеет делать то, что советует. Целый белый мир. Видите? Только представьте на миг. Только не уходите сейчас. Мне стало жутко одиноко в этом белом, избыточно чистом, слишком часто прибираемом мире.
Добро пожаловать. Это мой дом. В последние несколько месяцев это становится для меня открытием. Как и периодические вспышки странной, необъяснимой тревоги. Я слышу, как длинными, злобно шипящими щелчками отрабатывают свое в прихожей настенные часы, которые нам с женой подарила теща. Они вроде как очень дорогие, хотя я хотел бы их сжечь или просто сбросить с обрыва где-нибудь в Сьерра-Леоне, чтобы забыть, как страшный сон. На кухне льется вода. Там моя жена Соня что-то готовит. Настя – моя маленькая дочь, – уже спит в своей кроватке. Который день все это начинает казаться странным, поделенным на несвязные фрагменты, лишенным смысла, как и та самая необъяснимая тревога. Но всякий раз уже спустя несколько секунд, я одним усилием воли возвращаюсь в привычную реальность. Вам плевать, я знаю. Вам уже наскучило мое нытье. А еще – вас не существует. Поэтому, мне тоже плевать. В моем мире есть только я, белая тишина и IKEA. И тревога, которую я пытаюсь окрестить необъяснимой, потому что боюсь признаться себе, что для нее есть вполне себе осязаемый повод. Один-единственный.
Я в ванной. Споласкиваю лицо ледяной водой. Я вернулся, но на этот раз ощущения реальности происходящего добавилось не так много, как хотелось бы. На улице – омерзительно-нежный околонулевой холод. Обещали снег, но через окно на кухне видно лишь беспросветную асфальтную серость двора этой растянутой в длину новостройки и бездонного неба.
На моей кухне суетится призрак женщины, которую я любил. Мой мир рушится, когда я ее вижу. И строится заново. Слишком быстро. Я зажмуриваюсь от скорости, но что-то вынуждает меня открыть глаза.
Черт, этот белоснежно-белый мягкий халат! Она в нем действительно смахивает на призрака. Посматривает на меня. Пытается улыбнуться. Круглолицая по своей природе, но изрядно похудевшая за последние месяцы. Не знаю, почему. Терапевт и невропатолог говорят, что с ней все в порядке. Только психика немного подустала, но затяжной декрет – такое дело. Не каждому по зубам. Соня любит своего ребенка. Свой декрет. Свой дом. Хочет второго ребенка. Второй декрет. Второй дом? Там, на малой родине, откуда нынче планирует перебраться сюда чуть ли не вся ее семья? Эти намеки меня раздражают, но они поступают от нее, тут уж никуда не деться.
– Что-то мы совсем припозднились. Ко скольки тебе на работу?
Вздыхаю. Призрак ожил и воплотился в нее.
– К восьми или восьми-тридцати, – потираю шею; сажусь за стол. – В общем, нормально. Ты как?
– Отлично, – улыбается. – Руки помыл, крошка моя?
Изображаю ответную улыбку. Когда привыкаешь врать, отношение к миру меняется. Впрочем…
А вру ли я?
Неужто, я хотел бы что-то изменить? Хотел бы жить не здесь? Хотел бы жить не с ней? Абсурд. Между двумя вариантами не выбирают дважды. Во всяком случае, я не выбираю. А вы? Вы-то как? Обиделись на мою демонстративную неоднозначность? Ну, и черт с вами. Я и один проживу. С Соней. Потому что это мой выбор. И все эти тревоги, знаете… Это просто чушь.
Но почему в последние дни мир периодически сжимается вокруг меня? Самым главным боссом компании мне назначена командировка в Москву с проверкой и переговорами, и при одной мысли об этом, желудок сжимается и присыхает к позвоночнику. Куда угодно, только не в Москву, хоть в Петропавловск-Камчатский – так я сказал бы, будь моя воля. Но завтра все будет нормально. Наверняка. Уютная Соня укомплектовывает тарелки здоровыми овощами-гриль и полезным стейком лосося, и халат придает некоторый рельеф ее крошечной груди, едва поднявшейся перед кормлением, а я снова смотрю в окно, и во двор въезжает красный «гетц» и неровно паркуется сразу на два места, и из него вылезает высокая длинноволосая растрепанная девица, которая, мне кажется, не живет здесь, а просто…
Соня
…и открываю глаза и сразу смотрю направо. Пустое место. Почему я не встала раньше? Вот дура! Господи, почему?
Тихо. Даже в мыслях – не кричать. Настюшка еще спит. Это здорово. Мне трудно поднять голову с подушки, но я должна. Немного кофе – и все будет в порядке. На сегодня столько планов! Неужто я все успею?
На кухне неприятный запах. Легкий, но заметный. Я чувствительна к таким вещам. Очень. Некоторые мамаши живут с ребенком в квартире, где воняет мусором. Пара моих знакомых – такие. Это отвратительно. Оправдываться занятостью и жить на помойке просто потому, что тебе лень вынести лишний раз мусорное ведро. Приоткрываю стеклопакет. Город проснулся. Неестественный шум. Словно бы эти звуки извне всегда есть, но разобрать их, разделить на части невозможно. Тоненький кашель из детской. Настя проснулась. Теперь день точно начался. Успеваю включить кофемашину и иду в спальню.
Только покормив и усадив за игрушки дочурку, добираюсь до вибрировавшего недавно мобильника. Он написал? Пожелал мне доброго утра? Напомнил, как меня любит? Хотя бы спросил, что вечером купить по дороге домой? Господи…
Ничего.
Ноль.
«Ваш номер выбран для участия в розыгрыше…»
Я давно ничего не выигрывала в этой жизни. Все как-то со скрипом, с мучениями. Нонсенс ведь, правда – я вынуждена страдать за свое счастье. Почему он такой? Что с ним? Худшее, что у нас было, пережито, затерто, рассеяно по памяти. Вздорные мысли, странные поступки – нам ведь уже не до этого, правда, Сашенька?
«Как дела? Хорошо добрался?»
А что я еще могу написать? Этот козел ведь не может сам полюбопытствовать, да?
Нет, нет, я не должна так… Это сводит меня с ума.
«Все нормально. Как у вас?»
А тебя правда волнует? Хоть когда-то волновало? А?
Да, он ведь хороший отец. Я смотрю на фотографию в тоненькой магнитной рамке, прилаженную к левой дверце холодильника. Насте на ней два года, и она на плечах у отца. Он счастлив. Мне иногда кажется, что на этом фото он плачет от счастья. Его черные волосы. Его глаза…
Мне не хватает какой-то части его. Возможно, это связано с тем, что мы давно не были… ммм… вместе. По меркам семейной жизни – очень давно. Которую неделю ни мне, ни ему не до интима. Он напряжен и молчалив. Я не знаю, о чем говорить с ним, хотя пытаюсь заводить то одну тему, то другую. Выходит неловко, и мне даже стыдно его отвлекать – может, что-то серьезное происходит на работе, а я знаю, как щепетильно он к этому относится. Но он не должен закрываться от меня. Он и Настя – весь мой мир. Мир, за который я так долго сражалась. Но как только мне показалось, что пора почивать на лаврах, все опять начало расшатываться. Это все странно, и серое небо, почти сливающееся с раскинувшимся под ним огромным колодцем двора, полным эхо однообразных шумов, словно бы подтверждает мои догадки о том, что он сейчас думает не о том, как прикоснуться ко мне, а о своих – только лишь своих проблемах, которые он делает нашими, оправдывая этим тот факт, что я…
Юля
…глаза снова открыты, и бесформенные цветные пятна понемногу рассеиваются, становятся блеклыми, тают.
– Девушка, Вам помочь?
Мне даже не важно, кто это. И почему. Чем помочь?
– Спасибо, все в порядке, – отвечаю так сухо, как могу – почти агрессивно.
Каждый раз, сдавая анализы, я какое-то время сижу вот так на скамейке и чего-то жду. Просветления? Полного забвения? Не знаю точно. Что-то приказывает мне не торопиться и осмыслить происходящее, но рассудок отказывается осмыслять это. Защитные механизмы психики, страх сломаться. Я когда-то хотела учиться на психолога. Лет в пятнадцать. Когда мне казалось, что секс – это плохо, а красная помада – верный признак проститутки, как и длинный каблук. Забавная была девчушка, надо полагать.
Провожу рукой по голове, машинально поправляя волосы. На ладони остаются тонкие светлые локоны. Усмехаюсь. Мелирование что надо. Совершенно бесплатно. Вот только это уже за пределом. Это уже не мое. И даже этого я лишаюсь. Забавно, как далеко уходит жизнь, начиная забирать у тебя все. Никогда не знаешь, какой сюрприз следующий. Одно хорошо – я всегда знаю, как все кончится. И все знают. Но стараются забыть. А я почему-то не могу. Но я могу забываться, и поэтому встаю и шагаю к машине, чтобы отправиться в царство забвения.
По дороге на работу я цепляюсь покрепче за руль моего «ситроена», потому что ладони слишком влажные от пота и соскальзывают.
Паркуюсь. Почему-то ужасно раздражает выскальзывающая из-под мокрой ладони выпуклая ручка переключения передач. Когда выключаю зажигание, обращаю внимание на наличие в подстаканниках кучки каких-то фантиков, пары огрызков яблок, шелухи. И на запах, который я стараюсь считать привычным. Я нынче очаровательна. «Шестеренки» на руле словно бы указывают вверх, с усмешкой намекая мне на что-то, и я обещаю себе вырезать их канцелярским ножом при первой возможности. Но пока что следует хотя бы выбросить потемневшие огрызки. Вечером.
Сдавливает грудь. Немного откашляться. Заранее. Подальше от чужих глаз. Расчес на руке, под рукавом требует внимания, и я обещаю себе принять еще обезболивающего и «Супрастина». Возможно, оно поможет унять и зуд. Крем уже не справляется. Симптоматика – слабое утешение. Пустое место, когда вопрос стоит о возможности выздоровления. Впрочем, людям свойственно уходить в мелочи, в конкретику, в текущий момент. Если бы не это – мы бы знали только момент рождения и момент смерти. А так – жизнь полна сюрпризов. То ключом, то обухом.
Еще несколько месяцев назад я клялась себе, что это все не возьмет надо мной верх. Но попробуй-ка ты побудь сильной, когда нет ни единой секунды без боли. Даже во сне. Я не могу пить слишком мощные обезболивающие, потому что тогда превращусь в безвольное одноклеточное и не смогу вести даже те скромные дела, что веду сейчас. Не смогу тихо, неприметно работать по полдня и уходить, стараясь не споткнуться и не упасть больше ни разу в обморок прямо в офисе, где на меня давно смотрят, как на прокаженную. Проблема в том, что если я перестану туда ходить вообще, и на меня не будут так смотреть – все кончится гораздо быстрее. Я паразит офиса. Мне нужны его соки. Единственный неприятный нюанс в том, что многие уже стали это замечать, а кого-то это даже раздражает. Человеческого сочувствия, как и прочих эмоций, хватает совсем ненадолго. Дальше идут привычка и отторжение.
В перерыве я листаю инстаграм, чтобы попытаться разбередить память, но стойких ассоциаций даже с самыми теплыми кадрами не возникает. Изучаю нарезки фото в коллажах – с подругами, на море, в Барселоне, в Париже. Ленка прекрасна в этом прикиде из короткого топика и таких же недлинных шортиков, и я хорошо помню, как в Риме ее пытались снять примерно каждые пятнадцать минут – то итальянцы, то какие-то турки, то наши же туристы. Было весело, было много вина и много глупостей. Я бы хотела остаться там, в том лете, но сейчас вокруг бесснежная питерская зима, и остается только ждать, когда наступит тепло. А я уверена, что оно наступит, потому что я назаказывала кучу всякого дешевого барахла на «ибее» и «алиэкспрессе» – ведь с мной ничего не может случится до тех пор, пока это все не придет. Ну не бывает же такого, чтобы получатель не дождался свою посылку, правда?
Меня мутит по дороге домой, и я паркуюсь рядом с Макдоналдсом на «лиговке», чтобы немного отдышаться, а заодно вспоминаю сегодняшнее утро. А именно – момент, когда я сдавала «клинику». Ее нужно сдавать регулярно, для проверки изменений в структуре крови. Это помимо маркеров, каких-то мазков и прочей дребедени.
Кровь шла сегодня очень туго, словно намекая на то, что мы с девочкой-лаборанткой занимаемся сизифовым трудом, но я винила в этом не высокую свертываемость или свое состояние, а неумелую медработницу, которая давила изо всех сил, но не могла выдавить из меня нужный литраж.
Ну, ты еще отрежь мне палец и надави посильнее, дура!
Я хотела что-нибудь ей высказать, но вовремя поняла, что не права. Что она просто пытается делать свою работу и просто хочет, чтобы все быстрее закончилось. И претенциозных куриц и истеричек на грани жизни и смерти ей и так хватает. Не стоит мне становиться одной из таких полоумных.
Это были, кстати, последние пробы. Дальше в бой пойдет третья очередь тяжелой артиллерии. Первый сеанс должен быть назначен через день после результата анализов, если больше не будет вопросов. Только вот на большую часть вопросов и так уже найдены ответы, потому что первые две попытки дали крайне скромный эффект. Мой лечащий врач старается подавать все свои заключения под максимально позитивным соусом, но я лично вижу в этом попытки кинуть спасательный круг всплывшему телу.
Вечером я в очередной раз захожу на форум моих коллег-больных. Я делаю это нерегулярно, но достаточно часто. Поначалу я искала больше информации о своей болезни и о том, как люди справлялись с ней. Но спустя несколько недель я устала пробираться сквозь километры бредовых текстов умирающих людей, отчаянно доказывающих свое присутствие в мире живых. Теперь я заглядываю на эти форумы лишь для того, чтобы в очередной раз ощутить дикое отвращение от этих постов и снова понять, что со мной все еще в порядке, что я – не выеденная яичная скорлупа, заполненная по-новому несчастьем, а еще та самая Юля, у которой были обширные планы на жизнь, карьеру, любовь…
Что я – не конченая психопатка.
Что я – существую. Даже в том мире, где нет места ходячим мертвецам, не говоря уже о….
Саша
…и я отказываю ему в этом, и он уходит, понурив голову, чтобы продолжить биться в закрытые двери вместо того, чтобы попытаться найти к ним ключ. Никогда не понимал таких людей.
Вообще, в этой компании слишком много тех, кто привык сидеть на своем месте годами и просто ждать зарплаты. Сформированная за годы клиентская база и относительное уважение к имени компании, где я с недавнего времени назначен руководителем отдела закупки, в сообществе оптовых поставщиков должны становиться импульсом для развития, а становятся лишь гирей, привязанной к ногам коммерческого отдела.
Надежда одна – девочки-акулята из коммерции, работающие с топовыми клиентами. Вот они, маршируют на обед мимо моего кабинета в коротких шубках и пальто. Длинные каблуки, короткие юбки, облегающие платья, много штукатурки – весь арсенал для отключения головы партнера при проведении очередных переговоров и улаживании конфликтных ситуаций. Их задача – не только показаться клиенту, но и запомниться – для того, чтобы даже при телефонном разговоре образ, привязанный к конкретному менеджеру, маячил перед ним и не давал делать резких выводов и стратегически невыгодных нам шагов.
Впрочем, не на всех это действует. Периодически, когда оказывается, что заключение какого-нибудь договора конфликтует с политикой отдела закупки или проходит мимо него, чтобы впоследствии создать множество проблем с затариванием складов, но договор нужно заключать быстро, вертихвостки хотят усыпить мое внимание и отвлечь какой-нибудь болтовней. Но мое отношение к этому хорошо известно, и иногда меня даже удивляет, как они с визгом голодных чаек раз за разом бьются об одни и те же скалы.
В такой атмосфере постоянного напряжения и борьбы с женским коварством проходит практически каждый день. Главный плюс всего этого – возможность не думать о том, что ждет тебя вечером. Назначение на пост, стоящий плечом к плечу с должностью коммерческого директора компании, помогло мне обосновывать периодические задержки и более частые командировки. А это помогает поддерживать баланс, некое равновесие, благодаря которому дефицит времени, потраченного на мой мир IKEA, превращается в запас терпения ко всем нюансам этого мира. Так что я не завидую тем, кого работа губит и угнетает. Меня она просто спасет. А любовь к делу – симптом надвигающегося успеха. Не верите? А вы пробовали? Или убегаете из офиса в 18.00, чтобы потом возмущаться тому, как растут сидевшие еще вчера за соседним столом карьеристы?
Из-за того, что я отвлекся на ваш насмешливый взгляд, я снова вспомнил про Москву. Хотя не хотел о ней думать. Спасибо за намек, что уж там. Надо бы подготовить статистику товародвижения для поездки. Не беспокойте меня до вечера, договорились?
Открыв глаза после очередного усталого массажа висков и переносицы, я обнаруживаю, что уже половина восьмого. Не сказать, что это меня сильно расстраивает, но я обещал сегодняшний вечер – вечер пятницы, кстати, – провести дома, а сам даже не ответил на сообщения от Сони, и допускаю, что дома меня могут ждать моральные половник и скалка по голове.
Я сознательно не смотрю в окна до выхода из бизнес-центра, надеясь хотя бы на легкий снегопад, но на улице все та же грязная оттепель, только немного опустившаяся по столбику термометра. Отправив успокаивающую смску и запустив двигатель, я закрываю глаза, чтобы унять легкое жжение от длительного сидения в обнимку с монитором и вспоминаю одну из зим далекого прошлого. Мне всегда казалось, что зима должна быть именно такой.
Ноябрь, двор родительского дома на Типанова. Я выбегаю на улицу, сообщая всем вокруг о том, что выпал первый снег, и его крупные хлопья оседают на всем вокруг, делая мир похожим на одно большое облако. Я не ловлю снежинки ртом, как многие другие маленькие дети, а пытаюсь поймать их руками, и когда одна из них задерживается у меня на варежке, и я успеваю рассмотреть ее идеальную форму, я смеюсь от счастья.
Снега нет. Зимы нет. И счастья – того, которое давалось просто так, без ответственности и финансовой нагрузки, – тоже не стало. Можно убеждать себя сколько угодно в том, что теперь, когда источниками счастья стали поездки в далекие страны, удачный – не только для тебя, но и для партнерши, – секс и пьяное праздничное веселье, наступила настоящая, серьезная жизнь. Вот только до конца в этом убедиться невозможно. Потому что счастье это, построенное на фундаменте из оборотных средств и денег на вкладах, будет разрушено, стоит этим средствам упасть. И вот – ты уже намертво прикован ко всем этим источникам счастья, потому что без поездок по Шенгену и дальше тебя загнобят дома, без секса свихнешься сам, а без бухалова с нужными людьми выпадешь из тусовки, благодаря участию в которой тебе доверяют ответственные посты. Happiness seems to be loneline-e-ess.
– Что случилось?
Это даже слишком ожидаемо. Где-то в параллельном мире тебя встречают дома приветствием, поцелуем и вопросами, как прошел день. В моем мире это стало редкостью. Более частыми стали тревожные всплески руками и категоричные вопросы.
– Засел за подготовку документов, не заметил, как прошло время, – машинально выдаю заранее заготовленный текст, скидываю на вешалку пиджак и ухожу в комнату, на ходу расстегивая рубашку.
– Ну, куда там предупреждать меня об этом, – Соня не решается последовать за мной, хотя я слышу, как бы ей этого хотелось.
А мне хотелось бы швырнуть эти серебряные запонки куда-нибудь подальше, но я аккуратно кладу их в надлежащую коробочку и, ощутив внезапный отлив сил, обрушиваюсь на кровать. В незапамятные романтические времена, когда я приходил после невыносимо тяжелого дня домой и присаживался, чтобы перевести дыхание, Соня еще могла раз в месяц зайти в комнату, скинуть халат, обнаружив под ним корсет и чулки или просто чулки без каких-либо дополнений, а далее следовал или просто горячий – а потому и быстрый, – минет или скачки на мне до счастливого окончания. В последний раз нечто в таком духе было, пожалуй, года два назад. Трехлетний брачный период миновал, но оставил за собой шлейф проблем, которые развели меня и Соню по разным углам – это важно признать просто для того, чтобы быть честным с самим собой. Потеря одного вида близости уводит другой, и эта схема работает с любой стороны. Начинается фильтрация мыслей, сказанных слов, высказанных желаний. Все превращается в рутину. В белую рутину белого мира.
Но сейчас я бы и не ждал супружеской инициативы от Сони. Источник моей тревоги наверняка стал и источником ее беспокойства. Все было достаточно просто и предсказуемо проблемно. Вечером прошлой пятницы я вышел из квартиры в магазин и до машины, случайно оставив мобильник дома, причем на видном месте. Разумеется, именно в этот получасовой интервал на него поступил звонок от человека, которого я точно не ждал. После того, как трубку не взяли, последовало короткое сообщение.
«Перезвони мне. Нужно поговорить»
Вполне безобидное послание, если не учитывать его источника. В тот вечер Соня ничего мне так и не сказала, только странно поглядывала на меня время от времени, словно ожидая, что я расскажу все сам. Это было вполне в ее стиле – понимать, что я догадался о ее знании, и все равно ждать, что я буду подыгрывать и рассказывать правду от первоисточника. Когда мы смотрели очередной фильм на огромном экране телевизора, она сняла мою руку со своей груди и, пару раз коротко нервно улыбнувшись, села с другой стороны кровати. Прямая спина, устремленный сквозь экран взгляд – все намекало мне на то, что нам надо поговорить. Но я отказался. О причинах даже не спрашивайте – я их не знаю. Вы знаете? Ну, вот и сидите молча со своими догадками. Ваше мнение конкретно на этот счет меня мало интересует.
До этого вечера, как мне казалось, все было прекрасно – в рамках дозволенного для нашей поблекшей семейной жизни. И даже сама Соня и по сей день пытается изображать спокойствие. Но спокойствие ревнующей женщины – это бомба с часовым механизмом, на которой стоят часы без цифр. Тебе может сколько угодно казаться, что ситуация под контролем, ведь ты знаешь, где должны стоять цифры и видишь стрелки, но детонация произойдет далеко от твоих расчетов.
Я замираю, погрузившись в мягкий шум воды, и меня захватывает странная ассоциация с событиями прошлого. Когда я мылся, я погружал голову под воду, в ванную, и мама говорила: «Не надо так, наберешь в нос воды, захлебнешься!», но я все равно так делал. И прижимался лицом к подушке дивана, пока страх задохнуться окончательно не заставлял оторваться, и мама, замечая это, говорила: «Не делай так, задохнешься, плохо станет!», а я все равно продолжал. Она никогда не говорила «Ты умрешь», потому что детям нельзя так говорить. И поэтому я не понимал, что плохого в том, чтобы задохнуться или захлебнуться. И страсть к самоистязанию… В общем, эта страсть не проходит с годами. Желание причинять себе вред без осознания того, что его воздействие распространяется не только на тебя самого.
Выходные успокоили Соню, и сейчас, после вполне рядового понедельника, за поздним ужином она рассказывает о том, как страдают дети-негритята там, куда свозят отработанные аккумуляторы от айфонов. Ее сильно задел репортаж об этом. Я прикидываю шансы избежать разговора на эту тему и примерный тайминг разговора в случае, если я включусь. Припомнив события последних двух недель, я отвечаю взаимностью, и ее это явно радует. В кои-то веки ее радость совпадает с моей. Остается только решить, что делать с тем сообщением, но я откладываю это на неопределенный срок.
– Может, уже ляжем спать?
Соня ложится напротив меня и смотрит мне в глаза. У нее удивительно чистый, ясный взгляд сегодня. Ее движения лишены скованности, и глядя в ее глаза, я словно вижу себя, свои былые желания и устремления, потому что вижу то время, когда мы еще могли несколько часов проговорить друг с другом, не повышая тон и не уставая за две минуты.
– Ты устала?
– Нет, – она улыбается и заползает ладонью на мой мгновенно напрягающийся живот. – А вот ты, мне кажется, устаешь больше обычного. Тебе нужно как следует отдохнуть. А сначала…
Вместо продолжения фразы, она толкает меня на спину, плавным движением спускает с меня белье и принимается делать то, что ей всегда очень здорово удавалось. Надеюсь, вы не подглядываете. Потому что такой минет сводит на нет возможность следить за вами и вашим вуайеризмом. Соня буквально поедает меня, затягивая в себя. Это чертовски знакомое чувство, ведь именно оно когда-то заставило меня помчаться к ней навстречу и кардинально поменять жизнь. Она затянула меня в себя, зажгла страсть, заставила подчиниться ее воле, встала во главе моих поступков и суждений, хотя по меркам общих стандартов красоты и интеллекта в ней не было ничего особенного. Тем не менее, все угасает, и сейчас тревога и неопределенность все равно мешают мне наслаждаться моментом.
– Тебе нравится? – освободив рот и работая рукой, интересуется Соня.
Впрочем, секс – это игра на двоих, и раз уж у меня стоит, надо сыграть свою партию для нее.
– О да, детка. Это просто класс.
Она залезает на меня, принимается целовать мне шею, и я обнаруживаю, что на ней уже нет трусиков, которые только что, вроде как, были. Как только она пытается насесть на меня, я понимаю, что тревога не даст мне покоя, если я буду рисковать новыми проблемами, и даю Соне знак сделать техническую паузу. Она проявляет смекалку и быстро достает из-под матраца заранее заготовленный презерватив.
– Умница, – пытаюсь поцеловать ее в нос, но в последний момент она врезается мне в губы своими губами и запускает мне в рот свой язык.
Вдавливая в себя брезгливость, я вслепую одеваю резинку и вхожу в Соню, заставляя ее издать изумленный и слишком громкий для спящей в соседней комнате Насти стон. Она просит меня закрыть ей рот, и это оказывается весьма кстати, потому что с каждым движением ее стоны все сильнее, и то ли и из-за этого, то ли из-за чего-то еще я спускаю гораздо раньше, чем планировал, ощущая оргазм такой силы, что темнеет в глазах. Но странно то, что я ощущаю удовольствие только те самые три секунды, что длится эякуляция, не более того. Сразу после нее мне становится просто мерзко и стыдно. Мерзко – от понимания того, что у меня во рту побывал язык, еще только что лизавший мои причиндалы, а стыдно – от того, что Соня явно не кончила за этот двадцатисекундный спринт. Тем не менее, она улыбается, гладит меня по голове, лепечет что-то и заботливо снимает с меня презерватив, вытирая потеки салфеткой. Это блюдо явно предназначалось только для меня. Но послевкусие оказалось гораздо хуже, чем могло быть. И я возвращаюсь к тем мыслям, которые посещали меня еще минуту назад, когда я тонул во взгляде Сони.
А было ли это время? Было ли что-то до того дня, как Соня нацепила свадебное платье и притараканила на церемонию всю свою родню? На церемонию, которую мы сыграли, кстати, на ее малой родине. Мы всегда ищем ключевые события, некие опоры для упорядочивания воспоминаний, и все, что было до Сони, не упорядочено, а вот потом – alles in Ordnung. Продажа машины, покупка квартиры, покупка другой машины, повышение, рождение Насти. С кем это все было? Неужели со мной и с этой женщиной, которая сейчас ложится в кровать, целует меня и делает вид, будто ей действительно хорошо?
Может, мне и не следует так переживать на этот счет, и все эти вещи, которые сейчас…
Соня
…и хотя я знаю, что это все мы пережили вместе, сейчас мне кажется, что это было не так, и что каждый из нас тащил свой крест. Надеюсь, ему такого на ум не приходит. Он лежит – осчастливленный, спокойный, без обычного для него напряжения, и я рада, что я это сделала для него и для себя. Но поможет ли это так, как я рассчитываю?
Почти год я мучилась, пытаясь выжечь ее из нашей жизни каленым железом. Одна знакомая в возрасте советовала мне пойти к гадалке и навести на нее порчу, но я справилась сама. Не хотелось быть в долгу у потусторонних сил, хотя так могло быть даже лучше и удобнее. Общие вещи, общие события, знакомые – я постаралась лишить их всего этого, но вот телефон ее поменять не удалось. Я попробовала сделать так, чтобы ее номер оказался скомпрометирован. Для этого пришлось попыхтеть и разместить множество объявлений о том, что она предлагает интим-услуги. Для меня было не столь важным превратить ее жизнь в ад, сколько заставить ее уничтожить этот телефон и окончательно лишить его шанса связаться с ней. То же касалось и страниц в соцсетях и электронной почты, но теперь я поняла, что ничего не вышло. Когда-то я знала обо всей той переписке, которую они вели у меня за спиной. Видела сообщения, даже звонки. Я заблокировала ее страницу «вконтакте» от его имени, и это немного помогло.
Но только-только я успокоилась, и снова она маячит передо мной. Надеется на то, что мы расстались – это уж точно. Она поверила когда-то его – уставшего от ее давления, поникшего головой, – намекам на то, что он не совсем счастлив в браке со мной, и решила выждать момент, чтобы вновь нанести удар. Я чувствую ее дыхание за спиной. Теплое, мерзкое, заставляющее член мужиков вставать, а мои кулаки – сжиматься. Эти вещи никогда тебя не оставляют, сколько бы ты ни молилась господу о том, чтобы он унес их. Но мои молитвы будут услышаны. Я заставлю его прекратить контактировать с ней. Вот только бы понять, почему он скрывает ту смску и тот звонок, только бы понять это. Понять – заботится он обо мне или решил что-то сделать – что-то ужасное, что-то мерзкое…
Впрочем, все в порядке. Я его возбуждаю, он хочет меня, он кончил в меня, как лев в свою львицу, и это значит, что все то…
Юля
…и тем любопытнее было получить от нее это сообщение – без приветствий и прелюдий, но что самое главное – от его имени.
«Девочка, он никогда тебя не любил и не будет любить, как меня»
Я понимаю, что он не затер последнее сообщение, и Соня снова залезла в его телефон, улучив момент. На этот раз, ей повезло. Я смеюсь, отпиваю кока-колы и копирую тексты смсок, полученных от него, в сообщения «вконтакте» – в ответ на сонино громкое заявление. Из тех сообщений, которые она наверняка не видела, я подбираю те, что ранят ее сильнее прочих и еще провернут лезвия во всех ранах минимум пару раз.
«Зая…»
«солнышко…»
«…ты же умница…»
Да она просто взорвется от злости. Безумная истеричка.
Заношу палец над кнопкой отправки сообщения, но что-то меня удерживает, и я просто смотрю сквозь экран. Словно бы что-то должно дать мне знак, но знака нет, и я на распутье. Ярость, чувство справедливости, необходимости возмездия безмозглой курице-домохозяйке – все это остывает. Стираю все набранное в окошке нового сообщения. Блокирую экран телефона и откладываю его, ощущая, как горечь и желание заплакать подступают к горлу.
Зачем я это сделала снова?
Этот вопрос мучает меня с той самой пятницы, но я намеренно не даю окончательного ответа на него. Я боюсь всего окончательного. Даже отчета о доставке сообщения. Но дело в том, что все поменялось. Тогда я хотела поддержать его, несмотря на его поступки. Я поняла, что его очень круто взяли в оборот, заманили в ловушку, из которой ни один мужик не выбрался бы. Объяснять, что ему гладко постелили, а спать может быть довольно жестко, я не стала, да и времени на это не было. Он и сам все понял со временем. И я уверена, что он смирился со многим, и все это стало делом прошедших дней. В определенный момент он объяснил мне, что лучше всего нам прекратить связь – во благо его, меня и их с Соней будущего ребенка. Я жила своей жизнью, жила другими людьми, но если бы на этом все закончилось, жизнь была бы слишком проста. Та самая жизнь, которая преподнесла мне этот самый сюрприз.
Я встаю, выпиваю стакан воды, медленно вдыхаю и выдыхаю несколько раз и подхожу к окну. Почти под ним, рядом с подъездом я вижу маленький одинокий «ситроен». Мне кто-то советовал продать его за копейки и пустить деньги на улучшение лечения. Кретины. Я до магазина за хлебом дохожу с одышкой и головокружением. А как вы представляете мою поездку на метро на работу? Чертовы советчики. Впрочем, когда люди понимают, что сами ничем не могут помочь, наступает время фальшивой мудрости. Каждый, кто более-менее в курсе моего диагноза, считает, что я живу от постели до клиники. Можно сказать, телепортируюсь из квартиры в онкоцентр на Ветеранов, куда мне посоветовали обратиться, и где мне пытаются помочь по сей день. Но человек, который болен – это еще не труп, и ему есть, чем заняться в этом мире, кроме как оплакивать свою участь, поверьте мне.
В сущности, стоимость «ситроена» мало что решит в данном случае. А решит все этот, третий цикл лечения. Во всяком случае, так сказал мой доктор. И в скором времени я поеду…
Саша
…но лучше бы и этот вкус пропал, ей-богу.
– Ты представляешь – опять рассказывали про то расследование.
– Какое? – пытаюсь изобразить искренний интерес, но получается не очень достоверно, и я закусываю недостатки актерской игры отменным куском картофельной запеканки, которую, откровенно говоря, и бродячей собаке не скормил бы.
– Про батарейки для айфонов, которые выбрасывают в Африке, – Соня откладывает в сторону вилку и начинает атаку. – Ты представь – есть даже официальные доказательства, фотосъемка, а они все также продолжают травить людей.
Видимо, ее пластинку заело окончательно. Нет ничего более неловкого и жалкого, чем человек, который пытается навязать тему разговора, которая ему самому не интересна. Впрочем, возможно, что повторение этой темы – всего лишь проверка на внимательность, и я обязан подыграть.
– Но это же Африка. Это обычные…– я теряюсь где-то в своем личном толковом словаре.
– А они что, не люди, по-твоему? – возмущается Соня. – Ну вот ты представь, что где-нибудь около настенькиного детского сада сделают свалку отходов, особенно химических, опасных. И что тогда ты будешь делать?
Пожимаю плечами и углубляюсь в изучение запеканки. Господи, как же можно было так испортить обычную картошку? Она ведь всегда неплохо готовила, в чем же дело? Поднимать разговор про Юлю? Да я даже имя ее не хочу упоминать в присутствии Сони. И я действительно ничего не предпринял, я игнорирую этот ее боевой клич. В чем проблема? Я специально оставлял пару раз на видном месте телефон, чтобы Соня могла в него, как обычно, залезть и проверить, все ли там в порядке и не завелась ли у меня любовница – новая или из прошлых. Она, разумеется, считает, что я никогда не подозревал о ее разведдеятельности, но будь я таким круглым идиотом, я бы не добился и половины того, чего добился в жизни.
– Саша!
Все, пропал. Я не расслышал, что она сказала, потому что мои мысли были громче.
– Что?
– Мне кажется, ты меня совершенно не слушаешь. Ты постоянно в себе.
– Я говорю с тобой, дорогая.
– Ты не со мной.
Мне остается лишь тяжело вздохнуть и попытаться взять ее за руку, но она перекидывает ладонь на лоб, поправляет волосы и, деловито облизнув губы, продолжает экзекуцию.
– Когда мы идем в отпуск? Когда мы едем отдыхать? Этой зимой ты опять будешь занят до последнего или мы, наконец, поедем на Новый Год на Кипр, как планировали?
– Я… Я все решу. Мы отлично проведем Новый год, – бурчу без особой уверенности, совершая серьезную ошибку.
– Боже, ты ведь… – она хныкает, старательно выжимая из себя слезу и убегает с кухни, демонстративно швыряя вилку в мойку.
Наутро в офисе я обдумываю все это и решаю, на всякий случай, отправить домой цветы, чтобы немного охладить пыл Сони. Пока Настя в садике, у нее есть время все обдумать и подготовиться к вечеру. Но на этом чертовом колесе нельзя кататься вечно. Нужно что-то придумать, пока кто-нибудь не сошел на середине маршрута.
А вы как считаете? Со стороны же виднее, не так ли? Я чувствую опустошенность, потому что где-то внутри я зарезервировал место для ответного звонка Юле, но страх услышать ее и поднять снова все то, что я закопал глубоко в себе, превыше необходимости эту пустоту заполнить. Цепь совпадений из поездки в Москву, звонка, близости Сони к очередному нервному срыву выглядит подозрительно, но пока что здесь не хватает еще какой-то детали. И мне нужна небольшая пауза, хотя бы до Москвы, чтобы принять правильное решение. Поможете мне? Ну, хорошо, хорошо. Согласен, что это не ваше дело. Только не надо потом смотреть на меня, показывать пальцем и говорить, какой я идиот и что вы знали все наперед. Самое важное во всем это то, что до какого-то момента…
Соня
…все это будет держаться на мне одной. Я пытаюсь отвлечь его от болезненной задумчивости. Вытащить на себя, даже вызывая на себя огонь, играя истеричку. Пусть он думает, что я стала взбалмошной дурой, но я не дура, я все вижу. Я не хочу говорить прямо, он должен сам понять, что я все поняла. И еще – он должен увезти нас на праздники отсюда. Мне плевать на все, кроме моей семьи, потому что нет ничего более ценного. Я все равно живу одним днем в таком режиме – режиме ожидания беды и сохранения энергии, и поэтому отступать мне некуда. Это я уже доказала на днях, и мне хотелось бы, чтобы он понял меня, когда все станет известно.
Неужто он действительно считает меня такой идиоткой, что даже словом не обмолвится об этом звонке? Он вспомнил ее, начал снова сомневаться, начал скучать. И он снова потеряет интерес ко мне, найдет ее фотографии, полезет на ее страници в соцсетях, а я даже не могу ей позвонить или написать, потому что это может привести к еще большим проблемам.
Эти розы прекрасно смотрятся, и я благодарна ему за знак внимания, но это больше походит на взятку. И вот теперь-то мои подозрения усиливаются еще больше. Лучше бы он этого не делал. Зачем удлинять мне поводок, если при этом я начинаю видеть его реальную длину? Глупые мужики, всегда торопятся сделать неверный шаг. Он умнее прочих, но все равно совершает те же ошибки.
Хорошо же, я буду кипеть до поры до времени, и если он не выключит огонь, я взорвусь. И тогда все то, что он скрывает…
Юля
…пытаясь преодолеть давление нависшей над городом пелены облаков.
Тонкая линия света между серыми уродливыми крышами домов, которые, как мне кажется, ощетинились с мою сторону, не дает практически никаких надежд, хотя я знаю, что это откуда-то лучи солнца пытаются пробить облачный фронт. Может, это знак мне обратить внимание на какую-то мелочь, на что-то, что поможет мне? Вот только мне надо остановиться на минутку, потому что до входа в клинику слишком далеко, и мне нужна передышка.
Дыши, дыши. Вот, все. Все очень просто. Ты готова.
Мой врач пока занят, и я случайно встречаюсь с Дианой – одной из пациенток стационара. Мы знакомы с ней по паре-тройке бесед во время моих визитов на химиотерапию, не более того. Она иногда прогуливается по клинике, потому что выйти наружу одна уже не может, а родные не хотят оставлять надежды на ее излечение и забирать домой на верную смерть. Их рвение было бы понятно – девочке не многим больше двадцати, – если бы не обширные опухоли по всей ее пищеварительной системе, которые в принципе невозможно вылечить. Мне чертовски жаль эту девочку, но ей никто уже не может помочь. Она всегда говорит слабым голосом, и я стараюсь внимательно выслушивать каждое ее слово.
– Лизу сегодня увезли, – печально произносит Диана, присев рядом со мной.
– Может, у нее все будет хорошо?
– Не знаю, – вздыхает Диана. – Она сильно плакала перед отъездом. Просила, чтобы ее подвели ко всем девочкам обняться. Ей тяжело.
В стоматологии, когда вас спрашивают, больно ли лечить зуб, вы говорите – нет, и ваша совесть чиста. Здесь такое не прокатит. Что больно – знают все. И пытаться доказать, что когда-то все наладится людям, для которых все уже решено, смысла нет. У Лизы, о которой говорит Диана, рак сердца, и ей досталась путевка в Центр Алмазова. Ей грозит операция на сердце, после которой ей все равно останется не больше полугода, либо смерть в течение месяца без операции. А сейчас – стационар, слабость, попытки хоть как-то продлить срок. Лизе недавно исполнилось девятнадцать. И больше ей уже не исполнится. С ней никогда не произойдет больше ничего, кроме постоянного лежания в больнице или дома. Самое худшее то, что и она об этом знает. Возможно, в таком неведении и было бы счастье. А я – самая настоящая счастливица. Я могу пить обезболивающие горстями и ходить на работу и двигаться. Пусть и медленнее обычного. Даже водить машину. Я, все-таки, конченая психопатка. Как и те чудики на форуме. Последний курс добил мою волю, и я согласна подписаться на что угодно. Но могу точно сказать – так хреново, как сейчас, мне еще не было. После одной из химиотерапий третьего курса мне стало так плохо, что я еда добралась до дома на такси, бросив машину здесь, и таксист довел меня прямо до постели. Меня и раньше бомбили предложениями помочь друзья, но только после этого случая я стала приглашать посидеть со мной кого-нибудь из подруг. Вообще, мне принципиально не хочется делиться ни с кем своим горем, хотя люди и хотят помочь. Но если я вырублюсь по дороге домой, меня ограбят, изнасилуют и убьют, то чего стоит все это лечение?
– Сегодня приедет Миша, – Диана пытается улыбнуться, и ее лицо становится живым и красивым, несмотря на неестественную бледноту. – Он говорил, у него что-то интересное для меня.
Миша – парень Дианы. Он приезжает к ней временами, и она каждый раз рассказывает об этом. Ей хотелось бы обсуждать его подарки и то, где они были вместе, с подружками за мартини в каком-нибудь баре, но приходится говорить об этом со всеми, с кем она может говорить по случаю. От этой мысли я вздрагиваю, едва удерживаясь от слез.
– Я хотела ему сказать… – Диана опускает взгляд в пол, словно ища что-то. – Хотела рассказать, как мне тут живется, и… Но все так плохо.
Я давлюсь собственными словами и бросаю взгляд на дверь кабинета своего врача. Я хочу сбежать.
– Просто очень тяжело ходить. Я хочу ходить больше. Но мне так больно, знаешь, Юля?
– Да. Но это…
Она понимает, что мне нечего сказать, и что я просто должна слушать.
– А еще я забыла, какие вкусы у того, что едят. Представляешь? Даже не могу вспомнить. Но это ничего, наверное. Я просто жду, чтобы мне рассказали, как там дела, снаружи. Здорово, когда к тебе приходят. К некоторым девочкам не приходят вообще.
Сглатываю и пытаюсь изобразить улыбку, чтобы поддержать ее. Нечем. Просто больше нечем улыбаться. Во мне нет этой силы, этой волшебной материи, из которой строятся улыбки. Кончилась. Я хочу обнять ее. Мне кажется, я пытаюсь жалеть ее, почти насильственно выжимаю из себя жалость. Так я стараюсь уйти от себя. От своего страха. От своего отчаяния.
Пришел ее парень. Она радостно улыбается, почти сияет, и она сияла бы ярче и хотела бы вскочить навстречу ему, но может только медленно, с напряжением встать, и он помогает ей. Лицо этой милой девчушки – бледная напряженная маска с мучительно пробивающейся улыбкой, – записывается в мою память – куда-то так глубоко, что я уверена, что не смогу его забыть до своей последней минуты.
– Пока, Юля. Не грусти, – не забывает про меня Диана и уходит вместе с молча кивающим мне Мишей.
Я крепко сжимаю левый кулак, но не потому, что меня душит зависть к тому, что у этой девочки есть больше личной жизни, чем у меня сейчас, а потому, что вся моя левая рука – от плеча до кончиков пальцев, – онемела, как часто случается в последнее время. Иногда я просто сижу и вникаю в это ощущение онемения, в этот эфирный шум одной части тела, представляя, что будет, если все мое тело уйдет в такой же эфир. В эти моменты я понимаю, что это гораздо хуже, чем испытывать боль, потому что ты никогда не знаешь, что с тобой, и когда это кончится. Люди боятся определенности смерти, предсказаний гадалок, диагнозов врачей, но нет ничего хуже полной неопределенности, когда палач ходит за твоей спиной и выбирает время нанести рубящий удар исключительно из своих собственных соображений.
– Спасибо сорок шестому закону, что он не отбирает у нас хотя бы это обезболивание, – сидящая рядом тетка в возрасте за пятьдесят почему-то вовлекает меня в беседу, хотя мне этого совершенно не хочется.
Я молча киваю в ответ. Знаю, как врачей сажают за то, что они из жалости выписывают обезболивающее, не соответствующее регламенту, больному, которому осталось лишь испытывать мучения последний месяц жизни. Как закон решает, что качество жизни умирающего – ничто по сравнению с необходимостью следить за тем, не ширяются ли долбанные наркоманы перекупленными обезболивающими. Как будто от этого кому-то на самом деле хуже.
Наконец, выходит Петр Маркович, мой лечащий врач. Зовет еще одну медсестру, дежурную. Она вместе с его ассистенткой выводит под руки беззвучно рыдающую женщину. Врач поправляет очки, деловито сглатывает и со слабой улыбкой предлагает мне пройти в кабинет и торопливо уходит туда сам, словно прячась от этого мира слепых прокаженных, в котором он – всевидящий оракул.
Все начинается с типовых вопросов-ответов про самочувствие. Каждый раз, когда врач спрашивает про самочувствие, кажется, что все гораздо лучше, чем до начала этого разговора. Но эта беседа просто обязана пойти в другую сторону.
– Итак, после второго курса мы получи неустойчивую ремиссию и притормозили развитие лимфом, – пряча взгляд в моей карточке, которую я и так сто раз видел, расписывает доктор.
– А теперь?
– Теперь у нас…ммм… – он морщится и поднимает взгляд на меня – цепкий, внимательный, выжидающий моей реакции. – Теперь у нас недельная стабилизация состояния.
– То есть, все хорошо? – машинально потираю руки и с надеждой смотрю в глаза врачу.
– Юля, – он закрывает мою карту, откладывает ее в сторону, и как бы он ни отталкивал слово «нет», оно само собой повисает в воздухе между нами, – у нас по всей истории стабильная цикличная динамка, но она, по сути, регрессивная, убыточная. По результатам анализов, опухоли мутируют быстрее, чем должны при отсечении питания после химиотерапии.
– Растут, – просто констатирую факт.
– Прогрессируют, – кивает врач. – При очень сильном упадке жизненных функций. В таком состоянии я бы советовал стационар, но качество жизни Вам это не поднимет. Вы знакомы с Дианой?
– Да.
– Она здесь лежит только потому, что так хотят ее родные. Ее состояние – на грани. И я скоро сообщу об этом ее близким, но решение принимать будут они сами. У Вас дела получше – обмен веществ работает, питаться Вы можете, и даже машину водите, смотрю.
Он показывает пальцем на сумочку, к кольцу на которой прикреплен брелок с ключами – чтобы их легче было достать и не потерять.
– Да. Так это значит, что я выздоровлю, правда?
– Это не сохранится надолго. Внутри вас бомба с часовым механизмом. Механизм запущен. И его ничто не остановит. Только полная остановка самого организма. Я надеялся, что мы пройдем по обычному сценарию пятилетней ремиссии, но мы пришли только к третьей стадии на грани четвертой.
Четвертая стадия.
Я слишком много прочла в интернете, чтобы не знать об этом. Обычно врачи не торопятся сообщаться больному и его родственникам об этом, но если уж сообщают – то только наверняка.
– Значит, все?
– Мы застряли здесь, Юленька. Застряли окончательно. Операция невозможна, опухоли прогрессируют сверхбыстро, а метастазы просто не остановить – даже очередным ударом химиотерапии или лучевой.
Он делает паузу и смотрит на меня. Ждет, когда я впаду в истерику, как та женщина. Проверяет меня на состояние отчаяния. Рука, которая недавно была онемевшей, теперь трясется самопроизвольно, и я сжимаю ее крепче и кладу под сумочку.
– Понятно.
Он явно удивлен такой реакции, но вида не подает.
– Юля, Вы очень сильный человек, поверьте мне. Для женщины – особенно. Я видел мужчин, которые рыдали и умоляли меня сделать хоть что-нибудь на тех же стадиях. Видел людей, которые сами добивали себя своими страхами и отчаянием. Я бы хотел дать вам хоть искру надежды…
– Вы давали. Я видела. Помню. Спасибо вам.
– Я просто не могу больше ничем помочь сейчас. Вчера я собрал консилиум по вашему случаю. Мы искали пути решения, я звонил своим друзьям в Гамбург и Лондон. Никто не готов сейчас браться за лечение такого состояния, в том числе радиационное. Никто не предлагает даже гипотетически рабочего варианта. Предугадать результат четвертого курса я тоже не могу, хотя настоятельно рекомендую Вам его пройти.
– Вы считаете, это того стоит?
– Это риск, но это даст время.
– Это может меня убить?
Он впервые отводит взгляд в сторону, снимает очки, протирает глаза. Я догадываюсь, что в этом кабинете не принято произносить слова «смерть», «убивать», «умереть».
– Ваш иммунитет скоро будет практически разрушен. После первых двух курсов Вы восстановились в обычном режиме, но сейчас Вам может фатально навредить даже обычная простуда, и сейчас очень подходящий сезон. Я назначу усиленную укрепляющую терапию, после четырехмесячного курса у Вас будет два месяца на восстановление.
– Мы опоздали со всем, что пытались сделать, правда?
– Давайте подождем два месяца. Тогда и решим.