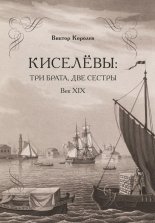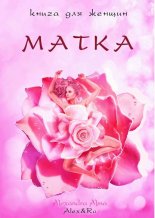Индульгенции Солнцев Иван

Это не те слова, Саша, не те!
– Ты просишь прощения за что-то, но это я во всем виноват, это я тогда все испортил… Ты помнишь… Боже, я не знаю… Юля?
– Да. Я все помню. Пока еще.
Я оглядываюсь на какой-то шорох и вижу парня, которому явно нужно в этот подъезд, и он мог бы просто впустить меня, но машет рукой и дает знак продолжать, а жестами показывает…
Ну, конечно, у него нет ключей.
– Почему ты сразу не сказала?
– А зачем?
– Я бы помог всем, я бы отдал все.
– Ты не читал письма? Нечем помочь. Ты не виноват.
– Но ты ведь…
Я снова оглядываюсь. Парень терпеливо ждет, потому что видит, то я плачу, как последний мудак, говоря Юле, что…
Юля
… это все можно исправить. Вещи, которые уже произошли, говорят против. А я снова на распутье. Только вот проблема даже не в том, что он сейчас там, внизу. Проблема в том, что это из-за меня, и я поступила, как эгоистичная сука, рассказав ему обо всем. И тот позыв – открыть правду, раздать долги – был лживым в корне. Мозги поехали от химиотерапии. Боже, зачем все это было? Он ведь и так научился жить без меня. Я просто надеялась, что он больше не приедет, что все кончено, и теперь, наконец, можно забыться, но именно сейчас…
Саша
… как на высоту десятого этажа взлетает птица, и я даже завидую ей, ведь всего этого разговора не было бы, имей я возможность подняться вверх так просто и постучаться к Юле в окно – тогда ей пришлось бы меня впустить, и мы с пареньком не стояли бы здесь.
– Я поднимусь, слышишь?
– Я не открою.
– Почему?
Она молчит. Это и есть ее ответ. Честный и единственно справедливый по отношению ко мне. Кто я теперь и чего стоят мои проблемы по сравнению с ее горем? И, уже понимая, что это все впустую, и этот разговор может быть последним, я громко и отчетливо говорю, что…
Юля
…и от этих слов я заливаюсь слезами и почему-то царапаю стену рядом с домофоном, ломая ноготь и пуская кровь, но все это ничего не значит.
Помни, Юля, это абсолютно ничего не значит. Это все было задумано. Ты знала! И ты боялась, что он это скажет, и что это будет правдой, но ты была готова. И ты преодолела гораздо более сильные страхи. Преодолеет все и он. Только не сделай еще одну глупость.
Мне хотелось бы нажать на кнопку открытия двери, совершить движение, которое займет лишь долю секунды. Такое короткое легкое движение – но как много оно могло бы значить…
А что бы оно значило? Победу? Счастье? Выздоровление?
Черта с два. Сказки для меня закончились в момент, когда мне объявили о бесперспективности лечения. О том, что я умираю, и с этим ничего нельзя поделать, как и в случае с девочкой, у которой сразу несколько органов оказались поражены этим же ядом. О том, что я опоздала и слишком долго списывала головокружения, слабость, тошноту, недомогания на вечные стресс и усталость, которым уже не помогают сон, загородные поездки и море дважды в год.
Оно будет значить капитуляцию. Провал затеи. Саморазрушение на шаг быстрее, чем справится болезнь. Поэтому я опускаю трубку, и когда проходит следующий звонок, просто выключаю звук. Если он поднимется – а это нетрудно сделать, пройдя с кем-нибудь, – то я все равно не открою. Я просто не смогу его увидеть еще раз и остаться собой – той, в кого я превратилась, но в кого осталась хоть какая-то вера.
Я осторожно смотрю в окно и вижу, как он уходит в машину. Как открывает дверь, бьет по ней ногой и садится рядом с машиной. У него все равно все будет хорошо. Эти раны заживут. А мои ноют. Поэтому я выпиваю три таблетки обезболивающего, и ложусь на пол, но это не помогает так быстро, как хотелось бы.
Как только мне становится немного легче, я снимаю халат, белье, кольца и серьги. Смотрю в зеркало. Я ужасно похудела. Но это уже не новость. Соблазнительных бедер – как не бывало, а грудь обвисла, как уши спаниеля, хотя когда-то это были еще те дыньки. Кому какое дело? Не понимаю себя – почему я вообще сейчас на это обращаю внимание? Словно я готова была бы впустить его и встретить вот так, но такой вид мог бы вызвать только отвращение. Он не знал меня такой. И это еще одна причина, чтобы никогда больше с ним не видеться. Я хочу, чтобы он помнил меня такой, какой я была в «Азимуте». Гибкой, накрашенной, сексуальной, раскрепощенной. Настоящей. И никак иначе. Я хочу остаться такой хотя бы где-то.
Включаю воду. Обжигаюсь ледяной струей, добавляю горячей. Боль растекается по ладони. Скидываю парик и отшвыриваю его подальше. Теперь главное – не смотреться в зеркало. Ни в какое. Не хочу сама больше видеть себя такой сегодня.
Кружится голова. Нужно держаться за стенку, чтобы не рухнуть. Нужно набрать воды и лечь, чтобы прогреться. Болит что-то в груди, прямо по центру, но это пройдет. Скоро. Как только подействует вся доза, и в крови…
Соня
…и как к этому относиться. Но теперь все стало еще хуже. Правда – не лучшее лекарство для семейных отношений. Так считают подлые лжецы и изменщики. А я всегда считаю, что только доверие имеет цену, а остальное можно купить у проституток. И вот доверия-то он прямо сейчас лишается.
Господи, приведи его домой, помоги ему одуматься. Он должен это сделать, должен прийти и покаяться мне, должен все сам рассказать. Тогда я подумаю, как его простить, как жить с этим. А что же сейчас, после того, как…
Саша
…но уж точно не разбитые дверные ручки. Я хочу подняться сам, но понимаю, что это не имеет смысла. Я приду, буду биться в дверь, требовать одного взгляда и одного разговора, а что потом?
Я не чувствовал себя таким жалким никогда. Таким слабым и беспомощным.
И от этого я тоже сейчас сбегу.
Под светом фар дорога становится полна блеска от тонкого слоя свежего снега, едва укрывшего асфальт. Я доезжаю до знакомой мне заброшенной металлоконструкции, назначения которой я никогда не узнавал. Это вышка с металлической лестницей, которой давно никто не пользуется. И я приезжал сюда когда-то, когда мне нужно было найти себя снова, чтобы вернуться домой. Странное, пустое место, в котором ни для кого, кроме меня, больше нет никакого смысла.
– Я хочу снега!
Я кричу на всю округу, что подтверждает увесистое эхо, падающее на сотни метров вокруг. Но ничего не происходит. Еще двадцать минут назад бил невыносимо слепящий на дороге снег, а когда я подъезжал сюда, падали лишь тихие скромные снежинки – и больше ничего. Я приглушенно матерюсь и снова кричу, что хочу снега.
И ничего. Никто меня не слышит. Я сажусь прямо на слегка подмерзшую грязь рядом с машиной, опираясь о дверь неестественно напряженной спиной, и накрываю лицо руками, пытаясь заплакать или снова закричать или сделать еще хоть что-то, лишь бы это помогло.
Помогло в чем?
Шансов нет. Немного посидев так, я встаю, отряхиваю задницу и собираюсь уезжать. Мне кажется, кто-то прикасается к моему плечу, и я рывком оборачиваюсь. Но никого нет. Просто огромные хлопья снега падают навстречу моему взгляду, инстинктивно ускользнувшему вверх, в беззвездное небо. Снег все ускоряется, снова задувает, разгоняя пургу, ветер, и я стою, опешив и не в силах сдержать слез. Но не слез счастья или горя. А просто слез от осознания того, что самое желанное в жизни получаешь тогда, когда это не нужно, либо когда уже не можешь этим воспользоваться.
На мобильнике, лежащем в машине, высвечивается вызов, и это Соня, и поэтому я не беру трубку. Мне абсолютно нечего ей сказать. Я отхожу от машины, забираюсь по лестнице, вдыхаю морозный воздух. Одышка сообщает, что я поднимался слишком быстро. Иногда, глядя на свое отражение в зеркале – круглолицый, темноволосый правильный мальчик за тридцать, – я понимаю, что я – конченый упырь, недостойный того, что получил. И я говорю каждый раз – ты молодец, ты всегда делаешь правильный выбор, ты прагматичный и хозяйственный… Только вот теперь остается понять, какого хрена я делал выбор из соображений прагматизма там, где все казалось только чувств? И что делать теперь? Дамоклов меч собственного выбора почти касается острием моей головы, волосы на которой перемешиваются морозным ветром и обмерзают, как и лицо, и руки, а я берусь за стальные прутья ограждения и не чувствую их, и снег хлещет по моим щекам, и все это кажется совершенно нереальным, и мне хочется проснуться, но я боюсь упасть для этого. Я боюсь, что это не поможет. А вообще, я боюсь смерти. Но еще больше – ее смерти. Гораздо больше, чем своей.
Что я могу сделать?
Помочь?
Что-то оплатить?
Я видел все, что там написано. Я слышал ее. Я уже опоздал. И если я хочу что-то сделать, мне надо прийти к ней.
А она не пустит тебя на порог. Потому что ты – ничтожество.
А вы как считаете? Ах, да, вы же просто смотрите. Просто проходили мимо. Я вижу ваши следы на снегу около вышки. Вы проверили, достаточно ли прочна опора? Не хочется потерять такое шоу из-за моего неверного шага? А как насчет этой внезапной пурги, которая крошечными ударами разрывает мое лицо? Как вам такие спецэффекты? Для вас все – постановка. Чужое горе – не беда, так ведь? Всегда можно наплевать на это, вздохнуть для приличия и пойти по своим делам, изобретать новые способы испортить чужую жизнь. Мне даже жаль, что вы все это видите, потому что вы сможете пользоваться моим опытом.
В груди начинает жутко болеть, до истерики где-то в глубине помутненного сознания. Мне кажется, что это предел, что боль разорвет меня, остановит сердце, и я умру, но это просто чертова невралгия, я уверен. На вашу радость, я вряд ли сдохну здесь.
Она всегда жива. Все мои люди всегда живы. Как и я. Они не могут умереть.
Все, кого я люблю – это я. Как возможно, чтобы их не стало, если я есть?
Черта с два ты отмажешься, Сашенька. Не в этот раз. Благодетельство не проканает. Прости и спускайся. Тебя ждут. Только не там, куда тебе хотелось бы приехать. Довольствуйся малым. Ты хотя бы не умираешь по-настоящему.
Сажусь в машину, не чувствуя пальцев на руках. Ноги тоже промерзли. Лицо онемело.
Соня снова звонит, и на этот раз я поднимаю.
– Да,– сглатываю, морщась от рези в горле, – дорогая, я скоро буду.
Дальше я ее просто не слушаю и выключаю телефон.
Она приготовит ужин, а я не смогу есть, и ее смутит то, что у меня нет аппетита, а потому пойдут вопросы…
Я делаю рывок рулем влево и едва не сбиваю двоих девушек на пешеходном переходе, который только что казался пустым, и почти останавливаюсь, чтобы извиниться и даже представляю, как это делаю, но потом крепко сжимаю руль «аккорда», вбиваю педаль в пол и с рычанием кик-дауна уношусь прочь.
Я – трус. Я всегда сбегаю. Я думаю позвонить дяде Юре – может, его брутальный совет мог бы помочь…
Соня
…как он разберется с этим.
Я хочу видеть его лицо, когда он все увидит. А потом еще и рассказать все. Но это уже – как пойдет.
Самое время выйти погулять.
– Настенька, деточка, послушай меня…
Саша
… и бросаю машину поперек дороги, потому что то, что я вижу, заставляет меня вывалиться из двери «аккорда» и побежать навстречу Соне.
Она стоит вместе с Настей на улице, посреди двора. На ней – домашние тапочки, легкие дырявые джинсы, а на Насте – и вовсе одна пижама.
– Бл… – из меня едва не вырывается мат. – Дорогая, что за херня? Почему Настя чуть не голая?
– Мы ведь тебе не нужны, да?
– Что? – я осторожно подхожу ближе, пытаясь понять намерения Сон и их источник.
– Мы тебе не нужны, – с детским слабоумным выражением лица повторяет Соня я кивает на Настю. – Не нужны, да?
– Хол-лодно, – жалобно бормочет Настя.
– Не нужны, Настюша, – Соня разряжается рыданием, и слезы леденеют у нее на лице.. – Я знаю, что ты был у нее! Я поставила слежку через «гугл» на твой смартфон! Я знаю, что она там живет! Я ВСЕ знаю!
Смотрю ей в глаза и вижу человека, который способен на все, абсолютно на все. И ради чего? Вчера «Яндекс» обещал минус десять, и прогноз понемногу сбывается. Я проверяю, нет ли в руках у Сони колюще-режущих и, убедившись, что ничего такого нет, подхватываю на руки Настю, едва уворачиваясь от отчаянных ударов по голове и спине со стороны Сони, и тащу ребенка в подъезд.
Соня визжит на всю улицу, догоняя меня, но потом останавливается, и я подумываю проверить, что с ней, но состояние четырехлетнего ребенка, простоявшего бог весть сколько голым на морозе, беспокоит меня куда как больше, чем психика Сони.
В квартире я кладу Настю в наспех набранную теплую ванну и даю ей наказ никуда не уходить, пока мы с мамой не придем – говорят, если с детьми говорить, как со взрослыми, это помогает их успокоить. Закрыв дверь на оба замка снаружи, я сбегаю вниз по лестнице и, выскочив из подъезда, обнаруживаю «аккорд» побитым со всех сторон и глубоко и нежно обнявшим довольно широким передком наклонившийся фонарный столб. Все подушки сработали, и на одной из них мирно спит наконец-то успокоившаяся Соня.
Возможно, это лучше, чем если бы она уехала дальше двора. По крайней мере, она никого не убила. Но ночь все равно будет неспокойной, и я вызываю…
Юля
…странное жжение на языке, но оно быстро проходит.
Сегодня рано рассвело. Небо просветлело, погода прекрасная.
Я хотела бы выйти на улицу, но даже сесть на кровати – отдельный подвиг теперь, и сейчас я могу только безвольно сидеть и смотреть мутными глазами во впавших глазницах на вид в окне. Все, чего мне хотелось бы – это прикоснуться к этому просыпающемуся миру, хоть на мгновение, но даже это кажется недостижимым.
Упаковки с лекарствами стоят прямо на тумбочке, хотя я всегда прошу убирать их с глаз долой. После начала четвертого курса я едва не впала в кому, потом перестала выходить из дома, и видеть каждый день эти склянки стало невыносимо. Впрочем, сейчас я понимаю, что и это проходит.
Ко мне иногда приходят друзья. В общем-то, теперь со мной стараются сидеть почти постоянно. Хоть кто-то, да приходит. Но я уже слишком глубоко в себе. Я стараюсь говорить с ними, хоть немного, но говорить становится все больнее. Я постоянно хочу спать, и мышцы ноют даже от простых потуг сесть на кровати.
Но есть во всем этом и свои плюсы. Я так долго растягивала все эти перемены в себе, так долго сопротивлялась, что сейчас у меня просто нет сил горевать, страдать из-за происходящего и из-за того, что вот-вот произойдет. Я уже все знаю. Знаю наперед. И вся это болтовня по поводу Саши и наших отношений и всей этой истории с его женой кажется мне жалким фарсом из далекого прошлого другой, маленькой и глупой девочки, которая еще ничего по-настоящему не знала. А теперь я абсолютно точно знаю все, что возможно знать мне. И чужие знания меня не волнуют.
Может, это и есть совершенство? Может, его я и достигла в этом состоянии потухшей, но еще дымящейся свечи?
В общем-то, было здорово. Иногда. Иногда не очень. К черту сожаления. Я снова очень сильно хочу спать. Свет на улице усиливается и режет глаза. Я хочу попросить закрыть шторы, но никого нет. Меня очень сильно укачивает прямо на месте. Кажется, что-то не так. Или нет. Я не понимаю, что со мной, но, возможно, так и должно быть.
Лягу. Мне нужно немного поспать. Совсем чуть-чуть.
А потом я встану и пойду гулять.
И ничто меня не остановит, даже этот чертов…
Саша
…и трубку, наконец, взяли, и я оказался одним из первых, кто узнал. Хотя это было почти неделю назад, все это встает передо мной, как наяву, вынуждая оставлять окружающих в недоумении от перемен в моем поведении. Но кто эти люди? Кто они мне?
Вокруг – огромное количество людей, не поднимающих взгляд от пола. Меня вдруг осеняет этой простой и фундаментальной мыслью, и я перестаю слушать сидящих за столом, и мой взгляд утопает где-то в глубинах потолка, в уголках кабинета.
Сейчас я вижу, что он полон острых углов. Я на секунду закрываю глаза, хотя знаю, что это заметят, и я сомневаюсь – притвориться, что я просто снимаю усталость глаз или не играть сольный спектакль этом театре на одного, и предпочитаю не лицемерить.
Мир открывается мне заново, и он полон острых углов. Люди здесь смотрят только себе под ноги. Люди здесь не смотрят вокруг и топчутся на месте, забывая о главном. И я забывал. Всегда. Бежал от правды, которая дремала во мне – наивный чукотский парень. Я мог иметь шансы на успех только в случае, если бы было возможно вырвать себе печень или сердце голыми руками и спокойно жить с этим. Вырвать эту правду было бы даже легче, чем любой жизненно важный орган. Мир полон людей, которые боятся поднять взгляд. Боятся себя. Боятся своих поступков и своих мыслей, боятся острых углов. И я был таким же. Но это ни для кого не новость. Для вас точно. Вы же со мной в этом мире? Я не одинок? Правда?
– Сашь, ну ты слушаешь? Мы же без тебя сделки-то не оформим, а ты где-то в облаках, – насмешливая рожа и V-образная улыбка коммерческого выводят меня сначала из забытья, а потом и из рамок самоконтроля.
– Да на хер эту сделку. И тебя, – я вскакиваю, явно ошарашив всех, кто сидит за столом в переговорной. – Я же вижу, как дружно вы хотите меня развести, как лоха, и повесить все дерьмо на меня.
Я выбегаю из офиса, старательно пряча взгляд от всех, и сбегаю вниз по лестнице.
Той зимой почти не было снега. Я не знал, что все изменится так быстро, и предпочел просто чего-то ждать. Звонил ей несколько раз, но все впустую. Как так вышло, что именно этот звонок стал результативным – даже не представляю.
Я выхожу на улицу, встаю на крыльце бизнес-центра и пытаюсь отдышаться, но воздух кажется слишком теплым, полным горячей влаги, и его хочется просушить. Поэтому я достаю пачку «парламента» и после пары крепких затяжек начинаю успокаиваться.
– Ты как?
Леха неслышно подошел сзади, и его лицо полно понимания. Возможно, он – единственный человек из тех, кто все понимает сейчас. Он – единственный, кто имеет право осуждать меня. Да он и в морду мне мог бы дать вполне справедливо. Но на похоронах мы оба не проронили ни слова, и уже потом, встретившись после очередного дня, я прямым текстом попросил у него прощения за то дерьмо, которое ему пришлось таскать в себе все это время из-за моей тупости.
– Не знаю. Что-то давит. Погода, может.
– Ну, да.
Леха затягивается, и мы оба молчим какое-то время.
– Она хотела бы видеть тебя счастливым.
– Думаешь? – мой голос вздрагивает, и я чувствую, как откуда-то из глубин души прорывается огромный поток слез и ударяет в глаза, но его блокирует то, что осталось от моей воли.
– Поверь. Она слишком много своего оставила здесь. Того, что по праву принадлежало ей. Но ей нужно было верить, что тебе лучше, чем ей.
– Она хотела, чтоб я был с ней.
– Потому что отдала конверт? – Леха горько усмехается. – Да она просто хотела, чтобы ты помнил ее. Чтобы хотя бы частичка ее осталась не в виде бывшей, которую забыли, а в виде любимого хоть кем-то человека.
– Ты любил ее?
– Да, – без колебаний отвечает Леха. – Но никогда не говорил об этом. И не сказал бы. Потому что знал, что значил для нее ты.
– Она убила меня. Унесла с собой, – я уже не могу остановить слез, и мне плевать, что об этом подумают.
– Поверь, она освободила тебя, – Леха выбрасывает сигарету, не докурив. – Освободила знанием от сомнений. Только ты это поймешь позже. Пойдем работать, начальник.
Жить с тем грузом, который достался мне, оказалось не так трудно, если не учитывать…
Соня
…и не могу спать, а только делаю вид, что сплю. Я потерялась. Не знаю, что живет внутри меня, но это пожирает меня день за днем, кусочек за кусочком. Я каждый день думаю о том, что можно уснуть, умереть прямо во сне и больше никогда не проснуться, но самое страшное – что с каждым днем страха от этих мыслей я испытываю все меньше и меньше, а прокручиваю в голове это все чаще.
Саша простил меня за машину и за ту сцену – я верю. Он понял все, понял, как я страдала, как мне было больно. Но и она получила свое. Только я не говорю ему, что так считаю, и никогда не скажу. Я думала, он не сможет жить со мной, но он смог. Он не боялся.
И самое главное – я не могу ему объяснить, что я снова беременна. Что я подстроила это, испортив его презерватив – как и в случае с зачатием Насти. Так вот глупо, по незнанию ситуации. Что медикаменты, которыми меня пичкали, наверняка навредили ребеночку. Как мне теперь жить, зная, что уже скоро это нельзя будет скрыть, потому что животик уже пухнет, только он его не видит, как и мою поднимающуюся грудь, потому что мы никогда не занимаемся…
Саша
…ведь с Настей все чаще сидит няня, а когда ее нет – Соню контролирует ее мамаша, поселившаяся, к счастью, не у меня, а у своих дальних родственников. Хотя, после того кошмара длиной в ночь я подумывал просто изолировать Соню ото всех. После ухода Юли моя жизнь с Соней стала невыносимой, и даже после завершения курса лечения последствий так травмировавшего ее стресса, я до сих пор не могу с ней общаться, хотя живу под одной крышей. И вот теперь – у нее еще и диагностировали депрессию. Настоящую, клиническую. Жить стало легче, жить стало веселее.
Иногда я не ночую дома, но не из-за наличия любовницы, как, наверняка, думает Соня, а из-за наличия арендованной квартиры, где я могу спокойно поспать хотя бы пару раз в неделю, не ожидая ножа в спину или еще какой выходки со стороны Сони.
Вам, может, и не следует знать, но на разбитом «аккорде» она не остановилась, хотя все последующие ее представления, сопровождавшие почти весь курс лечения от невротического расстройства, и были ничтожной бытовухой в сравнении с едва не убитым переохлаждением ребенком и разбитой в «тотал» машиной. Спросите, чего я ждал? Ну, явно не…
Соня
…мне нужно что-то поменять. Мне стали давать эти новые лекарства, и теперь я уже совсем не понимаю, что со мной происходит. Мне постоянно снится эта Юля, постоянно она пытает меня и бьет, и она бьет Настеньку, и я встаю ночью, кричу и зову мою маленькую, но мне ее не дают. Мне кажется, даже если я рожу, мне не дадут ребеночка. Мама говорит, что мне надо больше отдыхать, и что она все сделает дома, но это же был мой дом.
А теперь нет. Теперь нет ни дома, ни Саши, ни Настеньки, ни нашего второго. И меня не нужно…
Саша
…и больницы начинают утомлять.
Я не могу усидеть в приемном покое, и постоянно выхожу покурить. На меня понемногу косятся охранники, а я награждаю их форменным безразличием. Как только выходит врач и сообщает нам – мне, матери Сони и ее подруге, – что все закончилось, и Соня уже не проснется, я просто выхожу и вновь закуриваю.
Ну, что – можно разложить все по порядку. Мать Сони обнаружила свою дочь без сознания и Настю, ревущую рядом с мамой так, что соседи вызвали одновременно мою тещу, скорую и полицию. Что именно приняла Соня, пока не выяснили, но остановку сердца уже в больнице это вызвало даже с запасом, и теперь Сони больше нет, Настя – на квартире у родственников моей тещи, а я – стою около приемного покоя и тупо докуриваю последний в пачке «парламент», потому что понятия не имею, что делать, и куда идти дальше. И решаю просто пойти на улицу, побродить по городским дорогам. Я не переживаю за Настю – она под более надежным присмотром, чем была бы сейчас со мной. И день-другой ей лучше меня не видеть. А потом – папа вернется, и все будет, как надо.
Вам смешно, да? Вы же все понимаете, ага? Только мне нужно хотя бы попробовать верить в то, что еще хотя бы в одном деле своей жизни я не просру все начисто.
Я вспоминаю, как Юля уходила из квартиры с сумкой, еще до беременности Сони и всей этой истории. Секунды, в течение которых я наблюдал за тем, как она ловит маршрутку и исчезает где-то вдалеке. Секунды, в течение которых я удерживал себя от рывка догнать ее и попытаться все исправить. Где-то между этими секундами потерялись мои шансы что-то поменять в своей жизни, не разрушить и без того оказавшуюся короткой жизнь Юли, не сделать несчастной и не погубить наивную дурочку с повадками контрразведчика Соню. Шансы растить другого ребенка и жить той жизнью, которая была, на самом деле, нужна мне и всем остальным. Пусть и после Юли. Ни с чем из того, что я должен был исполнить перед всеми этими людьми, я не справился. Я подставил всех и остался совершенно один, и когда-нибудь даже подросшая Настя не сможет понять, почему так вышло. Тем более – принять это.
Сейчас, когда, побродив несколько часов пешком, я стою на огромной и практически пустой парковке торгового центра в Купчино, а из внешних колонок «Максимиллиан Холла» вылетает и растворяется в этой пустоте парковки печальный проигрыш Free Love Depeche Mode, я чувствую себя действительно одиноким – на все сто. Окончательно и бесповоротно.
Теперь я в поиске хоть какого-нибудь ответа. Куда двигаться дальше, с этой парковки я точно не знаю, и с этим еще сложнее, чем с выходом из приемного покоя Джанелидзе. Но впервые в жизни меня так плотно и основательно тянет в никуда. Потому что я пробовал многое и по-разному, и все оказалось никуда не ведущим. Все, что я делал, обернулось кошмаром. Для всех, кто был рядом. Все мои попытки восстановить справедливость и сделать жизнь правильной оказались дерьмовой фикцией, подделкой порывов совести, идиотской выходкой длиной в несколько лет. И мой мир оказался вовсе не миром, а так – уродливым детским рисунком почти засохшим фломастером. When the paper’s crumpled up it just can’t be perfect again. Все осталось в черновике. Листок смялся. И мира не стало.
Мне остается только осознавать, что моя справедливость, моя месть, моя определенность, мой мир – лишь пустышки. А реальность тычет мне в нос одним лишь твердым фактом.
Я потерял все, потому что считал, что это никуда не денется.
Я потерялся сам между секундами чистого счастья и секундами полнейшего забвения.
Я не знаю, чего хотел. Может, спрятаться там, между секундами, дождаться перемен и тогда-то зажить. Вымолить пощаду для себя. Но сейчас, когда я накрываю лицо руками, я жалею лишь о том, что скоро мне будет не хватать лишь этой, накрывающей меня темноты, ведь я точно знаю, что уже завтра буду…
ВАРИАНТЫ
Миша
…не в силах закрыть глаз или просто отвернуться. Это все дым, скользящий по приоткрытому стеклопакету. Дым, стремящийся все выше и исчезающий где-то в холодном ночном воздухе. На несколько секунд я забываю, что это дым моей собственной сигареты, но потом снова прикладываю к губам сухой фильтр «винстона» и затягиваюсь покрепче и вновь выпускаю дым на свободу.
Свобода просто улететь от земли и регламентов, пусть и беспомощно подчиняясь потокам воздуха – может, это и есть единственно возможная свобода? Может, остальное – условность?
А, может, дым и ни при чем. Может, это фигуры, описываемые зажженными окнами в домах вдалеке. Окнами, группами красных огней на крышах высоток, крошечными лампами далеких фонарей. С третьего этажа, благодаря почти пустому двору, изредка прикрытому обнаженными фигурами деревьев, здесь открывается удивительно обширный вид на эти дома вдалеке. И он почти идеально совпадает с видом на ближайшую линию городских домой из окна моего старого детского дома в рабочем поселке. Старого дощатого барака, точнее. Не знаю, как это возможно, ведь это было на другом конце города, а то и на другом конце известной вселенной.
С улицы веет легким морозом. Воздух снаружи – сухой и жесткий, и я бы хотел оказаться на улице, но простыть сейчас – не лучшая перспектива, ведь я только вышел из душа после приезда домой с вечерней встречи на Крестовском, а на улице – легкий мороз.
Она хотела, чтобы я остался на ночь, но я сослался на крайне важные встречи с утра. Хотя все мои дела обычно связаны с вечерами и ночами. Вообще, я не люблю ночевать с ней. Просыпаться утром и видеть ее – еще та мука. Несмотря на всю ее ухоженность, годы дают о себе знать.
Да и плевать. Затягиваюсь поглубже и жду, чтобы перезагрузить сознание, избавиться от мерзких навязчивых образов. Из подъезда внизу выходят соседка Лилия Федоровна и ее внук Мишенька – мой почетный тезка, которому по факту уже семнадцать годиков, а в голове – пять. Они гуляют днем или вечером – в зависимости от погоды и необходимости сходить в магазин или больницу. Как мне кажется, преклонный возраст Лилии Федоровны и тяжелая умственная отсталость Мишеньки ограничивают круг их прогулок именно так. Я точно знаю, что от Мишеньки давно отказались его родители-алкаши, но с учетом того, что год назад они оба сдохли, отравившись суррогатом, на участь Лилии Федоровны это повлияло не так уж сильно. Я машинально открываю «левенбраун», обливая брызгами пальцы и отставляю банку. Лилия Федоровна, заметив мою физиономию в окне, некстати машет мне рукой. Как же не поздороваться с любезным соседом? Я бессмысленно улыбаюсь и машу ей в ответ липкой рукой, после чего снова хватаюсь за пиво – цепко, как за поручень в автобусе, потому что меня пробирает дрожь от тяжелого взгляда Мишеньки, направленного в мою сторону. Впрочем, дебильная улыбка на моем лице здорово сближает меня с ним. Отпив немного светлого фильтрованного, я задумываюсь. Интересно, кто из нас сейчас счастливее – Мишенька, который круглый год ходит в зимней шапке, чтобы не застудить уши, но ровным счетом ничем из окружающей действительности не загруженный, или я – со всем тем дерьмом, которое на меня навалилось и из которого я уже не выберусь чистым, хоть ты тресни?
По грязному асфальту вдоль дома с ворованной тележкой из «Карусели» гарцует местная мадам алкоголической натуры, и она активно болтает со своим спутником бомжеватого вида, и четко слышу фразу «они блокируют через компьютер связь», и от этого мне становится даже более жутко, чем от мишенькиного взгляда. Я отворачиваюсь в сторону тех самых домов, пытаясь разглядеть хоть малейшее движение в их окнах, но это совершенно бесполезно. Все эти окна – как звезды, погасшие миллионы лет назад и оставившие после себя лишь мчащийся сквозь вселенную свет. Просто декорация, за которой нет ничего. Ни единого важного человека. Ни единой родной души. Просто свет в квадратах.
Затяжка выходит слишком длинной, и я случайно поджигаю фильтр сигареты. Говорят, курение серьезно увеличивает вероятность рака. Это звучит, как аксиома, пока не понимаешь, что, скажем, Марли всю жизнь курил и действительно скопытился от рака одного пальца, но только потому, что отказался его оперировать. Диана никогда не курила, не пила и никогда при мне не материлась – единственный такой человек в моей жизни, уникум чистоты. И теперь она – пациентка Ветеранов 56. А я здесь – жив, здоров, цел и невредим. И где тут вред курения? Нам явно все что-то недоговаривают.
Мишенька подпрыгивает, чтобы поймать поднятый ветром с помойки пустой одноразовый пакет, и я слышу странное блеяние, которым смеется этот паренек, но мне кажется, что именно в этом…
Диана
…уже и не думают об этом. А я еще думаю. И очень кстати, что снова пришла Юля. Она хорошо выглядит, как мне кажется. Она накрашенная, стройная, носит парик, который смотрится естественно. А я вот не ношу. Может, мне тоже надо что-то такое? У Юли на сумке прикреплены ключи от машины – значит, она еще и ездит на своем авто, и это очень круто, как мне кажется, хотя я никогда не водила сама. Но она все равно очень печальная, хотя и пытается улыбаться, когда я подхожу. Я бы хотела сказать ей что-нибудь хорошее и веселое, но у меня ничего нет, только какие-то глупости из интернета, которые я все равно толком не запоминаю. Как-то даже неудобно говорить глупости такой серьезной девушке, как она. Я здороваюсь с ней и сажусь рядом, хотя стоять мне было удобнее – когда садишься, почему-то сильно колет в животе.
– Лизу сегодня увезли, – говорю я Юле, стараясь поддержать разговор.
– Может, у нее все будет хорошо?
– Не знаю, – вздыхаю, понимая, что Юля просто пытается ободрить меня и себя. – Она сильно плакала перед отъездом. Просила, чтобы ее подвели ко всем девочкам обняться. Ей тяжело.
Юля молчит. Может, зря я ей об этом рассказала? Лизу будут оперировать в Центре Алмазова, а потом она все равно умрет, примерно через полгода. Может, у Юли все лучше? Или наоборот? Я не могу по ней понять, хотя многое о ней знаю. Или мне это кажется многим, а для всех остальных – это пустяки.
– Сегодня приедет Миша. Он говорил, у него что-то интересное для меня.
Мне становится жутко неловко от того, что я это снова говорю. Словно чем-то хвастаюсь. А вдруг у Юли никого нет? Вообще никого! И она одна-одинешенька, а я хвастаю тем, что у меня есть любимый. Может, ей от этого так плохо? А, может, нет. Она кивает. А меня уже понесло, мне хочется говорить, потому что сегодня мне от этого еще не было больно в груди, как бывает иногда днями, когда ни слова не сказать.
– Я хотела ему сказать… Хотела рассказать, как мне тут живется, и… Но все так плохо.
В грудь снова простреливает острой болью. Я смотрю на пол, и снова к горлу подступает ком. Я словно упала с обрыва за долю секунды, словно вернулась в реальность от сна, в котором вдруг стало лучше. Но если я не скажу…
– Просто очень тяжело ходить. Я хочу ходить больше. Но мне так больно, знаешь, Юля?
– Да. Но это…
Ей, конечно, нечего сказать. А я могу. Мне просто нужно. Я бы даже попросила у нее прощения за это. Но она не поймет.
– А еще я забыла, какие вкусы у того, что едят. Представляешь? – вздыхаю, чтобы стало легче говорить. – Даже не могу вспомнить. Но это ничего, наверное. Я просто жду, чтобы мне рассказали, как там дела, снаружи. Здорово, когда к тебе приходят. К некоторым девочкам не приходят вообще.
Наверное, хватит уже. Я делаю ей больно. Просто я знаю, что ей проще поговорить с кем-то снаружи. Она могла бы что-то ответить мне, как-то подбодрить, но с ней что-то совсем не так. Не как обычно. И я убеждаюсь, что с ней что-то случилось. А еще я вспоминаю о том, что вышла сюда именно чтобы быстрее встретиться с моим любимым, а не чтобы доводить Юлю до белого каления, и нужно от нее отстать. У всех свои проблемы.
Я смотрю направо, в сторону двери, и мы обе молчим, секунды тянутся так медленно, что я успеваю пересчитать…
Миша
…но я просто молча киваю, и мы с Дианой уходим.
– Пока, Юля. Не грусти, – добавляет она своей знакомой – другой пациентке онкоцентра.
Та вроде как что-то говорит в ответ или просто кивает ей – мне, честно говоря, плевать. Диана крепче сживает мою руку, и мы медленно идем. Я держу ее крепко, но достаточно деликатно и стараюсь не торопиться – времени у меня достаточно. Считается, что в состоянии Дианы прогулки исключены, но я советовался с ее лечащим врачом – Петром Марковичем, – и выяснил, что это все крайне условно. Поэтому мы идем на выход из клиники – путь, который я прохожу за две минуты, занимает десять, но это не столь важно. Каждый раз, когда я осознаю хрупкость тела Дианы, поддерживаемого мной, меня пробирает дрожь, но я надеюсь, что она этого не замечает. Как и то, что меня слегка передернуло от горьковатого вкуса ее губ, когда я ее быстро поцеловал при встрече. Я не знаю причин многих вещей и не хочу знать некоторые из них. Это нормально.
На улице я стараюсь говорить с ней на отвлеченные темы, чтобы разбавить ее монотонные будни между процедурами и циклами сна. А еще я подготовил небольшой подарок, и надеюсь, что он ее порадует.
– Да он вообще смешной, – уже немного повеселев от обсуждения нашего общего знакомого, говорит Диана.
– Есть такое, – киваю, старательно выбирая темп ходьбы, удобный ей. – Он как-то делал ремонт в квартире. Так вот, я убедился – под кислотой для него поклеить обои на стену, на холодильник, на собаку – все одно. Он просто обклеил обоями все, что видел, сидел и лыбился, когда мы пришли помочь.
– То есть, он еще и вас просил помочь? – почти смеется Диана, несмотря на видимый дискомфорт.
– Да. Позвонил – говорит, ребята – помогите закончить с обоями, а то у меня неровно сидят, одному не поклеить нормально. Мы приехали с Андреем. Особенно неровно сидели на шкафу, потому что торчавшие оттуда шмотки он тоже поклеил.
Она не выдерживает и смеется так громко, что на нас оглядываются уныло бредущие по пандусу онкоцентра безликие прохожие. А я ощущаю себя хоть немного, но счастливее от того, что она сбежала из своего заключения. Я осторожно смотрю в ее голубые глаза и вижу, что сейчас они такие же живые, как и годы назад, несмотря на то, что она постоянно чувствует боль, которую до конца не заглушишь даже мощными обезболивающими.
Мы выходим на два метра за пределы территории диспансера, где нас уже ждет парень, которому я предварительно заплатил аванс за то, чтобы он привел к проходной свою ухоженную породистую лошадь, потому что знаю, как Диана любит лошадей – она просто визжала от удовольствия, когда каталась на них раньше. И сейчас она улыбается, восхищенно лепечет, гладит покорно стоящую в не совсем подходящем месте кобылицу, и мы фоткаемся на телефон втроем – я, Диана и лошадь – в разных вариантах. Но уже спустя пару минут Диана говорит, что у нее все расплывается в глазах, и я отдаю остаток денег парню с лошадью, и мы начинаем путь назад.
Все же, я не рассчитал с этой прогулкой, и назад в онкоцентр я уже приношу Диану на руках – на радость санитарам и дежурному врачу. Она приходит в сознание уже в палате и готова расплакаться от того факта, что даже прогулка до ворот и обратно стала для нее непосильным испытанием, но я успокаиваю ее, как могу.
А могу я не очень хорошо, но, видимо, само мое присутствие ей помогает, и мы переходим на отвлеченные темы.
– Везде в мире прекрасно. Даже здесь, на самом деле, – говорит она, пока я пытаюсь запомнить ощущение ее ладони, лежащей в моей.
– Ты еще многое увидишь. Может, о чем-то ты будешь думать иначе, – пытаюсь развить мысль так, чтобы не было скучно.
– Да ну. Не бывает плохих мест. Просто мы так их называем, чтобы туда не ехать. Потому что не можем.
– Но ты же не поедешь, я надеюсь, в какую-нибудь папуасную страну во время гражданской войны за золото? – с улыбкой парирую ей в ответ.
– А почему это? Потом приедешь за мной, чтобы освободить из плена. Вытащишь, и мы поедем дальше.
– Тогда говори, куда готовить визу. Чтоб не в последний момент, – целую ее ладонь – бледную и холодную, несмотря на то, что в палате тепло.
– Мне принесли большой альбом с классными профессиональными фотками самых красивых мест мира. Подружки. Буду смотреть вечером, – хватается она и улыбается.
А я хочу плакать и кричать, но делаю вид, что мне интересно все, что она говорит – каждое слово. Мне чертовски нелегко понимать, что она постоянно чувствует боль, осознает ее – даже сейчас, когда мы обсуждаем какие-то глупости. Когда она попала под нож с непроходимостью пищевода, боль тоже была, и она топила ее, но она могла выплыть на время. А сейчас она скорее задерживает дыхание, попадая под волну. Но то, что происходит сейчас, никто на ее месте не смог бы перенести более стойко.
– Мама с папой приедут через час, – как бы невзначай сообщает Диана.
Я понимаю, что нужно приступать к прощанию. Очень плавно.
После коротких переговоров с дежурным врачом по поводу соблюдения всех процедур, которые я обсуждал с Петром Марковичем, я торопливо ухожу из онкоцентра, спускаюсь по пандусу, нагло перепрыгиваю забор и иду на Ветеранов, но, пройдя метров пятьдесят в сторону метро, я замираю и хватаюсь за решетку забора и смотрю на полукруглое здание, словно думая, что бы с ним такого сделать. И ничего не приходит на ум. Только отчаянное желание остаться.
На стене рядом с остановкой напротив кто-то за ночь написал «Хочешь развести тараканов в голове? – Читай библию» – вчера еще этого не было. Сидя на остановке на Голикова, я пропускаю несколько автобусов до метро, пытаясь провалиться во временную яму, чтобы немного отдышаться, но ничего не выходит, и я встаю и шагаю к метро, надеясь, что по дороге мозги проветрятся, и я снова начну соображать ясно.
Дома я кричу и разбиваю настольную лампу об пол и бью ногами диван, игнорируя боль. За что? Да поди ты разберись. Что-то рвется наружу из меня, и мне самому это не очень нравится, но от себя не деться. Иногда я ненавижу эти походы в клинику, но в дни, когда их нет в моих планах, я ненавижу себя за то, что я не рядом с ней. Об этом же я думаю, когда мне приходится заночевать на Крестовском. Этим вечером мне совершенно нечем заняться, и я думаю о том, чтобы позвонить…
Лидия
…проглаживая ладонью смятую простынь и пытаясь отдышаться после выброса из странного утреннего сна. Кто-то может сказать, что это очень просто, но для таких выводов ему стоит проделать мой путь – не пропуская ни единого шажочка.
Я озираюсь вокруг и вижу вещи, которые мне не нравятся. Так давно, но так везде – по всей этой квартире, рассчитанной на семью с тремя детьми и солидным достатком, – и я не готова к борьбе с этим. Честно говоря, я сейчас вообще ни к чему не готова. После сумбурного вечера и приступа бессонницы, продлившегося до пяти утра, я совершенно не в форме, несмотря на то, что проспала семь часов кряду. Я нажимаю на потайную панель у изголовья кровати, и потолочные панели обращаются из белых в зеркальные, и я изучаю себя – абсолютно голую, распростертую по смятой мной в одиночку постели. У меня явно проблема с животом, но его пока нельзя трогать, потому что мой «пластик» настрого запретил мне что-либо делать, пока не приживутся новые грудные импланты. Чертова безопасность губит мои нервы, но это лишь дело времени. Мне даже интересно, за какие деньги этот еврей сделает мне все и сразу и не будет ныть, что так нельзя. Перекачать мне губы так, что пришлось делать обратную коррекцию – это можно, а живот подтянуть – нельзя. Он тонко намекнул на мой возраст – я уверена. Но черта с два он признается.
Губная помада отвратительно растерта по лицу. А вот и красный след на подушке. Все логично. Дребезг вибрирующего на столике телефона выводит меня из себя, и я перекатами добираюсь до края кровати и беру трубку, не глядя.
– Привет, красотка.
Черт, эта дурная привычка меня погубит. Это снова Михей
– Я сплю.
– Самое время готовиться к вечеринке, а не спать.