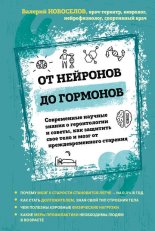Сын охотника на медведей. Тропа войны. Зверобой (сборник) Купер Джеймс Фенимор

– Знаете что, капитан, – обратился ко мне Рюб. – Послушайтесь старика. Когда спадет вода, спуститесь в ручей вместе с вашим Моро и идите к лагерю. Высокие берега закроют вас, и я ручаюсь, что вы пройдете незамеченным. Оставьте коня в воде, а сами отправляйтесь за вашей красавицей. Потом бегите к Моро, вскочите на него и мчитесь во всю прыть к нам. Мы будем в засаде с ружьями наготове и так угостим индейцев, что им не поздоровится!
Разумеется, лучше этого плана ничего нельзя было придумать, и я, не теряя времени, приготовился к отъезду. Сборы мои были недолгими, и, подождав, чтобы немного спала вода, я отправился в путь.
Товарищи сердечно простились со мной, пообещав жестоко отомстить индейцам, если я погибну. Рюб и Гарей проводили меня под прикрытием густого кустарника вниз к ручью. На прощание Гарей сказал мне:
– Не бойтесь, капитан: Рюб и я будем поблизости, и, как только услышим ваши выстрелы, мы сейчас же поспешим вам навстречу. Если же с вами случится что-нибудь худое, мы клянемся отомстить этим негодяям!
Простившись с друзьями, я направил Моро в ручей, и мы оба погрузились в воду. Хотя берег и был достаточно высок, чтобы скрыть нас от индейцев, я все-таки из предосторожности снял шапку с перьями и держал ее в руке. Таким же образом нес я и пистолеты, чтобы они не намокли.
Глубина ручья благоприятствовала мне: при более низком его уровне было бы больше шума и плеска, а теперь Моро по грудь в воде двигался почти бесшумно.
Я пробирался вперед чрезвычайно медленно. Мне приходилось идти против течения и вдобавок все время думать о том, чтобы держать свою голову и голову Моро ниже уровня берега. Для этого я должен был местами ехать, сильно наклонившись и пригнув морду лошади к самой воде.
Такой способ передвижения крайне утомителен, и я часто останавливался, чтобы отдохнуть.
Мне очень хотелось взглянуть, насколько я приблизился к лагерю, но я боялся высунуть голову даже на минуту: в такую светлую ночь меня легко могли увидеть. Я остановился, прислушиваясь. До меня донеслись из лагеря звуки голосов, значит, моя цель близка и нужно только выбрать удобное место для выхода из ручья. Судьба благоприятствовала мне. Проехав еще немного вверх по течению, я увидел переход, проложенный буйволами и дикими лошадьми.
Около этого перехода берег был так высок, что я мог безбоязненно оставить свою лошадь. Воткнув в дно ручья взятый с собой колышек, я привязал к нему Моро, а сам начал подниматься. Взобравшись наверх, я надел свой пестрый головной убор, пробрался благополучно между мустангами и оглянулся. Около меня никого не было. Вдалеке пылали костры, вокруг которых беспечно болтали и смеялись индейцы.
Я был в лагере команчей.
Глава XXVIII
Совет
Посреди лагеря возвышался единственный шатер, вероятно жилище предводителя. Перед ним горел громадный костер, около которого сидели группами пленные женщины и сновали краснокожие. Многие из последних были в мексиканских костюмах, похищенных ими во время набега.
– Значит, она в палатке, – подумал я и торопливо отправился к шатру, разыскивая свою невесту.
В эту минуту раздался голос глашатая, вызвавший всеобщее движение. Слов я, конечно, не понял, но в них, по-видимому, заключался призыв к чему-то торжественному и важному. В то время как дикари со всех концов лагеря потянулись к большому костру, я направился к рощице, находившейся позади шатра. Я шел медленно, подражая походке команчей.
Вероятно, это подражание было настолько удачным, что один встречный индеец окликнул меня: «Уаконо!»
– Ну, в чем дело? – спросил я по-испански, что несколько удивило индейца. Однако он понял меня и сказал:
– Ты слышишь призыв, Уаконо? Что же ты не идешь на совет? Хиссо-ройо уже там.
Я понял эту фразу благодаря жестикуляции индейца и потому, что случайно мне были известны слова «призыв» и «совет». Однако вторично ответить по-испански я не решился и был в растерянности, как мне избавиться от этого непрошеного собеседника. Мне пришла в голову блестящая мысль: приняв величественный вид, я сделал ему прощальный знак рукой, как будто мне неприятно было, что нарушили мои размышления.
Индеец нерешительно отошел, изумленный поведением своего приятеля, а я вскоре смешался с толпой, окружавшей большой костер. Встреча с индейцами убедила меня, что совет еще не состоялся, и, стало быть, я вовремя явился в лагерь. Но где же Айсолина?
Может быть, ее держат отдельно от других пленниц и она вовсе не в палатке, а спрятана где-нибудь в роще до окончания совета.
Последнее значительно облегчило бы выполнение моего плана. Все мужчины, вероятно, ушли на совет, и, возможно, я застану Айсолину одну. Но если даже при ней окажутся пять-шесть стражей, я легко с ними справлюсь с помощью двух моих револьверов. Приободренный такими мыслями, я проскользнул в рощу и принялся за поиски.
К счастью, деревья росли довольно редко, и я мог двигаться без всякого шума. Предположение мое оказалось неверным: не все мужчины пошли на совет. Многие из них сидели у костров вместе с пленницами.
Вся моя кровь закипела, когда я увидел, как эти негодяи обращаются с несчастными рыдавшими женщинами. Мне страстно захотелось броситься к этим беспомощным жертвам, но меня удержала мысль, что это помешает мне спасти Айсолину.
Индейцы не обращали на меня никакого внимания. Обойдя всю рощу, я нигде не нашел своей невесты. «Вероятно, она в палатке», – окончательно решил я и быстро направился туда.
Подкравшись к задней стороне палатки, я осторожно раздвинул ветки деревьев и заглянул внутрь. Передо мной была Айсолина, но от волнения я не сразу увидел ее.
Костер уже не пылал. Он горел ровным светом, бросая на весь лагерь фантастический красноватый отблеск. Вокруг костра сидели около двадцати дикарей, татуированных и облаченных в национальные костюмы. Очевидно, это были члены совета.
Остальные индейцы толпились несколько поодаль от них. Против входа в палатку на возвышенном месте сидела Айсолина со связанными ногами. Руки у нее были свободны. Лицо было обращено к судьям, так что я его не мог видеть.
За костром напротив Айсолины стоял белый конь прерий, прекрасный белый мустанг.
Отдельно ото всех стоял Хиссо-ройо. Этот белый выглядел, безусловно, более кровожадно и дико, чем сами команчи. Он тоже был татуирован. На лбу его красовалось изображение мертвой головы и костей, придававшее ему еще более свирепый вид.
Но где соперник Хиссо-ройо? По-видимому, он еще не явился, а может быть, как сын предводителя, ожидал начала заседания в палатке.
Принесли длинную трубку, которую каждый из членов совета, затянувшись, передавал своему соседу, чтобы трубка обошла весь круг. Я знал, что это означало открытие заседания.
Место, где я стоял, оказалось очень удобным для наблюдения. Я мог видеть все, оставаясь совершенно незамеченным.
В эти минуты мои мысли работали с необыкновенной силой. Я сразу схватывал всякую подробность, имевшую отношение к выполнению моего плана.
В первую же минуту мне стало ясно, что выкрасть пленницу на глазах всей этой толпы невозможно. А взять ее надо только открыто с помощью какой-нибудь смелой выдумки. Броситься теперь же к ней, освободить ее и бежать вместе? Но нет, этого делать нельзя. Она была слишком близко от Хиссо-ройо, который мог одним ударом ножа убить меня на месте.
Я тут же отказался от этой мысли, вспомнив к тому же совет Рюба: ничего не делать поспешно. Я зорко следил за всеми, временами бросая взгляды на Айсолину.
Робко оглядываясь по сторонам, она наконец повернулась и ко мне. О радость! – лицо ее не было обезображенным! Воцарившееся на время молчание было прервано голосом глашатая, объявившим об открытии заседания. Все происходило так торжественно и в таком порядке, что, если бы не варварские лица и дикие костюмы, можно было вообразить себя на заседании суда в каком-нибудь европейском городе. Глашатай трижды громко произнес имя Хиссо-ройо. «Белый индеец» выступил вперед, выпрямился и, сложив на груди руки, остановился в ожидании.
После непродолжительного молчания один из членов совета, очевидно распорядитель, встал и знаком пригласил Хиссо-ройо говорить.
– Братья! – начал Хиссо-ройо. – Речь моя будет короткой. Я предъявляю свои права на эту девушку и белого коня. Девушка – моя пленница и, следовательно, должна принадлежать мне. А конь – моя законная добыча. Кто может оспаривать мое право?
Хиссо-ройо умолк, выжидая.
Распорядитель снова поднялся и сказал:
– Хиссо-ройо предъявил свое право на мексиканскую девушку и белого коня. Пусть он скажет теперь, чем обосновывает это право.
– Братья и судьи, – опять заговорил Хиссо-ройо, – вы сами знаете, что требование мое справедливо. «Пленник принадлежит тому, кто захватил его», – так гласит наш закон. Он также и мой, потому что ваше племя – мое племя. Вы сами видели, как я первый поймал коня с помощью лассо. Следовательно, и конь, и всадница принадлежат мне. Вы меня приняли в свою среду, сделали воином, потом военачальником. Скажите, обманул ли я когда-нибудь ваше доверие?
В ответ послышалось единодушное отрицание.
– Я верю в вашу справедливость, – продолжал Хиссо-ройо, – верю, что вы признаете законность моих требований. Теперь пусть встанет тот, кто оспаривает мое право, – высокомерно заключил Хиссо-ройо и замолчал.
Распорядитель заседания подал знак, вслед за которым раздался пронзительный крик глашатая:
– Уаконо! Уаконо! Уаконо!
Это имя поразило меня, как молнией. Ведь Уаконо был я!
Так, значит, Уаконо – соперник Хиссо-ройо! Тот самый индеец, которого мы привязали к дереву и одежда которого была теперь на мне!
Глашатай повторил свой призыв. Ответом ему была мертвая тишина.
Среди индейцев было заметно недоумение и разочарование. Один я знал причину отсутствия Уаконо.
Неожиданный оборот дела еще усилил опасность моего и без того нелегкого положения. Я весь дрожал от волнения и, отпустив раздвинутые ветки, закрыл лицо. Так я боялся быть замеченным! Однако я скоро опомнился и снова решился выглянуть. В толпе заметно было движение, слышался шум и говор. В эту минуту из палатки вышел почтенный старик с совершенно белыми волосами (явление, редко встречающееся среди индейцев). Он сделал знак рукой, и все замолчали в ожидании.
– Братья! – начал старик. – Я, ваш вождь и отец Уаконо, обращаюсь к вам за праведным судом! Не милости пришел я просить для своего сына, а только справедливости. Всем вам известно, что Уаконо – храбрый воин. Его щит украшен многими трофеями, отнятыми у ненавистных белых. Кто из вас станет отрицать его мужество?
В толпе раздался утвердительный гул.
– Хиссо-ройо – тоже храбрый воин, и я так же, как и вы, уважаю его заслуги.
Толпа громко и одобрительно зашумела. Видно было, что ее любимцем был не Уаконо, а Хиссо-ройо. Отец Уаконо, очевидно задетый за живое, после минутного молчания закончил свою речь несколько враждебным тоном:
– Повторяю вам, я уважаю Хиссо-ройо за его храбрость, но… прошу вас, братья, выслушайте меня. Природа двойственна. В ней есть день и ночь, зима и лето, зеленые равнины и мертвые пустыни. Так же двойствен и язык Хиссо-ройо. Его речь двоится, как язык гремучей змеи, а верить ей… нельзя!
Хнссо-ройо даже и не подумал защищаться против этого, вероятно, вполне справедливого обвинения. Он только ответил:
– Если Хиссо-ройо лжет, пусть совет не верит ему, а выслушает лишь его свидетелей. Они докажут, что Хиссо-ройо прав!
– Пусть сначала говорит Уаконо! Где Уаконо? – кричали члены совета.
Еще раз послышался зов глашатая, но, разумеется, вновь безуспешно.
– Братья! – снова молвил предводитель. – Моего сына нет в лагере, он поехал зачем-то обратно по нашей тропе и, наверное, скоро вернется. Ввиду этого я прошу вас на время отложить суд.
Среди присутствующих пронесся неодобрительный шепот. Хиссо-ройо снова обратился к совету:
– Я прошу только справедливости. По нашим законам суд не может откладываться. Пленники должны кому-нибудь принадлежать, и я предъявляю на них права. У меня есть доказательства. У Уаконо их нет, вот почему он и отсутствует.
– Уаконо не отсутствует! Он в лагере! – раздался чей-то голос. Неожиданное известие поразило всех.
– Кто говорит, что Уаконо в лагере? – спросил предводитель.
Из толпы вышел индеец, принявший меня за Уаконо.
– Уаконо в лагере, – повторил он. – Я разговаривал с ним.
– Когда?
– Недавно!
– Где?
Индеец указал на место нашей встречи.
– Он шел вон туда и скрылся между деревьями. Потом я его больше не видел.
Это сообщение еще более удивило всех. Никто не понимал, почему Уаконо, находясь в лагере, не выступил в защиту своих прав. Или он совершенно отказался от пленницы и белого коня?
Отец Уаконо стоял молча, видимо, сильно смущенный. Несколько человек предложили обыскать рощу. Я замер от страха. Ведь если они это сделают, то непременно найдут меня, переодетого в костюм Уаконо, и убьют на месте или, скорее всего, замучают!
– Зачем нам искать Уаконо? – воскликнул Хиссо-ройо. – Он знает свое имя, и у него есть уши. Если хотите, позовите его еще раз.
Снова глашатай прокричал имя Уаконо, но ответа, естественно, не было.
Наступило долгое молчание. Наконец старший член совета встал, зажег трубку и передал ее своему левому соседу, этот следующему и так далее, пока трубка не обошла весь круг. Последний из куривших положил трубку в сторону и шепотом предложил вопрос своему соседу. Сосед отвечал ему также шепотом, потом спрашивал следующего и так далее, пока не были опрошены все.
После этого было громко произнесено решение суда. Лошадь присудили Уаконо, а девушку – Хиссо-ройо.
Объявив приговор, совет сейчас же разошелся. Остальные тоже разбрелись восвояси и вскоре забыли о совете.
Глава XXIX
Торжество победителя
Казалось, все были довольны решением совета, не исключая даже старого вождя.
На лице Хиссо-ройо появилась самодовольная улыбка, и он с торжествующим видом подошел к пленнице и заговорил с ней по-испански, не желая, чтобы другие поняли его слова.
– Итак, донна Айсолина де Варгас, – начал он, ухмыляясь, – вы слышали приговор суда?
– Слышала, – покорно ответила Айсолина.
– Теперь вы принадлежите мне! Надеюсь, вы довольны? Ведь я такой же белый, как и вы!
– Я довольна, – произнесла девушка тем же спокойным тоном.
Этот ответ очень удивил меня.
– Это ложь! – заметил Хиссо-ройо. – Вы лукавите предо мной, сеньорита! Еще вчера вы презирали меня. Почему же теперь?..
– Я ваша пленница и не имею права презирать вас.
– Вы правы. Вы не можете ни презирать меня, ни отказать мне. Любите вы меня или нет – вы моя!
Я хотел броситься на негодяя, заколоть его и освободить пленницу, но около костра были еще индейцы, которые могли мне помешать. Однако мучения мои становились невыносимыми, и я готов был уже ринуться вперед, но меня удержали слова Хиссо-ройо.
– Уйдем отсюда, – насмешливо обратился он к своей жертве. – Здесь слишком много народа. Я знаю в роще уютные уголки, покрытые мягкой муравой… Пойдем туда, моя красавица!
Как ни отвратительно мне было слышать это предложение, оно обрадовало меня, и я решил пока не трогаться с места.
– Но как же я могу идти за вами? – спросила спокойным голосом Айсолина, указывая на свои связанные ноги.
– Правда, я об этом не подумал, но мы сейчас поправим дело… Нет, я не верю вам! – вдруг воскликнул Хиссо-ройо. – Вы можете убежать от меня. Я придумал лучший способ. Приподнимитесь немножко. Вот так…
Дикарь обнял ее за талию и понес, приговаривая:
– Теперь скорее в рощу, моя красавица!
Удивляюсь, как я, видя все это, не бросился с ножом на негодяя! Меня удержала мысль, что дальше может представиться более удобный случай. Не выходя из-за деревьев, я быстро направился к тому месту, куда, по-видимому, шел Хиссо-ройо. Придя туда первым, я спрятался за дерево, держа в руке нож.
На полдороге Хиссо-ройо остановился, чтобы отдохнуть, но через короткое время уже вновь продолжал путь как раз к тому месту, где стоял я. Вдруг он споткнулся и с криком упал на землю. Между похитителем и жертвой произошла короткая борьба, после которой Айсолина вскочила на ноги с окровавленным ножом в руках. Разрезав связывавшие ее путы, она бросилась бежать, а я за ней.
Хиссо-ройо между тем громко кричал, призывая на помощь. В лагере началась суматоха, и около пятидесяти дикарей бросились в погоню за нами.
На нашем пути оказался белый конь прерий, которого погонщик вел за лассо к мустангам.
Поравнявшись с конем, Айсолина схватилась за лассо. Индеец старался выдернуть веревку из ее рук, но перед его глазами блеснул окровавленный нож, и он отступил. Айсолина в один миг перерезала лассо, вскочила на коня и помчалась во весь дух.
Индеец послал ей вдогонку стрелу, но, по-видимому, промахнулся, так как конь продолжал скакать, не снижая скорости. Пробегая по лагерю, я поднял лежавшее на земле длинное копье и вонзил его в спину погонщика прежде, чем тот успел вынуть вторую стрелу. Вынув копье, я продолжал бежать, стараясь не потерять из виду белого коня.
– Уаконо! Уаконо! Уаконо! – кричали индейцы.
Я бросился к ручью, чтобы отыскать своего коня, но, к моему удивлению, Моро там не было, а на его месте стоял мустанг индейца. Кто подменил лошадь? Кто увел Моро? Вероятно, это сделал Рюб. Но зачем? Однако раздумывать было некогда. Я вскочил на мустанга и, выехав на равнину, увидел толпу мчавшихся за мной дикарей. Через несколько минут передо мной был Хиссо-ройо, намного опередивший остальных преследователей.
– Негодяй, это ты специально все подстроил! – закричал он по-индейски. – Уаконо! Трус! Ты поплатишься жизнью за это!.. Пленница…
Я не дал ему договорить. Пронзенный моим копьем, Хиссо-ройо свалился на землю.
Между тем толпа индейцев была уже близко. Повернув лошадь им навстречу, я остановился, поднял руку и громким голосом закричал на их родном языке:
– Я Уаконо! Смерть тому, кто приблизится ко мне!
Не знаю, насколько правильно были произнесены эти слова, но они, во всяком случае, достигли цели. Мои преследователи остановились, а я погнал своего мустанга во всю прыть.
Глава XXX
Последняя погоня
С радостью видел я, что белый конь мчится по направлению к холму, на вершине которого сидели в засаде мои товарищи. «Они увидят его и перехватят», – подумал я. Однако расстояние между мной и Айсолиной все увеличивалось. Я уже понял, что на мустанге мне ее не догнать. То ли дело, если б это был Моро!
Едва успел я это подумать, как увидел Рюба, несшегося ко мне на моей лошади.
– Садитесь скорее на своего коня и догоняйте ее! – кричал старый охотник. – Мы тоже скоро нагоним вас!
Я только теперь понял хитроумный поступок Рюба. Если б я выехал из лагеря на своем коне, это возбудило бы подозрение индейцев и они продолжали бы гнаться за мной.
Айсолина и я неслись по открытой, освещенной луной равнине. Расстояние между нами мало-помалу уменьшалось. Белый конь двигался все медленнее и наконец, к моему удивлению, упал на землю вместе со своей всадницей.
Через несколько минут я был около своей любимой, соскочил с коня и приблизился к ней. Айсолина уже вскочила на ноги.
– Дикарь, не подходи! – кричала она, сжимая в руке нож.
– Айсолина!
– Генрих!
Не в силах произнести ни слова, мы упали друг другу в объятия. Вокруг была тишина. Слышно было лишь трепетное биение наших сердец.
К нам подъехали мои спутники, и мы снова поспешили в путь, боясь новой погони. Отъезжая, мы бросили прощальный взгляд на бездыханный труп белого коня степей, в боку которого торчала смертоносная стрела индейца.
К ночи мы нашли приют в небольшой роще акаций. Мои усталые спутники скоро заснули. Я же опять не мог спать, любуясь спящей Айсолиной. Ее головка покоилась на моих коленях, густые косы свесились в сторону, открывая прелестные маленькие ушки.
Итак, палач пощадил их! Какое счастье!
Моим глазам представилась лишь крошечная царапина в тех местах, где разбойниками были сорваны золотые серьги. Вот почему текла кровь, которую видел Сиприо. Я чувствовал себя слишком счастливым, чтобы спать.
Это была наша последняя ночь в прериях. На следующий день, еще до заката солнца, мы были в американском лагере.
Эпилог
О племени команчи мы больше ничего не слышали. Рассказывали только о странной смерти индейского воина Уаконо, труп которого был найден обхватывающим ствол дерева…
Что касается Иджурры, то он пал от руки Холингурса, а Эль Зорро был убит Уитли. Оба мои лейтенанта, собрав отряд, отправились против герильяс, победили их и освободили пленных, среди которых находился и дон Рамон де Варгас. Он тотчас же отправился в американский лагерь, куда и прибыл как раз вовремя, чтобы приветствовать свою дочь и будущего зятя при их возвращении из «предсвадебного путешествия по прериям».
Джеймс Фенимор Купер
Зверобой
Глава I
…Есть наслажденье в бездорожных чащах, Отрада есть на горной крутизне, Мелодия – в прибое волн кипящих, И голоса – в пустынной тишине. Людей люблю – природа ближе мне, И то, чем был, и то, к чему иду я, Я забываю с ней наедине. В своей душе весь мир огромный чуя, Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда
События производят на воображение человека столь же весомое действие, что и время. Тому, кто много поездил и многое повидал, кажется, будто он живет на свете давным-давно. Чем богаче история самыми разными, важными и забавными, происшествиями, тем быстрее ложится на нее отпечаток древности. Иначе трудно объяснить, почему летописи Америки уже успели приобрести такой почтенный облик. Когда мы мысленно обращаемся к первым дням колонизации, все тогда происходившее кажется нам далеким и туманным, тысячи перемен отодвигают в нашей памяти рождение наций к эпохе столь отдаленной, что она как бы теряется во мгле времен. А между тем, четырех жизней средней продолжительности было бы достаточно, чтобы передать из уст в уста в виде преданий все, что цивилизованный человек совершил в пределах американской республики. Хотя в одном только штате Нью-Йорк жителей больше, чем в любом из четырех самых маленьких европейских королевств и во всей Швейцарской конфедерации, прошло всего лишь двести лет с тех пор, как голландцы, основав свои первые поселения, начали выводить этот край из состояния дикости. То, что кажется таким древним благодаря множеству перемен, становится знакомым и близким, как только мы начинаем рассматривать его в перспективе времени.
Этот беглый взгляд на прошлое должен несколько ослабить удивление, которое иначе мог бы почувствовать читатель, рассматривая изображаемые нами картины, а некоторые добавочные пояснения воскресят в его уме те условия жизни, о которых мы хотим здесь рассказать. Исторически вполне достоверно, что всего сто лет назад такие поселки на восточных берегах Гудзона[77], как, например, Клаверак, Киндерхук и даже Покипси[78], не считались огражденными от нападения индейцев. И на берегах той же реки, на расстоянии мушкетного выстрела от верфей Олбани[79], еще до сих пор сохранилась резиденция младшей ветви Ван-Ренселеров[80] – крепость с бойницами, проделанными для защиты от того же коварного врага, хотя постройка эта относится к более позднему периоду. Такие же памятники детства нашей страны можно встретить повсюду в тех местах, которые ныне слывут истинным средоточием американской цивилизации. Это ясно доказывает, что все наши теперешние средства защиты от вражеского вторжения созданы за промежуток времени, немногим превышающий продолжительность одной человеческой жизни.
События, описанные нами, перенесут читателя в середину XVIII века – между 1740 и 1745 годами. В те времена обитаемые части нью-йоркской колонии ограничивались четырьмя приморскими графствами по обеим сторонам Гудзона, от устья до водопадов при его истоке, и еще несколькими соседними областями по рекам Мохок[81] и Скохари[82]. Широкие полосы девственной почвы простирались вглубь Новой Англии[83], скрывая в лесной чаще обутого в бесшумные мокасины туземного воина, шагавшего по таинственной и кровавой тропе войны. Вся страна к востоку от Миссисипи представляла в ту пору обширное пространство лесов, окаймленных по краям весьма незначительной частью обработанной земли, пересекаемой блестящею поверхностью рек и озер.
Природа неизменна в своих законах. Время сева и жатвы чередуется с незыблемой точностью. Столетиями знойное летнее солнце согревало вершины благородных дубов и вечно зеленых сосен этих девственных пустырей, как вдруг в глубине этого леса раздались голоса перекликавшихся людей. Был июньский день. Листья высоких деревьев омывались потоками света, отбрасывая длинную тень. Перекликались, очевидно, два человека, потерявшие дорогу. Наконец один из них, пробираясь по лабиринтам густого кустарника по краю болота, вышел на поляну, образовавшуюся в лесу от опустошений бури и огня.
– Вот здесь можно перевести дух! – воскликнул лесной путник, отряхиваясь всем огромным телом, как большой дворовый пес, выбравшийся из снежного сугроба. – Ура, Зверобой! Наконец-то мы увидели дневной свет, а там и до озера недалеко.
В это время появился и другой странник, который, продираясь через хворост, отодвигал руками сучья, цеплявшиеся за его платье.
– Ты знаешь это место? – спросил Зверобой. – Или просто кричишь от радости при виде солнца?
– Да, приятель, место знакомое и я, сказать правду, радехонек, что наткнулся на солнечный луч. Теперь мы ухватились за все румбы компаса, и некого будет винить, если мы опять потеряем их из виду. Не будь я Гарри Непоседа, если не здесь в прошлом году делали привал охотники за землей[84]. Они провели здесь целую неделю. Видишь, вот остатки хвороста, который они палили, и я очень хорошо знаю тот ключ. Да, молодой человек, я люблю солнце, хотя и без его лучей отлично понимаю, что теперь двенадцать часов, минута в минуту. Мой желудок – превосходный и самый верный хронометр, которого не отыскать во всей Колонии. Его стрелка указывает на полдень, стало быть, нам надо развязать котомку и завести часовой механизм еще часов на шесть.
Они оба принялись за необходимые приготовления к умеренному обеду, приправой к которому служил великолепный аппетит.
Давайте воспользуемся перерывом в их беседе, чтобы дать читателю некоторое представление о внешности этих людей, которым суждено играть немаловажную роль в нашей повести. Трудно встретить более благородный образчик мужественной силы, чем тот из путников, который назвал себя Гарри Непоседой. Его настоящее имя было Генри Марч, но так как обитатели пограничной полосы заимствовали у индейцев обычай давать людям всевозможные клички, то чаще вспоминали его прозвище Непоседа, чем его подлинную фамилию. Нередко также называли его Гарри Непоседой. Обе эти клички он получил за свою беспечность, порывистые движения и чрезвычайную стремительность, заставлявшую его вечно скитаться с места на место, отчего его и знали во всех поселках, разбросанных между британскими владениями и Канадой[85]. Шести футов четырех дюймов росту[86], Гарри Непоседа был при этом очень пропорционально сложен, и его физическая сила вполне соответствовала его гигантской фигуре. Лицо – под стать всему остальному – было добродушно и красиво. Держался он очень непринужденно, и, хотя суровая простота пограничного быта неизбежно сказывалась в его обхождении, величавая осанка смягчала грубость его манер.
Зверобой, как Непоседа называл своего товарища, и по внешности и по характеру был совсем иным. Он был сравнительно тщедушен и тонок, хотя мускулы его обличали необыкновенную ловкость, если не чрезвычайную силу. Его молодое лицо нельзя было назвать особенно красивым, и только выражением своим оно подкупало всякого, кто брал на себя труд вглядеться в него более внимательно. Выражение это, свидетельствовавшее о простосердечии, безусловной правдивости, твердости характера и искренности чувств, было поистине замечательно.
Сначала даже могло показаться, что за простодушной внешностью скрывается затаенная хитрость, однако при ближайшем знакомстве это подозрение тотчас же рассеивалось.
Оба товарища были еще молоды. Непоседе казалось на вид лет двадцать восемь, Зверобою – не более двадцати пяти. Одежда их не заслуживает особого упоминания, надо только заметить, что она была сшита главным образом из оленьих шкур, – явный признак того, что ее владельцы проводили жизнь в бесконечных лесах, на самой окраине цивилизованного общества. Тем не менее в одежде Зверобоя чувствовалась забота о некотором щегольстве, особенно заметная на оружии и на всем охотничьем снаряжении. Его карабин находился в полной исправности, рукоять охотничьего ножа была покрыта изящной резьбой, роговая пороховница украшена подобающими эмблемами и насечкой, а ягдташ обшит индейским вампумом[87]. Наоборот, Гарри Непоседа, по свойственной ли ему небрежности или из тайного сознания, что его наружность не нуждается в искусственных украшениях, был одет кое-как, словно выражая этим свое презрение ко всяким побрякушкам.
– Ну, Зверобой, теперь за дело! Докажи, что твой желудок работает мастерски, как и у всех этих делаваров[88], среди которых ты был воспитан, – сказал Гарри, отправляя в рот огромный кусок дичи, которого европейскому крестьянину хватило бы на целый обед. – Докажи, любезный… своими зубами докажи этой лани, что ты человек в полном смысле слова. Своим карабином ты уже доказал это отличнейшим образом.
– Не большая честь для человека хвастаться тем, что он врасплох убил бедную лань, – отвечал его скромный товарищ, принимаясь за обед. – Если бы это был ягуар или дикая кошка, можно было бы, пожалуй, и похвастаться. Делавары прозвали меня Зверобоем вовсе не за силу и храбрость, а только за верный глаз и проворство. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но все же было бы безрассудством выдавать это за храбрость.
– Твои делавары, любезный, кажется, не большие храбрецы, – пробормотал сквозь зубы Гарри Непоседа, отправляя в рот новый солидный кусок мяса. – Эти проклятые минги[89] скрутили их по рукам и ногам, как беззащитных овечек. Не так ли?
– Нет, вовсе не так, – с жаром возразил Зверобой. – Это дело надо понять хорошенько и не перетолковывать вкось и вкривь. Минги – самые вероломные, коварные дикари, и весь лес наполнен их обманом и хитростью. Нет у них ни честного слова, ни верности своим договорам. А с делаварами я прожил десять лет и очень хорошо знаю, что они умеют быть героями, когда нужно.
– Хорошо, Зверобой, если мы коснулись этого предмета, то будем говорить откровенно, по-человечески. Ты уже давно заслужил славу отличного охотника и прославился во всех лесах. Скажи мне: нападал ли ты когда-нибудь на человека и способен ли ты стрелять в неприятеля, который подчас не прочь сломить тебе шею?
Этот вопрос вызвал в душе юноши своеобразную борьбу между желанием похвалиться и честностью.
Чувства эти отразились на его простодушной физиономии. Борьба длилась, впрочем, недолго. Сердечная прямота восторжествовала над ложной гордостью.
– Скажу по совести, Гарри, никогда я не имел поводов к убийству. Я жил между делаварами в мирное время, а по моему мнению, преступно отнимать жизнь у человека, раз он с тобою не в открытой войне.
– Как! Разве тебе не случалось сталкиваться у своих капканов с каким-нибудь мошенником, который собирался украсть твои шкуры? В этом случае, я полагаю, ты бы разделался с ним сам, своими собственными руками: не тащить же его к судье и не заводить тяжбы, всегда связанные с хлопотами и большими издержками.
– Я не расставляю ни капканов, ни сетей, – с достоинством отвечал охотник. – Я добываю себе на жизнь карабином и с этим оружием в руках не боюсь ни одного мужчины моих лет между Гудзоном и рекой Святого Лаврентия. На шкурах, которые я продаю, всегда бывает еще одна дыра, кроме тех, что создала сама природа для зрения и дыхания.
– Ай, ай, все это хорошо на охоте, но никуда не годится там, где речь идет о скальпах и засадах! Подкараулить и подстрелить индейца – это значит воспользоваться его же собственными излюбленными приемами. К тому же у нас теперь законная, как ты говоришь, война. Чем скорее ты смоешь такое пятно со своей совести, тем спокойнее будешь спать хотя бы от сознания, что по лесу бродит одним врагом меньше. Я недолго буду водить с тобой компанию, друг Натти, если ты не найдешь зверя немного повыше четырех футов, чтобы попрактиковаться в стрельбе.
– Наше путешествие, Гарри, скоро окончится, и мы можем разойтись, если тебе угодно. Меня ждет друг, который не постыдится вести знакомство с человеком, не убившим никого из людей.
– Хотел бы я знать, что завело сюда этого щепетильного делавара, – бормотал Марч, не скрывая своего неудовольствия и недоверчивости. – В каком месте, говоришь ты, молодой вождь назначил тебе свидание?
– Возле небольшого утеса на краю озера, где, как меня уверяли, индейские племена имеют обыкновение заключать договоры и закапывать в землю свои боевые томагавки. Я часто слышал от делаваров об этом утесе, хотя еще ни разу не видел его. Об этой части озера все еще спорят между собой минги и делавары. В мирное время оба племени здесь ловят рыбу и охотятся за зверем, так что этот клочок составляет пока общую собственность.
– Общую собственность – вот оно как! – вскричал Гарри Непоседа, заливаясь громким смехом. – Желал бы я знать, что скажет на это Том Хаттер или Плавучий Том, который пятнадцать лет сряду один владеет озером исключительно и нераздельно! Не думаю, что он охотно уступит его делаварам или мингам.
– А разве колонии будут смотреть хладнокровно на этот спор? Вся эта страна должна же составлять чью-нибудь неотъемлемую собственность. Ведь колонисты, по-видимому, не знают пределов для своей жадности и готовы захватить все места, какие только удастся.
– Ну, сюда, надеюсь, никогда не забредет нога колонистов. Им и не узнать об этом захолустье. Старина Том не раз мне говорил, что им в тысячу лет не разведать об этих местах, и я со своей стороны решительно убежден, что Плавучий Том никому на свете не уступит своего озера.
– Судя по всему, что я от тебя слышал, Непоседа, этот Плавучий Том не совсем обыкновенный человек. Он не минг, не делавар и не бледнолицый. По твоим словам, он владеет озером уже очень давно. Что же это за человек?
– Старый Том скорее водяная крыса, чем человек. Повадками он больше походит на это животное, чем на себе подобных. Иные думают, что в молодые годы он гулял по морям в команде известного пирата Кида, которого повесили раньше, чем мы с тобой успели родиться. Том поселился в здешних местах, полагая, что королевские корабли никогда не переплывут через горы и что в лесах он может спокойно пользоваться награбленным добром.
– Это скверно, Гарри, очень скверно. Никогда нельзя спокойно наслаждаться плодами грабежа.
– У всякого свой вкус и своя натура, любезный Зверобой. Я знал людей, которым жизнь была не в жизнь без развлечений, знавал и других, которые лучше всего чувствовали себя, сидя в своем углу. Знал людей, которые до тех пор не успокоятся, пока кого-нибудь не ограбят, знавал и таких, которые не могли себе простить, что когда-то кого-то ограбили. Человеческая природа очень причудлива. Но старый Том сам по себе. Награбленным добром, если только оно у него есть, он пользуется очень спокойно. Живет себе припеваючи вместе со своими дочками.
– Ах, так у него есть дочери! От делаваров, которые охотились в здешних местах, я слышал целые истории про этих молодых девушек. А мать у них есть, Непоседа?
– Когда-то была. Но она умерла и была брошена в воду года два назад.
– Что ты сказал? – спросил Зверобой, с изумлением смотря на своего товарища.
– Умерла и брошена в воду. Кажется, ясно: я говорю не на тарабарском наречии. Старый проказник, распрощавшись с нею, как нежный супруг, похоронил свою жену в озере. Копать могилу, видишь ли ты, неловко среди этих корней, а может быть, он сделал это из соображения, что вода чище смывает грехи с человеческого тела. Этого уж я точно не знаю.
– Стало быть, бедная женщина была слишком легкомысленна? – спросил Зверобой.
– Не думаю, чтобы чересчур, но, разумеется, грешки за ней водились. Я думаю, что Джудит Хаттер была достойной женщиной, насколько это возможно для женщины, жившей так долго вдали от церковного звона, но, по-видимому, Том считал, что потрудился для нее совершенно достаточно. Правда, у нее в характере было немало стали, и так как старик Хаттер – настоящий кремень, то подчас между ними вспыхивали искры. Но, в общем, можно сказать, что они жили довольно дружно. Когда они начинали ссориться, слушателям удавалось порой заглянуть в их прошлое, как можно заглянуть в темные чащи леса, если заблудившийся солнечный луч пробьется к корням деревьев. Но я всегда буду почитать Джудит, потому что она была матерью такого создания, как Джудит Хаттер, ее дочки.
– Да, делавары упоминали имя «Джудит», хотя и произносили его на свой лад. Судя по их рассказам, не думаю, чтобы эта девушка могла бы мне понравиться.
– Тебе? Это очень забавно! – воскликнул Гарри Непоседа, покраснев в запальчивости от того равнодушия, с каким его товарищ отозвался о девушке. – Как ты смеешь соваться, когда речь идет о Джудит Хаттер? Ты – молокосос, у которого молоко на губах не обсохло! Не беспокойся, любезный: Джудит Хаттер не захочет и взглянуть на тебя.
– Вот что, Гарри, теперь июнь, ни одно облачко не заслоняет от нас солнца, и горячиться бесполезно, – отвечал Зверобой спокойным тоном. – Я не советую тебе выходить из себя. У каждого свои мысли, и я надеюсь, что белка может думать о дикой кошке, что ей угодно.
– Разумеется, если только дикая кошка не проведает об этом. Впрочем, ты молод и еще несмышленыш, поэтому я прощаю тебе твое невежество. Послушай, Зверобой, – с добродушным смехом прибавил он после недолгого размышления, – послушай, Зверобой, мы с тобой поклялись быть друзьями и, конечно, не станем ссориться из-за легкомысленной вертушки только потому, что она случайно уродилась хорошенькой, тем более что ты никогда не видел ее. Джудит создана для мужчины, у которого уже прорезались все зубы, и глупо мне опасаться мальчика… Что же говорили делавары об этой плутовке? В конце концов индеец может судить о женщинах не хуже, чем белый.
– Они говорили, что она хороша собой, приятна в разговоре, но слишком любит окружать себя поклонниками и очень ветрена.
– Сущие черти! Впрочем, какой школьный учитель может потягаться с индейцем там, где речь идет о природе! Некоторые думают, что индейцы пригодны только для охоты и для войны, но я говорю, что это мудрецы и разбираются они в мужчинах так же хорошо, как в бобрах, а в женщинах не хуже, чем в тех и других. Характер у Джудит в точности такой! Говоря по правде, Зверобой, я бы женился на этой девчонке еще два года назад, если бы не две особые причины, и одна из них – в этом самом легкомыслии.
– А какова же вторая? – спросил охотник с видом человека, которого мало интересует этот разговор.
– Я в то время не был уверен, любит ли она меня. Плутовка слишком хороша и знает себе цену. Не растут на этих горах деревья стройнее ее стана, и ты не увидишь серны, которая прыгала бы с такою легкостью. Но при всем этом ее недостатки слишком резко бросаются в глаза. Было время, я клялся никогда не видеть этого озера.
– И вот ты опять идешь к нему?
– Ах, Зверобой, ты еще новичок в этих делах, и тебе трудно растолковать, на что бывает похож человек, когда любовь овладевает его сердцем. Ты такой благонравный, как будто никогда в жизни не покидал города. Я – иное дело. Какая бы мысль ни пришла мне в голову, мне всегда хочется выругаться. Если бы ты знал Джудит, как знаю ее я, то понял бы, что иногда простительно чуточку посквернословить. Случается, что офицеры из фортов на Мохоке приезжают на озеро ловить рыбу и охотиться, и тогда это создание совсем теряет голову. Как она начинает тогда рядиться и какую напускает на себя важность в присутствии своих ухажеров!
– Это не подобает дочери бедного человека, – ответил Зверобой степенно. – Все офицеры дворянского происхождения и на такую девушку, как Джудит, могут смотреть только с дурными намерениями.
– Вот это-то меня и бесит. Джудит должна винить только себя и свою дурь, если я не прав. Но, вообще говоря, я склонен считать ее скромной и порядочной девушкой, хотя даже облака, плывущие над этими холмами, не так переменчивы, как она. Вряд ли довелось ей встретить дюжину белых, с тех пор как она перестала быть ребенком, а поглядел бы ты, как она форсит перед офицерами!
– Зачем же ты о ней думаешь, Генри Марч? На твоем месте я давно бы убежал в лес от такой женщины.
– Советовать легко, приятель, но не так-то легко выполнять советы, коль скоро дело идет о Джудит. Признаться, я подумывал увезти ее насильно и жениться на берегу Мохока в какой-нибудь трущобе, куда авось не попал бы ни один из этих офицеров. У старика Тома осталась бы еще дочка. Не красавица, правда, и не очень умная, но зато примерная смиренница.
– Есть, стало быть, еще другая птичка в этом гнезде? Вот что! Делавары, однако, говорили только о Джудит.
– Не мудрено. Вспоминая красавицу Джудит Хаттер, забывают о Хетти Хаттер. Хетти всего лишь мила, тогда как ее сестра… Говорю тебе, юноша, другой такой не сыщешь отсюда до самого моря! Джудит бойка, речиста и лукава, как индейский мудрец, а бедная Хетти в лучшем случае только «как скажете, батюшка».
– Краснокожие особенно уважают таких слабых умом людей: они думают, что «злой дух» не может поселиться в них, – заметил Зверобой.
– Ну, «злому духу» не о чем хлопотать возле бедной Хетти. Офицеры поговаривают, что она всегда старается идти в должном направлении, но иногда не знает, как это сделать. Нет, бедная Хетти совсем дурочка и постоянно сбивается с прямого пути то в одну, то в другую сторону. Старый Том очень любит девчонку, да и Джудит тоже, хотя сама она бойка и тщеславна. Не будь этого, я бы не поручился за безопасность Хетти среди людей такого сорта, какой иногда попадается на берегах озера.
– Мне казалось, что люди здесь появляются редко, – сказал Зверобой, видимо обеспокоенный мыслью, что он так близко подошел к границам обитаемого мира.
– Это правда, парень, едва ли два десятка белых видели Хетти. Но двадцать заправских пограничных жителей – охотников-трапперов и разведчиков – могут натворить бед, если постараются. Знаешь, Зверобой, я буду в отчаянии, если, вернувшись после шестимесячной отлучки, застану Джудит уже замужем…
– Девушка призналась тебе в любви или как-нибудь обнадежила тебя?
– Вовсе нет! Право, не знаю, в чем тут дело. Ведь я недурен собой, парень. Так мне, по крайней мере, кажется, когда я гляжусь в родник, освещенный солнцем. Однако я никогда не мог вынудить у этой плутовки обещание выйти за меня замуж, не мог добиться от нее ласковой улыбки, хотя она готова хохотать целыми часами. Если она осмелилась обвенчаться в мое отсутствие, то узнает все радости вдовства, не дожив и до двадцати лет.
– Неужели, Гарри, ты способен сделать что-либо худое человеку только потому, что он пришелся ей по душе больше, чем ты?