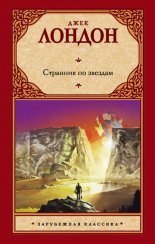Декамерон шпионов. Записки сладострастника Любимов Михаил
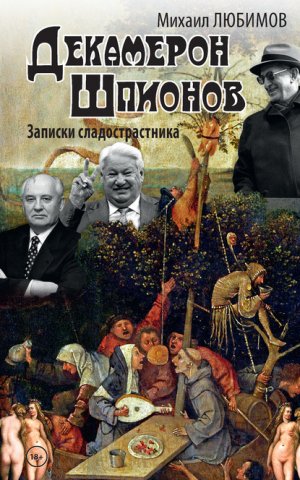
Хват понял с полуслова проблему и тут же предложил организовать все у него на квартире. Возможно, еще кого-нибудь пригласить? Зачем? Посидим втроем, потолкуем…
Запрятав в карман пиджака ядовитый порошок, Осоргин прибыл в гости точно вовремя (он патологически не выносил любое опоздание), прогулялся по комнатам и задержался на кухне, прикидывая свои дальнейшие действия. Средних размеров миска, из которой питался дог, была пуста: Хваты кормили его в определенные часы. Однако что мешало гостю взять кусок со стола и угостить собаку? Обычное дело, кто из нас не испытывает добрых чувств к животным? Нина делала последние приготовления, Осоргин и Хват выпили водки (никаких виски, никаких креветок, все русское), датский дог и его приятель персидский кот сидели рядом и не обращали друг на друга никакого внимания.
— Ростоу мне звонил раз пять, все приглашал на ланч, — докладывал Аркадий. — Как мы договорились, я деликатно отказывался.
— Тебе не надо с ним связываться. Все-таки ЦРУ это наш объект проникновения, у тебя хватает и своих дел…
А сам все думал, что придется травить пса, — противно было боевому офицеру, заслуженному разведчику совершать такую мерзость. Что за идиотизм? Интересно, а что если бы кто-нибудь отравил бы его кота? Он даже задохнулся от гнева, да он убил бы негодяя, задушил бы собственными руками! Чокнулись, выпили, чокнулись, выпили. Нина чуть прихлебывала из рюмки и часто выходила на кухню, боясь, что переварятся пельмени. И тут конфуз: пес обхватил ногу резидента и сделал ее объектом своего патологического вожделения, пришлось его выставить на кухню. Приняли еще по несколько рюмок.
— Что-то я перепил, — заметил Осоргин, приготовившись к решительному броску. Закусил ветчиной, но дожевывать не стал, а сделал озабоченное лицо и направился в туалет. Достал порошок и вдруг стало безумно жалко пса, брата меньшего, даже сердце сжалось, словно родного человека убивать собирался. Да ну его к черту, идиота председателя! Пусть сам травит, а не указания дает! А как же долг? Ведь это не личное, а государственное дело. Приказ следует выполнять… Нет, не буду, не хочу быть мерзавцем! Душа разрывалась, но Осоргин все же сыпанул на изжеванную ветчинку, сыпанул чуть-чуть, самую малость для утешения чекистской совести, вышел на кухню и сунул псу кусок, тот жадно сожрал его, крутя благодарно хвостом. Выпили кофе с коньяком, и резидент мирно отправился домой, пожелав хозяевам спокойной ночи…
Хват проснулся рано утром от дикого крика жены, он бросился на кухню и увидел ее рыдающей над Антоном, лежавшим на боку и беспомощно моргавшим глазами. Срочно вызванный ветеринар констатировал паралич конечностей — гуманизм Осоргина сыграл злую шутку… В семье Хватов наступил траур, все разговоры были только о датском доге, Нина потеряла за неделю килограммов десять…
— Хорошо, что мы успели сделать фотографии, — докладывал Иссам на конспиративной квартире Смизерсу. — Вы не представляете, что происходит на квартире. Оба плачут, Хват ходит сам не свой, бедная женщина даже перестала есть…
— Все это совсем некстати, — говорил Смизерс. — Я должен сделать вам замечание, Иссам. Зачем вы рассказали об этом деле Фрэнку Ростоу?
— Но вы же союзники, вы же товарищи по оружию! — искренне удивился Иссам. — Я не знал, что у вас секреты друг от друга…
«Какая сволочь, — думал Смизерс, — продажная арабская скотина!»
После явки объект английских проклятий отправился на автомобиле на другой конец Каира, где в своем «опеле» его ожидал Осоргин.
— Вот вам деньги, — начал он деловито. — Когда англичане планируют вербовку Хвата?
— Не знаю. Сколько тут?
— Пять тысяч долларов.
— Но вы же обещали восемь! — улыбка впервые сошла с его лица.
— Мы — пролетарское государство и экономим деньги рабочих и крестьян. К тому же эти фотографии большего не стоят. Где гарантии, что это не монтаж? — Осоргин говорил жестко и безапелляционно, он знал, как работать с арабами.
Лучше пять тысяч, чем ничего, и Иссам безропотно взял конверт…
Союзники бились над другим вопросом: как вытащить Хвата на контакт, если от встреч с американцем он отказывался?
— Сделаем так, — говорил Ростоу, — вы пригласите Хвата к себе домой на ланч, а я неожиданно появлюсь к десерту. Ваша Мэри в это время будет на работе, а вы по моему сигналу выйдете в другую комнату. Только подпоите его хорошо…
— Не устроит ли он скандал? — забеспокоился Смизерс.
— Не беспокойтесь, в молодости я был боксером…
Нашли хороший предлог: Смизерс звонит Хвату как собачник собачнику. Весть о тяжелой болезни черного дога уже облетела весь дипкорпус, англичанин высказывает свое сочувствие и предлагает лекарство, которым он лечил своего сеттера, у которого однажды отнялась нога. Если Хват заедет к нему домой, он готов передать лекарство…
Так и сыграли на следующий день. Военный атташе несколько удивился, но, узнав о прекрасных свойствах лекарства, не колеблясь, пообещал прибыть на квартиру. Резидента КГБ он решил не информировать: опять начнет свое о готовящихся провокациях, в конце концов, он только возьмет лекарство, за это подарит англичанину пару бутылок водки, и точка. Здоровье собаки превыше всего, да пусть хоть весь КГБ встанет заслоном, черт бы его подрал!
На квартире у Смизерса все было готово к бою, Ростоу сидел в машине недалеко от подъезда и хорошо видел, как у дома запарковалась машина Хвата. Раздался звонок, и Смизерс, подавляя волнение, изобразил живую добродетель и впустил Аркадия в дом. Ирландский рыжий сеттер мирно лежал на ковре, выпили по виски, закусили сыром.
— Чудесный стилтон! — хвалил сыр военный атташе. — А я-то думал, что англичане едят только овсянку и яичницу с беконом.
— Все это было давно, но Англию испортил континент, — шутил Смизерс. — А сейчас в любом лондонском супермаркете вы можете купить даже котлеты по-киевски… Надеюсь, вашему прекрасному псу поможет лекарство.
— Вы даже не представляете, как я вам благодарен! — расчувствовался Хват, считавший Смизерса серой мышью и скользкой змеей, ему было приятно, что ошибся, нет ничего прекраснее общения с добрыми и отзывчивыми людьми!
Англичанин тем временем взял вазу с цветами и переставил ее на подоконник — сигнал, знакомый всем школьникам, бегающим на шпионские фильмы. Ростоу тут же выскочил из машины, позвонил в дверь. Смизерс сделал удивленное лицо, но пояснил, что перед отъездом в отпуск к нему заезжают попрощаться друзья. Хват настолько размягчился, заполучив лекарство, что вообще не обратил внимания на звонок, наконец Нина обретет покой, а через месяц-другой пора и в отпуск, в санаторий имени Клима Ворошилова — полное воздержание от спиртного, диета, подъем в семь, утренняя пробежка, морские и солнечные ванны, гуляние по терренкурам, черт побери.
— Извините, что без предупреждения, Дэвид, — гудел в коридоре Ростоу, подкрепляя легенду, — но я случайно оказался в этом доме у своего приятеля и решил пропустить у вас молта. О, у вас гость! Мой старый друг! Здравствуйте, Аркадий, очень рад вас видеть! Я вам не помешал, джентльмены? — Ростоу нервничал и несколько суетился.
— Что мы можем сделать с натиском представителя супердержавы? — горько заметил Смизерс, пытаясь оживить атмосферу весьма бледным английским юмором.
— Разве Штаты супердержава? Одна видимость. Все государства переживают триумф, а потом умирают. Как и мы, смертные. Все мы на вид мощны, а внутри — труха. Вспомните Тутанхамона: он держал в узде весь Египет и был грозою женщин. А недавно в национальном музее я видел его презерватив. Размером с мизинец! Вот вам и гигант секса! — Ростоу неестественно захохотал, приглашая всех участвовать в этом пире веселья.
— Я пойду вымыть руки, — скромно сказал Дэвид, выскользнул из комнаты и тут же прильнул к замочной скважине.
— Как странно, что я вас тут застал, — продолжал свою роль великий актер. — Почему вы отказываетесь от ланча? Неужели русские подозрительны в отношении американцев?
Хват уже кожей профессионала почувствовал заговор и напрягся.
— У нас заболел датский дог и приходится за ним ухаживать. Извините, я уже засиделся, и мне пора… Где Дэвид?
Ростоу с удивлением констатировал, что совершенно обессилел от этой игры, все варианты мягкого перехода от светского разговора к вербовке мгновенно улетучились, в голове стоял туман. Он вытащил фотографии и дрожащей рукой положил их на стол.
— Мы предлагаем сотрудничество, Аркадий, — сказал он хрипло, почти теряя сознание от волнения. Больше он не смог вымолвить ни слова и прильнул к стаканчику виски, с ужасом слыша, как стучат о него его зубы. Боже мой, какой пассаж! Неужели он трус? Слава богу, что этот английский заморыш сидит в соседней комнате, как мышь под веником!
Военный атташе глянул на фото и смертельно побледнел. Несколько секунд он сидел молча — Ростоу казалось, что он слышал удары его сердца. Затем встал (американец подумал, что если Хват ударит снизу вверх, то придется вставлять новую челюсть), сунул фото в карман и твердым шагом, словно при смене караула, вышел из комнаты. Резко, как в дурном кино, взревел мотор и завизжали колеса. Хват медленно прорывался через автомобильные пробки, собственно, руль сжимал робот, мысли военного атташе были совсем далеко, вспоминался бал в суворовском училище, на котором он впервые увидел Нину, скромную школьницу с легкой походкой и обволакивающими голубыми глазами, ее соломенного цвета волосы, пахнувшие то ли сиренью, то ли геранью. Не может быть! Наверняка это монтаж, умело сделанный мерзкий монтаж! Не внушай себе ерунду, полковник, все это правда, разве ты сам иногда не чувствовал по глазам дога, что он влюблен в твою жену? Разве тебе не было противно, когда она иногда ласкала его пузо? Руки до боли сжимали руль, пиджак и рубашка насквозь промокли от пота…
Смизерс влетел в комнату, дрожа от волнения:
— Поехали к нему! У меня дурное предчувствие!
— Успокойтесь, Дэвид, это обычная работа! — Ростоу уже оправился после потрясений и старался держаться, как Джеймс Бонд после прыжка на парашюте из горящего самолета. — Дайте ему подумать, он оценит ситуацию и согласится. Это азы разведки, никто не соглашается сразу! Дайте ему пережить шок!
— Поехали к нему! — заорал Смизерс. — Немедленно! Я слышал и видел, как вы клали в штаны, хватит играть героя!
— Подумайте об интересах дела! — тоже повысил голос Ростоу. — Надо выждать! Мы же с вами разведчики!
— Мы с вами говно, говно, говно! — Это была истерика. — И наши службы полное говно! Если вы не поедете со мной, я отправлюсь один! — Дэвид буквально вытолкнул Ростоу на улицу и посадил рядом с собою в машину…
А Хват все гнал и гнал, никак не мог добраться до дома, в голове — Нина, дог, казармы, плачущие чехи в Праге, обступившие танки, снова Нина, соломенного цвета пышные волосы, падающие на плечи, пахнувшие… чем? Прекрасные голубые глаза, как они смотрели на дога! Не стал ожидать лифта, забыл о нем, помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступени. Нина открыла дверь, отшатнулась в ужасе. Постаревший, бледный человек с остекленевшими глазами, он молча бросил ей в лицо фотографии, прошел в комнату, достал из письменного стола револьвер и решительно направился на кухню.
Антон молча глядел на него грустными глазами, словно предчувствуя конец.
— Не надо! — закричала Нина, вцепившись в плечо мужа, но Хват уже выстрелил прямо в грустные глаза, он стрелял и стрелял, пока не разрядил всю обойму, слезы бежали по его лицу. А потом стряхнул Нину с плеча, больно схватил ее за руку, вывел в коридор, выбросил на лестницу, она упала, но тут же вскочила с разбитых колен и заметалась, натыкаясь на стены, побежала вниз по лестнице, пока не ударилась о дверь, выходившую на общий балкон…
Около съежившегося комочка быстро собиралась толпа, появился дворник-араб, он что-то кричал и объяснял. Василий Осоргин вышел из подъезда и застыл. На полной скорости подлетела машина со Смизерсом и Ростоу, они вышли на тротуар, но подходить к трупу не стали. Оглушительно сигналя, подъехала скорая помощь, тело погрузили на носилки, волосы соломенного цвета выбивались из-под простыни и развевались на ветру. Машина рванула, помчалась по улицам, не переставая сигналить.
Дворник-араб уже успел сбегать за тряпками и водой, собрал в кучку мозги, накрыл их газетой, тщательно смыл кровь с асфальта, бормоча что-то под нос. Толпа устала наблюдать и разошлась, солнце быстро высушило асфальт, и он заблестел, словно ничего не произошло, все в мире продолжало жить, как и прежде: пробежал мальчишка, жуя на ходу; пролетел изящный фиакр с хохотавшей европейской парочкой. В банановые листья дунул ветерок, и они нежно зашуршали. Взгляды Ростоу и Осоргина пересеклись, сошлись воедино, разбежались и встретились снова. Американец подошел к резиденту КГБ.
— Какое несчастье! — сказал он, чуть заикаясь от волнения. — Давайте поедем куда-нибудь и выпьем, Базиль!
— Давайте! — сказал Осоргин, и все трое прошли в машину.
День восьмой
Я отдыхал. В каюте одуряюще благоухало маслом «Царица Хатшепсут», говорят, это была красавица фараонша, выдававшая себя за мужика, ходила она с искусственной бородой и приказывала чеканить монеты с ее изображением. Поймал себя на том, что уже скучаю по только что ушедшей Розе, словно она исчезла навсегда или, не дай бог, умерла и я обречен на тоску до гробовой доски. А тут не просто тоска, тут осознание, что ты — лишь затерянный в океане островочек, одинокая пальма в бескрайней пустыне. Я взял со столика Сальвадора Дали и раскрыл его, некоторые абзацы были отчеркнуты карандашом явно рукою Розы. «Пук есть искусство, и, следовательно, как утверждали Лукиан, Гермоген, Квинтилиан и прочие, суть вещь весьма полезная. Так что умение пукнуть кстати и ко времени куда важней, чем об этом принято думать». Или (отчеркнуто красным карандашом!): «В одном приходе некий тип, пользуясь правом феодала, долгое время требовал и, возможно, продолжает требовать и по сей день полтора пука в год от каждого. А египтяне сделали из пука божество, фигуры которого и поныне еще показывают кое-где в кабинетах. Древние из того, с большим или меньшим шумом выходили у них пуки, извлекали предзнаменования относительно ясной или дождливой погоды… Пуки дифтонговые, полувокальные, чистые, с придыханием, средние, немые, или самые вонючие, провинциальные, домашние, девственные, пуки мастеров ратных подвигов, юных дев, замужних дам». Боже ты мой! Не смейся надо мной, милейший Джованни, тебе еще предстоит узнать всю страшную подоплеку этого невинного на вид чтения, представляю, как ты ахнешь и пожалеешь меня, когда узнаешь все.
Раздался стук, по спертому дыханию и колыханию комбинезона за дверью я определил: Марфуша.
— В чем дело? Я же просил не беспокоить меня!
Откровенно говоря, Джованни, я предполагал, что, зафиксировав уход прекрасной Розы, она решила восстановить свои утраченные права. Сочная грудь выпирала из сарафана так, что казалось, сейчас затрещит и лопнет ситец, но лицо несло печать озабоченности и даже сострадания.
— Вы кричали во сне… очень громко…
— Что за чепуха, я давно проснулся и читаю.
— Это было два часа назад или раньше…
Хитрая бестия, придумала эту бодягу и думает, что я поверю. Боялась. Но не меня, а Розы. Возможно, кто-то и кричал, дело обычное в любовных утехах, процесс ведь болезненный.
Я позавтракал и позвонил Батову, заверившему меня, что поиски Гуся проходят успешно и в моей помощи нет никакой необходимости. И чудесно. И пускай. Теплоход стоял на рейде в Макарьево, все мои подопечные, еле-еле продрав очи к завтраку, собирались побродить по этим богоугодным местам.
Но где же Роза? Боже, как я к ней привязался! Интересно, что бы сказал Юрий Владимирович, если бы узнал о том, что я посвятил ее во все тонкости «Голгофы»? Наверняка расстрелял бы дорогой Учитель. Но хватит каяться, думай о работе! Какую же свинью подложить Западу? Как воспримет это народ? Как они втянулись в эту треклятую заграницу. Помнится, как толпами штурмовали «Макдоналдс», самую низкопробную столовку, как неумело рвали зубами тошнотворные бургеры. Нажрались под завязку, но не остановились, устремились на пляжи дешевых Египта и Турции, будто нельзя позагорать на берегу Москва-реки! Как возмутить эту публику? А что если инспирировать передачу всех недр с ископаемыми в руки международных транскорпораций? Или отдать Сахалин? Но не японцам, а китайцам. Нет, всем это уже до фени, некоторые даже возликуют.
В разгар моих мудрствований явилась Роза, одетая в купальник РОЗОВОГО цвета. Боюсь, что кисть моя просто не сможет описать два крохотных лоскутка, прикрывавших ее бюст, и трусики, вздымавшиеся от избытка волос. Оказалось, что с утра она впитывала в себя солнце на бреге матушки Волги, тело ее покраснело так, что в загаре померкли веснушки, темная рыжина выгорела и блестела, словно только что начищенный медный самовар. Когда я поделился с ней мыслью о продаже недр, она лишь развела руками.
— Ты оторвался от народа, Петруша! Веками людям вбивали в головы, что недра принадлежат государству и не имеют к ним никакого отношения, с какой стати возмущаться из-за продажи их на Запад?
— Допустим, ты права. А если инспирировать оккупацию страны НАТО? Это нетрудно сделать — ведь вокруг масса людишек, дети которых женаты или замужем за детьми генералов НАТО или членов западных правительств. Вспомни гнев народный в подобных случаях: Ивана Сусанина, Минина и Пожарского! — я заходил по каюте, словно уже возглавил народное ополчение.
— Твоя наивность, извини меня за грубость, граничит с глупостью. Когда ты прекратишь жить в мире иллюзий? Сусанин вообще был дураком и заблудился сам. Минин и Пожарский не прочь были захватить власть и сами создали бучу.
— Разве наш народ не выступит против иностранцев?
Тут она захохотала, налила в бокал «Синглтона из Очройска», поцеловала меня в лоб и, сбросив купальник, принялась скатывать на бедре сигару. О, эти худые, подвижные бедра! Эти изящные повороты кисти! Хотелось слиться с ней, но он воткнула в рот гигантскую сигару и с наслаждением задымила.
— Существуют, конечно, психи, считающие, что от русских ведет начало все человечество, — продолжала Роза. — Помнишь гипотезы о поселениях руссов в Арктике и Якутии, где в каменном веке якобы было жарко, как на печи. После наступления льдов — уход руссов в другие края. Везде руссы, даже немцы — это племя северных руссов. Ведические книги, культ богов и идолов, затем Владимир, затянувший народ в православие… Ерунда все это! Можно придумать еще сотню таких парадигм. Не будем ходить так далеко, начнем с Петра Великого, были ли после него русские цари? Существовал ли русский двор? Все русские цари либо немцы, либо помесь немца с варягом, как последний император Николай. Правили Россией разные лефорты, бироны, витте, клейнмихели… кто угодно — только не русские. После Октябрьской пришло время евреев от Троцкого и Зиновьева до Кагановича, главные русские, вроде Молотова, женаты были на еврейках. Может, Иосиф Виссарионович был русским? Или Никита, отомстивший России передачей Крыма Украине? Жена Леонида была еврейкой, извини меня, но даже у твоего любимого Юрия Премудрейшого такие уши, что только недотепа примет его за русского… Есть ли русская нация вообще?
Во время этого монолога сигара потухла, она выхватила из коробка спичку и чиркнула о свою желтоватую пятку. Представь, Джованни, спичка воспламенилась, с таким феноменом я не сталкивался никогда в жизни! Пожалуй, нечто подобное умел проделывать лишь Учитель, открывавший пиво ногтем мизинца, пяток своих из приличия он даже в сауне не показывал.
— Так что же делать? Может, отменить деньги вообще? — сказал я. — Это создаст хаос, породит недовольство…
— Нонсенс! У большинства денег давно нет. Или хранятся за бугром. Наоборот, это воспримут положительно, как своего рода снижение цен… Народ до сих пор вспоминает многократные снижения цен при Иосифе Грозном, о репрессиях давно забыл, а об этом помнит.
— Так что же делать? Прости за этот вечный вопрос.
— Ты помнишь пятую новеллу Боккаччо об Андреуччио из Перуджи? — и достала «Декамерон».
«Испытывая естественную потребность, он открыл дверцу, где в узком проходе на двух перекладинах, шедших от одного дома к другому, прибито было то, что мы часто видим между двумя домами, несколько досок, и на них устроено сиденье; одна из этих досок и свалилась вместе с Андреуччио».
Поверь, Джованни, я был настолько изумлен организацией туалетного дела во Флоренции (в то же время этому опыту стоит поучиться нашим муниципальным властям, обрекшим граждан на подъезды и дворы), что не сразу вник в положение Андреуччио, барахтавшегося… как бы сказать поделикатнее?.. ну ты понял.
— Дело в том, Петюня, что вся мотивация дальнейших действий этого итальяшки определяется пребыванием в вонючей яме, и он не может пережить этого даже после того, как его вымыла и уложила с собой одна вдова.
— К чему ты клонишь?
— А ты не понимаешь?
— Не совсем.
— Это плохо. Хорошо, представь себя на месте Андреуччио. Будешь ли ты возмущен или нет?
— Еще бы! Но какое отношение все это имеет к «Голгофе»?
— Самое прямое, — она помолчала. — Необходимо забросать население экскрементами. Вот тебе ответ на этот вечный русский вопрос!
— Ты что, шутишь? — у меня даже сперло дыхание от возмущения.
— Ничего подобного. Народ не реагирует на лозунги, обещания, реформы, он уже привык к своему жалкому положению. Но внутри его еще живет гордость гражданина великой державы. Ты обратил внимание, что можно покрыть человека последними словами (когда ты последний раз ездил на троллейбусе?), но по-настоящему он озлится и начнет реагировать, лишь когда дашь ему по харе. Слова — одно, они эфемерны, физическое воздействие — другое, оно материально. Это особенность национального характера. Поверь, когда народ начнет захлебываться в дерьме, когда оно потечет по телу и провоняет все вокруг ad nauseam, только тогда он всколыхнется и вернется в коллективное общество.
Признаюсь, Джованни, что лишь только Роза выдвинула свою смелую идею, я сразу же вспомнил ее отметки о пуках в книге Дали, которые глубоко запали мне в мозги. А что если она права? Учитель всегда призывал к нестандартным решениям.
Чайки мельтешили за окном и мешали сосредоточиться. Вдруг я почувствовал, что по спине у меня ползет что-то скользкое, я резко повернулся и увидел Розу с фаллоимитатором в руке, она водила им по моей спине так нежно, что я тут же задрожал от вожделения. Судя по твоим монашкам и монахам, дружище, дальше огурцов и моркови их воображение не заходило, поэтому поясню, что в нашем веке некоторые фаллоимитаторы технически совершеннее «мерседеса», имеют несколько скоростей и разные частоты колебаний. Убежден, что с такими новинками значительно уменьшилось бы число самоубийств у твоих вечно влюбленных и страдающих женщин, а какой-нибудь Габриотто не умирал бы в объятиях своей возлюбленной Андреолы, а счастливо жил бы с искусственным влагалищем, приобретенным в секс-шопе.
Я впился в ее губы… Грудь ее колыхалась и гудела, будто это мотор, который вот-вот вознесет нас к небу!!! Дрожь была такой сильной, что я боялся рухнуть с нее на пол!!! Дикий крик пронесся над матушкой-Волгой, напуганные чайки ринулись в стороны, испуская мелкое дерьмо на лету… Третий удар! ГОЛ!!!
Я очнулся, Роза исчезла, в каюте одуряюще пахло горькой лавандой, дымом сожженного лавра и засохшими гелиотропами — в этот раз мы натирались маслом «Ночь перед Рождеством».
Уже наступило время наших интеллектуальных забав, и мы направились в музыкальный салон. На сегодняшний вечер на байку был брошен славный Орел, по этому поводу он надел на себя голубой блейзер с красной гвоздикой в лацкане и белые брюки (в Сызрани такой наряд произвел бы фурор!), его аккуратно прикрытая лысина светилась, как волшебная лампа Аладдина.
Новелла о том, что послам приличествует вручать верительные грамоты, а не бегать по столице с дымящимся наперевес
…Где пышных бедер полукруг,
Приподнятых в любовном раже,
Упругий зад, который даже
У старцев жар будил в крови,
И скрытый между крепких ляжек
Сад наслаждений и любви?
Франсуа Вийон
Целуем, щупаем смазливых
И харкаем в глаза каргам.
Александр Полежаев
Осенний ветер, урча и погоняя обрывки газет и желтые листья, выпорхнул из-за угла улицы Горького на Тверской бульвар и насмешливо дунул в юбку Шахназ, только лишь затворившей дверцу своего бежевого «пежо». Роскошный агрегат и его не менее роскошная обладательница, словно магнитом, притянули к себе взоры всех бабушек и мам с чадами, расположившихся на скамейках бульвара.
Москва пятидесятых в чреве своем выглядела отнюдь не убого: оптимистично высились «Известия», переглядываясь со скульптурой на крыше здания с «Арменией». Барские особняки слабо сопротивлялись новой архитектуре и выглядели приживалами, Пушкин, еще на Тверском, навевал лирику, в «Елисеевском» торговали слабосоленой семгой и крабами, которые тогда не котировались у населения. По улице Горького редкой струйкой текли «Победы» и трофейные «опели», кособокие костюмы с накладными плечами и фронтовые шинели…
И тут бежевое «пежо» с элегантной турчанкой в белых, по локоть перчатках. И не просто элегантной, но и умопомрачительно красивой и без всякой чадры и прочих азиатских выкрутасов. Богачка, вкусившая Сорбонну по совету папы — бывшего премьера, чуть не ставшая феминисткой, если бы не брак с Кемалем Тюркменом, тогда заместителем министра иностранных дел, вскоре назначенным послом Турции в Москве.
Конечно, Москве ох как не хватало парижского лоска и раскрепощенности, однако Большой, Третьяковка, постоянные банкеты и — что немаловажно для эрудированной турчанки — эмансипированные нравы делали жизнь вхолодной столице вполне сносной, а порою даже великолепной. Вот и сейчас Шахназ добралась на грохочущем лифте до седьмого этажа, испытывая вполне приятные ощущения, ибо ей предстояло примерить платье у портнихи Марии Николаевны, великой русской искусницы, рекомендованной ей женой одного министра.
Искусница уже ожидала высокую гостью, лучась от счастья: в те славные времена к редким иностранцам относились трепетно и считали их друзьями первого в мире государства рабочих и крестьян. Растягивая наслаждение, Шахназ любовалась собой в зеркале, поворачивалась и разворачивалась, крутясь на каблуках, Мария Николаевна, словно Гойя, завершающий портрет короля Фердинанда, наносила мелом последние мазки на картину и манипулировала булавочками, радушно улыбаясь всем своим открытым русским лицом.
Лишь только дверь за прелестной турчанкой затворилась, лик портнихи мгновенно приобрел пинкертоновские черты, она подлетела к телефону и сдавленным голосом выдохнула: «Она уже вышла». Сей важный сигнал был принят человеком на втором этаже того же дома, который тут же помахал из форточки газетой, знак этот привел в боевую готовность молодого человека. Он уже минут пятнадцать, профессионально спустив колесо у «пежо», болтался неподалеку, разглядывая щебечущих актрис, выбегавших после репетиции из служебного входа театра, разжалованного сталинскими культуртрегерами из дегенеративного Камерного в «имени Пушкина». Молодой человек выделялся из народной массы беретом — признаком принадлежности к интеллектуальной среде — и белым, явно заграничным плащом, не говоря уже об исполненной дум физиономии с не спившимися чертами и густой шевелюрой.
Взгляд темных очей турчанки, вышедшей из подъезда, тут же упал на спущенное колесо, она растерянно открыла багажник, сняла белые перчатки и разыскала насос. Гораздо сложнее дело обстояло с домкратом, о необходимости которого прекрасная дама слышала, но никогда не видела его в глаза. Уже решила вернуться обратно и по телефону поднять на ноги посольскую обслугу, когда услышала за спиной бархатный баритон:
— Могу я вам помочь?
— Что вы! Нет-нет! Зачем? — Шахназ засмущалась и замахала руками, но баритон не отступил, энергично сбросил белый плащ, обнажив рыжий вельветовый пиджак, достал домкрат и насос и опытной рукой за пять минут восстановил статус-кво колеса. Все это время супруга посла мучилась в сомнениях: каким образом отблагодарить неожиданного спасителя — ведь в посольской инструкции для служебного пользования отмечалось, что загадочные русские денег от иностранцев не берут и вообще бегут от них, как от огня, опасаясь железной пяты КГБ. Как увязать все это с традициями бакшиша? Тем не менее в душе Шахназ победил Восток, и она взрыхлила содержание своей сумочки, мурлыча слова благодарности.
— Нет-нет! — вскричал молодой человек и театрально замахал руками, словно ему, как Иуде, предлагали тридцать сребреников. Пришлось сунуть смятые бумажки ему в карман, но по лицу его бродила такая печаль, что турчанке стало неудобно: в конце концов он действовал бескорыстно и, судя по внешнему виду, совсем не нуждался в лишних рублях. Шахназ порылась в сумочке и достала свою визитную карточку, молодой человек принял ее, внимательно изучил, вздев свои смолистые брови, еще больше засмущался, поняв, с кем имеет дело, и суетливо вырвал из записной книжки листочек, на котором и начертал свои координаты.
— Меня зовут Дмитрий Колосков, я художник…
— Очень приятно. Надеюсь увидеть вас на одном из приемов в нашем посольстве… Муж и я будем очень рады.
Размен улыбок, поклонов и прощальных помахиваний. Прилетевшая из сказки помчалась дальше на «пежо».
«Живут же, сволочи!», — подумал Колосков, быстренько поднялся туда, откуда махали газетой, и предстал перед волкообразным (до такой степени, что однажды, когда он заболел флюсом и обмотал щеки, дочка приняла его за серого волка) мужчиной, явно родившимся со знаком руководителя на лбу. Геннадий Коршунов им и был, возглавляя английский отдел второго главного управления КГБ, — за этим невинным названием скрывалась советская контрразведка.
— Что ж, старт дан… — довольно сухо заметил Геннадий Николаевич, остудив Колоскова, рассчитывавшего на поздравления по поводу успешно проведенной комбинации.
— Она обещала пригласить меня на прием, — сказал Колосков, все еще не теряя надежд на похвалы. — И сунула какие-то рубли.
— Есть повод, — заметил немногословный Коршунов. — Сбегай в «Елисеевский».
Колосков не заставил себя упрашивать, тем более что желание начальства — это закон.
…Восточные женщины уважают мужчин и не бросают слов на ветер, подобно их западным эквивалентам: через месяц Дмитрий Колосков обнаружил в почтовом ящике нестандартный узкий конверт с приглашением на прием в турецкое посольство — еще один маленький успех. О приеме Колосков был наслышан через агентуру в Министерстве культуры, именно это почтенное заведение явилось виновником торжества, подготовив проект соглашения с маленьким соседом, которого можно было разнести в порошок одной атомной бомбой — вот бы порадовались предки, натерпевшиеся от янычар и в защите Балкан, и в Крымской войне.
Посол и Шахназ приветствовали гостей недалеко от входа. Зал уже наполнился тонким духом культуры, особенно хорошо пахли артистки в самых немыслимых нарядах, одна даже сжимала в руках сумочку из серебряной кольчуги, наследство прабабки; мужчины как на подбор надели темные костюмы и такие же галстуки. Колосков позволил себе явиться в вельветовом пиджаке, как подобает вольной богеме. Подошел к послу с Шахназ и был обласкан. С чисто восточной любезностью посол обрушил на художника, точнее, скромного майора КГБ, целый водопад благодарностей за вызволение жены из беды и даже пригласил в Стамбул на уикенд, что привело художника-майора в страшное смущение. Светская Шахназ, взяв Дмитрия под руку, повела его к другим гостям. Что может быть приятнее представлений, улыбок, расшаркиваний и соединения бокалов в едином аккорде?
В свете рамп лучилась от счастья знаменитая чета Ивановских: классик советской литературы Николай Иванович в строгом костюме со значком лауреата Сталинской премии и Звездой Героя Социалистического Труда и Римма Николаевна, стареющая, но вполне съедобная актриса Малого театра в черном платье со смелым декольте и в бриллиантах с головы до пят. Друг турецкого народа и его литературы Николай Иванович, кстати, не прочитавший ни одного турецкого автора, но хорошо знавший многие имена, как вице-председатель общества советско-турецкой дружбы, развивал эту дружбу с другом-послом.
— Как работается, дорогой мой? — спрашивал Кемаль, тоже не читавший ничего советского и тем более Ивановского, но осведомленный, что Россия дала миру Толстого и Достоевского. — Надеюсь, ваш следующий роман получит Нобелевскую.
— Ради бога, Кемаль, не накликайте беду. Неужели вы хотите, чтобы меня постигла судьба этого бездарного Пастернака? Вы читали его «Доктора Живаго»? — небольшого роста, худощавый Ивановский очень напоминал постаревшего петушка с хохолком.
— Увы, не успел. Говорят, что хороший роман…
— Что вы! Типично антисоветская стряпня! Ни композиции, ни художественных образов, вообще ничего! — Ивановский не читал запрещенный роман, однако уже не раз выступал в «Правде» с его острой критикой, попробуй не выступи: отрежут не только от третьесортного турецкого посольства, но и от всего Запада и особенно от Парижа, который так любила чета. Серьезный разговор о литературе несколько затянулся, на рукопожатие к послу устремились новые гости.
— Скоро мой вечер в Колонном зале. Надеюсь, вы почтите меня своим вниманием? — с этими словами Римма Николаевна, кокетливо изогнувшись, утянула супруга в сторону, да и бриллианты заслуживали показа самой широкой публике.
На прощание Колосков любезно пригласил чету Тюркмен к себе в мастерскую на скромный бал бедных художников.
— Вас не будет смущать присутствие иностранцев? — деликатно поинтересовался посол, неплохо знавший советские нравы. — Ведь власти, если я не ошибаюсь, не поощряют контактов с иностранцами.
— Боюсь, что эти слухи преувеличены, господин посол. Власти, естественно, не поощряют тех, кто борется с советской властью. Меня же политика не интересует, есть проблемы жизни и смерти, искусства и любви… вот это моя стихия.
Тут Колосков говорил истинную правду, не до политики было: он держал на связи дюжины две красивейших и умнейших актрис, служивших Отчизне не на живот, а на смерть, если, конечно, последнее не понимать буквально, а рассматривать, как жертву в виде визита с иностранцами в ресторан, а иногда и в апартаменты. Работа, между прочим, адская, Колоскову иногда приходилось проводить по четыре-пять встреч в день — нагрузка колоссальная, если учесть дамские капризы, опоздания, вечные жалобы, стремление что-нибудь урвать и даже горючие неподдельные слезы.
Через пару недель посольский «мерседес», тяжело переваливаясь в арбатских переулках, въехал во двор с голубятней посредине, куча битого кирпича перекрывала подъезд, и посол еще раз проверил правильность адреса. Сливкам турецкого общества были невдомек изощренные вкусы московской богемы: сначала нечто вроде ада — вонючий подъезд, исхоженные со времен Рюрика ступени, лужи мочи, возможно, собачьей, заплеванный лифт, разрисованный ругательствами, обшарпанная дверь… И сразу же сущий рай, пир красок и запахов, музей антиквариата, что и в Лондоне не сыскать!
Потрясенная чета Тюркмен проследовала через хаос скульптур и картин, мимо стола времен Петра Великого и гладильной доски того же периода. Турки и вообразить не могли, что в строго регламентированном социалистическом обществе могли существовать раскрепощенные бородачи в заграничных и модных одеждах, не говоря уже о разодетых и полуголых дамах с американскими сигаретами в зубах, и все в «диорах» и «карденах», с ума сойти! Веселы и пьяны, но не забулдыжно и тяжело, а словно на пленере в «Завтраке на траве» Эдуарда Мане, копия этого шедевра присутствовала на стене и благодаря изысканной раме выглядела оригиналом.
Кемаля и Шахназ закрутили, дамы общались с послом особенно нежно, в доказательство потрагивая его бюстом, оного было в избытке, и все хотели. Любезный Колосков подвел к нему надменную, тонкогубую, с серыми глазами.
— Мария Бенкендорф-Лобанова, заслуженная артистка РСФСР, звезда Большого театра… — представил он игриво.
— Ну полно, полно, Димочка, не то сглазишь… — прервала она, блеснув зубами.
— Позвольте, но это старинная дворянская фамилия (посол тщательно изучал русскую историю), а говорят, что коммунисты всех… — он лишь сделал неопределенный щелчок пальцами, тут же испугавшись своей смелости.
— Как видите, я уцелела, — улыбнулась она, вызвав у него некую томительную сладость в животе. — Я хорошо стреляю из пулемета.
Юмор сей был неожиданно смелым, и посол подумал, что турецкий МИД сильно преувеличивает страх советского народа перед правительством, идея эта созревала у него давно, и он даже поручил военному атташе составить на этот счет справку в нейтрально-осторожных тонах и направить ее в Анкару.
Колосков не только знакомил, но и забавлял анекдотами:
— Француз, англичанин и русский заговорили о женах. «Когда моя Мэри садится на лошадь, ее ноги достают до земли, — хвалился англичанин, — но не потому, что в Англии низкорослые лошади, а потому, что у англичанок самые длинные в мире ноги». Француз парировал: «Когда я танцую с Николь и держу ее за талию, то мои локти касаются друг друга, но не потому, что у французов длинные руки, а по той причине, что француженки имеют самые тонкие талии в мире». Дошла очередь и до русского: «Когда я ухожу на работу, то хлопаю свою Таньку по жопе, а когда возвращаюсь домой, жопа еще трясется. Но это не потому, что все русские бабы имеют жирные жопы, а потому, что у нас самый короткий в мире рабочий день!»
Апартаменты взорвались от хохота, шум медленно перетек в звон бокалов. Шахназ тем временем обволакивал добродушный великан с белой кудрявой шевелюрой до плеч, предлагавший прогулку на яхте по восхитительной Москва-реке, обнимал очень осторожно за спину. Шахназ увиливала, ссылаясь на морскую болезнь мужа, а великан настаивал и соглашался вместо мужа принять ее на борт с подругой и устроить настоящий спортивный праздник.
— Я подумаю…
К полуночи гости начали расходиться, кое-кто надрался и тоскливо блевал в туалете, ванную оккупировала влюбленная парочка, и отправлять естественные потребности приходилось во дворе. Вечеринка пришлась Кемалю по душе — вот именно там нужно познавать национальные характер, быт и нравы! Не по книгам, не по отчетам, а именно с помощью обыкновенного человеческого общения! Утром он вызвал в кабинет военного атташе Назыма Денизджиерова.
— Нам следует активнее общаться с русскими, особенно с интеллигенцией…
— Согласен, однако боюсь, что все они связаны с КГБ, — отвечал атташе.
— Опять этот КГБ! — нахмурился посол. — Иногда мне кажется, что этим мы оправдываем свою пассивность… Кстати, мою жену пригласили в поездку на яхте, и мне хотелось бы, чтобы ваша супруга составила ей компанию.
— Может быть, и мне поехать с ними? — военный атташе был гораздо бдительнее посла.
… И снова бал, и снова блеск бриллиантов, на этот раз в Колонном зале в честь бенефиса Риммы Ивановской.
В черном бархатном платье с розовой камеей на груди она читала Блока под музыку Грига, волшебная зажигательная смесь, слезы на глазах, непрерывные аплодисменты и «браво!». В финале хлопали до умопомрачения, Ивановская, утопая в розах, сдержанно раскланивалась с публикой, ее голубые глаза, чуть загрязненные временем, блестели от счастья. Затем пышный фуршет, где собрался цвет нации, друзья дома и сам министр культуры.
Николай Иванович честно сотрудничал с органами безопасности еще с тридцатых годов и честно освещал настроения коллег-литераторов. Сотрудничество это он считал естественным гражданским долгом и настолько им гордился, что на узких встречах друзей (между прочим, тоже агентов КГБ, о чем он не догадывался, веря в свою исключительность) поднимал тост за героев чекистов, скромно добавляя, что считает себя тоже чекистом. Это производило впечатление, и в литературных кругах ходили слухи, что он давно произведен в генералы и иногда, выезжая в святую обитель на Лубянке, надевает форму и ордена.
Римма тоже помогала органам чем могла, однако как самостоятельная единица котировалась невысоко, поскольку не обладала оперативной хваткой и не могла похвастаться высокой политической подготовкой, мешала ей и артистическая сумбурность — так что использовали ее лишь в паре с мужем как своего рода декорацию.
Комплименты в адрес великой актрисы великолепно пережевывались вместе с осетриной и молочными поросятами, трупики которых устилали длинный стол.
— Я начал изучать русский и скоро буду читать ваши романы… — радовал Кемаль великого писателя.
— Русская культура затягивает, Кемаль, не боитесь ли вы, что, полюбив наш язык, вы захотите остаться в Москве навсегда? — опытный Николай Иванович без особого труда вел политический зондаж объекта разработки.
— Я слишком люблю рахат-лукум, — засмеялся посол и отправил в рот кусок осетрины.
Вдруг Ивановский засуетился, задергался, превратился в сплошную выходящую за все горизонты улыбку и затряс (двумя руками! — как еще выразить свою любовь?) короткую толстую руку наголо обритого человека, затем галантно поцеловал руку его молодой спутницы в алом костюме, судя по пресному выражению лица — супруги.
— Я хочу сделать вам приятное, дорогой Кемаль, и познакомить с Григорием Бесединым, ответственным работником Совета министров и личным помощником премьер-министра.
Учтивые рукопожатия, банальные восторги по поводу бенефиса. Товарищ Беседин оказался отнюдь не тупым сановником и тут же процитировал стих Есенина «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем…» Кроме того, он еще сказал несколько теплых слов об Ататюрке, которого приветствовал сам Ленин. Тут подошла Шахназ с красавцем Колосковым, сменившим по случаю бенефиса незамысловатые вельветы бедного художника на гладкий, мышиного цвета костюм (сшитый по заказу в ателье КГБ за государственный счет, ибо использовался в оперативных целях).
— Надеюсь, вы не абстракционист? — снизошел Григорий Петрович, словно никогда и не видел мастера живописи на утренних совещаниях в своем кабинете. Колосков в ужасе замахал руками, конечно же, он твердо стоял на позициях соцреализма и честно отражал торжествующую реальность, точнее, пытался, ибо слишком высока тема домн, вечно блестевшего потом человека труда, недосягаема красота березок и бескрайних полей, на которых хочется торжественно исполнять гимн.
— Абстракционизм — это все равно, что окунуть в краски хвост осла и мазать им по холсту! — дал он боевой залп по всем этим малевичам и шагалам.
Беседин кисло улыбнулся, вспомнив, что то же самое Колосков говорил на партучебе (сам Григорий Петрович вел семинар), посол же поддержал беседу.
— Я тоже предпочитаю Ренессанс или Коро, — заметил он, хотя лишь смутно помнил и то, и другое. И правильно делал: куда приятней покупать по дешевке ковры в Бухаре, а затем сплавлять их в Стамбуле, благо это позволяет дипломатическая почта. — Доброе старое вино всегда лучше американских коктейлей.
— Это относится и к американской политике? — Сквозь молочного поросенка Беседин тоже не упускал случая ненавязчиво позондировать. Чекистская болезнь: вербовать и ночью, и днем, вербовать всех, чем больше, тем лучше.
— Мы — союзники, но не слепцы, бредущие за богатым поводырем, — мягко ответствовал посол.
«Гибок и умен, — подумал Григорий Петрович, — дурак сразу бы начал честить американцев в хвост и гриву, лишь бы потрафить представителю советского правительства. Колосков не ошибся: явно охоч до баб, зыркает по сторонам, в основном по задницам. Ну ладно, пора двигаться, кроме бенефисов и пьянок существуют и серьезные дела на Лубянке».
От Колонного зала пара по Кузнецкому прошла пешком прямо до грозного здания. Григорий Петрович, поднимаясь, пружинил ноги, стараясь дать им побольше нагрузки (сидячий образ жизни требует физкультуры, не забыть и об эспандере в кабинете!). Вошли через второй подъезд дома номер два, шефа контрразведки, известного в лицо охране, пропустили беспрепятственно, а вот его спутнице пришлось предъявить удостоверение (порядок есть порядок, даже если идешь рядом с шефом!) на имя Аллы Проскуриной, секретаря-машинистки.
Быстро прошли в просторный служебный кабинет, там Беседин сбросил парадный пиджак, провел Аллу в примыкавшую комнату отдыха с диван-кроватью, телевизором и баром. Чекистка привычно разделась и приняла душ в примыкавшей к комнате ванной. Осетрина, поросята, холодная водочка способствуют.
Освобожденный от стресса Григорий Петрович выдал звонок домой (Алла деликатно ушла в ванную на новое омовение): сын совсем отбился от рук и приносил ужасные отметки. И все почему? Нет заботливой отцовской руки, да разве можно заниматься воспитанием ребенка, если приходишь домой в 2–3 ночи и не имеешь выходных? А при Сталине вообще являлись под утро, когда вождь засыпал. Жена плакала: опять принес двойку! Надо вразумить, может, даже выпороть, без папы тут не обойтись. Пришлось закруглиться и отбыть в домашний круг.
Утром ровно в десять Григорий Петрович, облачившись в генеральскую форму (ношение ее на работе не было обязательным, однако в ней он себе нравился гораздо больше: обритая голова становилась значительней, да и ростом он казался выше), провел оперативное совещание. В кабинет осторожно, словно боясь побеспокоить больного, вошли Колосков, одетый в серый, без всяких штучек-дрючек костюм, и худой волк Геннадий Коршунов. Процессию завершала Алла, молчаливая, как уставший призрак, с блокнотом и карандашом в руках — помимо всех прочих достоинств она еще и стенографировала. Беседин уже не походил ни на доброго дядюшку, похохатывавшего на банкете, ни на отрешенного от служебных дел любовника, ни на другие маски, которые он менял с величайшим умением, — теперь он был в главной роли: Начальник, Голова, Мастер. Докладывал Коршунов, волчьи глаза поблескивали, словно предвкушая удушение ягненка.
— На сегодняшний день «Осман» (кличка посла) имеет контакты с тремя нашими агентами и тремя агентессами, их ввод в разработку не вызвал у него никаких подозрений, более того, по данным подслушивания, он считает, что Анкара склонна серьезно преувеличивать роль КГБ…
— Ну и умница! — заметил Беседин. — А как он по части клубнички?
Мужчины одобрительно хохотнули, а Алла сдержанно улыбнулась, вспомнив татуировку на животе шефа, не дававшую ей покоя: точно такая имелась и у ее собственного мужа, причем и тот, и другой уклонялись от разъяснений, это раздражало. И вообще ей нравился лейтенант Пурник из хозяйственного управления.
— Псих, как и все турки, — категорически заметил Коршунов, набивший руку на южных соседях. — При виде женщины у него уже сперма в глазах. Однако он сдерживает себя, понимая, что мы можем подсунуть ему свою девку. Агентура продолжает собирать информацию о его политических настроениях…
— Интересно, какую политическую информацию могут собрать ваши бляди? — прервал его Беседин. — Ведь они даже газет не читают и считают, что Турция — в Аргентине.
— Кесарю кесарево, Григорий Петрович… — оскалился своей волчьей улыбкой Коршунов. — У них свои задачи.
Что верно, то верно, каждый должен тянуть свой воз, совсем не обязательно быть семи пядей во лбу, как Сократ. Как там воз Колоскова, послица Шахназ? Особого прогресса пока не наблюдалось, хотя в принципе согласилась покататься на яхте, правда, с подругой.
— Восток есть Восток! — заметил Колосков.
— Очень удобно! — зло сощурился Беседин. — Восток есть Восток, телега есть телега — и точка! И работать ни хера не надо! А я вам скажу другое: человек есть человек во всем мире. Везде любят, везде изменяют, везде жадничают… И хватит вам прикрываться Востоком или Западом! Работать надо! Уконтрапупить — и точка!
Приняли как указание, хотя и не неожиданное, встали, стараясь не греметь стульями, осторожно вышли. Алла задержалась и выжидающе смотрела на шефа, прижав к груди блокнот, словно голову возлюбленного: тонкая женская душа чувствовала настроение и оказалась права: Григорий Петрович запер дверь и увел секретаря-машинистку в комнату отдыха. Живем в спешке, думал он, живем, словно коты, правда, им легче, их не гложет мысль, что именно в эти счастливые четверть часа позвонит председатель КГБ. Почему никто не подходит? Где Гриша?! Куда исчезла правая рука? Он прислушивался к прямому телефону, это отвлекало и мешало любви.
…Прогулочный катер летел по Москва-реке, играя фейерверком брызг на хвосте. Идиллические берега с сосновыми лесами, уютные поляны, бабочки над ромашками, государственные заборы, как хорошо в стране советской жить, и как она широка, родная! Дмитрий Колосков и богатырь Марат, овевавший кудрями послицу в мастерской, соединяли воедино красоту и интеллект. Дмитрий упирал на последнее, рассказывая о глубине реки и ее исторических истоках, Марат работал с шампанским, между прочим, пропуская для души водочки.
— Шахназ, если вы не выпьете, я обижусь! Ну как вам не стыдно! Вы не хотите выпить за нашу дружбу?
Не пили проклятые мусульманки, прикрывались Кораном. Восток суров, хотя и не до фанатизма: Шахназ позволяла Колоскову целовать ей руки, а тот страдал и готов был утопиться.
— Как вы красивы! — шептал он, вспоминая почему-то бритую лысину Беседина. — Я погибну от вашей красоты! Вам не холодно? Может быть, спустимся в каюту?
— Что вы, Дмитрий! Разве здесь плохо? — отбивалась Шахназ, которой Колосков весьма нравился.
Марат держал жену военного атташе в объятиях, ему казалось, что они уже в соитии, и он блаженно покачивался, оставалось финализировать дело в каюте, он поднял ее на руки, покачнулся и рухнул, как и положено с турчанкой, в набежавшую волну. Крики, спасательные круги, любопытные рожи на берегу. Конфуз. Беседину решили не докладывать, обошли вопрос, мол, старались, но ничего не вышло.
…Новая радость: подписание советско-турецкого культурного соглашения, в том числе и о поездках в Турцию классика советской литературы и театра. Посол двинулся в Министерство культуры. Там за круглым столом в гостиной восседали заместитель министра Растегин, говоривший искренне и долго (всегда так!), переводчица Оксана — умеренная полнота, большие влажные глаза, выдающиеся бюст и зад, изобилие волос, ниспадавших на первое и даже чуть-чуть на второе, она сжигала посла горячими бедром и дыханием. Тут и Римма Ивановская (супруг уже вылетел в Стамбул), которая мысленно набрасывала доносик об аморальном поведении переводчицы. Затем — скромный фуршет, старания Оксаны не прошли даром, и посол вызвался покатать ее по столице и доставить домой, что и сделал. По дороге заскочили в «Националь», там джигит блеснул мошной и порадовал спутницу модными коктейлями. Однако переборщил, Оксана вначале истерически хохотала, хватая посла за руки, но разом стихла и запросилась домой, что было радостно воспринято как приглашение на счастье. Но в машине совсем сдала, впала в транс — такого и в страшном сне не увидать. Отвратительная, пьяная баба. Он высадил Оксану у ее подъезда и тут же умчался подальше от ласк.
— Вот засранка! — вопил Колосков в квартире этажом выше Оксаны, где уже была установлена техника для съемки. — Просто какой-то рок невезения! И все пьянство! Не страна, а корабль алкашей! Понятно, что Марат набрался — он вообще не просыхает, но эта… Ведь закончила Институт востоковедения… аспирантуру, елки-палки!
Опасаясь очередного всплеска гнева Беседина, Дмитрий представил все дело в спокойных тонах: мол, посол торопился по делам службы, не успевал и потому вынужден был отказаться от тесного общения с агентессой.
И прошел бы у него этот номер без всякого труда, если бы не горячая восточная душа, которая полыхала и искала выход из тупика, бесновалась и толкала на подвиги. Отделавшись от Оксаны, распаленный посол приказал водителю держать путь к престижному и широко известному Дому на набережной, что рядом с кинотеатром «Ударник». Римма Ивановская уже завершила агентурное донесение о вызывающем поведении переводчицы Оксаны, несовместимом с моральным обликом советского человека, и размышляла, каким образом донести его до органов: лично или через супруга.
Томительный звонок отвлек от мыслей, и без всякого макияжа и в домашнем халате она задумчиво открыла дверь, думая, что это дура министерша, у которой вечно кончались спички. Окаменела, словно перед шаровой молнией. Посол улыбался, мышиный хвостик усов антрацитом чернел над белоснежными зубами. Далее шокирующий темп, от которого уважаемая актриса, хорошо побегавшая в молодости, уже отвыкла: ухватил в охапку твердыми, как ятаган, руками, сорвал халат, покрыл неистовыми поцелуями и поволок в спальню, где все и свершилось, причем быстро и без всякого согласия, до неприличия бездуховно.
Хотя… хотя это было хорошо, Римма увлеклась, правда, мешала мысль: как же так? Нет, нет, не в муже дело! Не в морали! Совсем в другом — в санкции! Ее не было, ведь даже и намека на ЭТО от Беседина она не слышала. Но гнать было неудобно — так ведь можно и подорвать нерушимую советско-турецкую дружбу. Неожиданно Кемаль безмолвно натянул штаны, поцеловал ей руку и улетел так же стремительно, как и появился. Что делать? Наверняка все просматривали и прослушивали! Дом ведь этот особенный, всегда под оком… Что делать? Она набрала заветный номер, который хранила в памяти как самое святое.
— Григорий Петрович, здравствуйте! Это Ивановская! — волновалась, задыхалась. — Только что у меня был турецкий посол, — замолчала, ожидая расплаты.
— Ну и что? — Беседин готовил бумагу в ЦК, и все эти бабьи причитания только раздражали.
— Муж в командировке в Стамбуле… посол был очень возбужден… вы понимаете?
— Не понимаю, — сухо бросил Григорий Петрович, не обладавший ни ассоциативным мышлением, ни артистическим чувством подтекста.
— Как вам сказать… — размазывала кашу по тарелке Ивановская. — Ну, в общем, вы должны понять, как мужчина…
Это уже было яснее солнца.
— Что вы хотите? — подавился он от смеха.
— Я просто хотела проинформировать… — Римма сидела красная и распаренная, словно выскочила из бани.
— Я занят, извините, — и положил трубку, больше не мог сдерживаться, ну и говно же у нас люди!