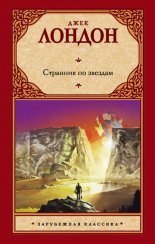Декамерон шпионов. Записки сладострастника Любимов Михаил
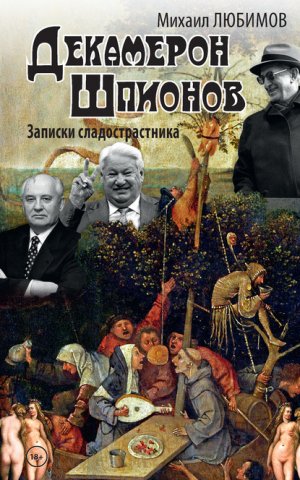
— У меня времени нет на твои бумажки.
— Это записи беседы Сташинского с женой. Только что обработали…
Прочитал и охнул: криминал, причем неоспоримый. Все рассказать и о себе, и о своих «эксах» — это же грубое разглашение государственной тайны! И достанется за это прежде всего куратору и наставнику, прошляпившему потенциального предателя. Почему прошляпившего? Он ведь сам сигнализировал Хустову об этой проклятущей немке, разве он не выступал резко против брака? М-да, но никаких бумаг на этот счет не осталось, состоялся лишь обмен мнениями с генералом, который, естественно, сразу же отречется от своих слов и все взвалит на своего подчиненного.
Потянулся к телефону «ВЧ», набрал московский телефон генерала и детально рассказал о прегрешениях боевика, предложив срочно его отозвать. Однако Петровский не знал закулисья в большой политике. Когда дело стоит на контроле в политбюро, то отзывать главного персонажа похоже на порку самой себя унтер-офицерской вдовой. Довести «экс» до логического конца. Если выгорит, поощрить исполнителя, а затем под благовидным предлогом отправить подальше в провинцию, возможно, даже на Украину.
— А эту дамочку возьмите на особый контроль. Регулярно докладывайте. На вас возлагается персональная ответственность, — заключил Хустов.
Прибыв в Мюнхен, Сташинский заметался. Что делать? Прямо прийти к западным немцам и американцам, отдать оружие со смертоносным газом и все рассказать? Поверят ли ему? Или решат, что провокатор? Что потом? Потом придется работать на врагов, имитировать неудачное покушение на Бандеру, вернуться в Берлин к Инге. А дальше? Дальше — готовить побег на Запад всей семьей. Но как? Вот-вот в городе построят стену, сделают за одну ночь, он сам читал секретный документ о необходимости оградить страну социализма от разрушительного воздействия западногерманских спекулянтов, скупающих дешевые вещи в ГДР, а затем перепродающих их на своем капиталистическом рынке. Опасно, рискованно. Нет! Он не станет предателем, но и убивать Бандеру не будет: вернется в Берлин, доложит, что Бандера опоздал, а торчать и ждать его в подъезде было рискованно. Что дальше? Несомненно задумают новый «экс» — ведь решение принято на самом верху. А что если заручиться поддержкой самого Бандеры? Гениальная идея, однако как это сделать?
В 17:30 Сташинский уселся в кафе напротив дома Бандеры, заказал бокал «Молока богородицы», рейнское вино леденило зубы до боли. Баллончик с газом мирно покоился в кармане, он думал об Инге и о том, как они счастливо переберутся в какой-нибудь американский городок, сменят фамилию и начнут новую жизнь. Смотрел на подъезд, потягивал винцо, думал о своем и очнулся, лишь увидев автомобиль. Дверца отворилась, оттуда медленно выполз сам хозяин, за ним — телохранители, все, дружески улыбаясь, распрощались, охрана уселась обратно, автомобиль газанул и укатил, а Бандера вошел в подъезд. Время было упущено, Богдан вбежал в подъезд, помчался вверх по ступеням и неожиданно чуть не врезался в Бандеру, перебиравшего связку ключей у входа в квартиру.
— Господин Бандера… меня послали… убить вас! — Сташинский говорил нервно и протягивал своей жертве баллон.
И тут случилось ужасное: Бандера вдруг закричал истошным голосом и вырвал из кармана «вальтер». Все произошло в считаные доли секунды, черное дуло пистолета взметнулось вверх, на уровень глаз Богдана, и тому ничего не оставалось, как пустить газ. Мелкие частицы брызгами заплясали над верхней губой Бандеры, прямо у носа, Сташинский инстинктивно отпрянул подальше, а вождь националистов безмолвно рухнул наземь.
Ноги сами несли его куда-то в сторону и совсем не к оставленной машине, он бежал и бежал, как загнанный зверь, бросив на ходу баллончик в пруд, он бежал и не мог передохнуть, он бежал, пока не почувствовал, что сейчас потеряет сознание и умрет. Рухнул на газон в небольшом сквере, пролежал несколько минут, потом собрался с мыслями, привел себя в порядок, схватил на дороге такси и поехал на аэродром. Берлин встретил его ярким солнцем, словно празднуя победу, Богдан еле-еле добрался до дома и упал в постель, не сказав Инге ни слова. К вечеру превозмог себя и позвонил Петровскому, тот уже все знал: западногерманские газеты затрубили о гибели украинского вождя, причем, в отличие от случая с Ребетом, власти произвели вскрытие и обнаружили следы яда. Никто не сомневался, что произошло убийство, одни писали, что это дело рук КГБ, другие приписывали акцию западногерманской разведке, третьи видели причину во внутренних разборках в ОУН[2].
Снова Москва, высочайшие объятия, новый орден, блестящая карьера впереди. Но Хустов твердо решил расстроить опасный брак и не отпускал прославленного боевика в Берлин, где Инге ожидала ребенка.
— Тут тебе нужно много поработать, перед тобою открываются большие перспективы. Ты зачислен на курсы усовершенствования, я планирую передать тебе в подчинение несколько молодых ребят для подготовки по нашей линии.
Тем временем Инге разрешилась от бремени, родился маленький Конрад, но увидеть дитя счастливому отцу не разрешали: получена, мол, сверхсекретная информация об активном поиске националистами убийцы своего вождя, и среди прочих имен фигурирует Сташинский. Хитроумный тезис придумал лично Хустов, в его голове роились и другие смелые идеи, достойные специалиста по депортации народов: тайно вывезти Инге с сыном в Сибирь и поселить под контролем органов, а все это дело приписать козням западногерманской разведки. Вообще творческого начала генерал не был лишен:
— Я не хотел тебе говорить… но у нас имеется информация о том, что твоя Инге связана с БНД… сейчас мы перепроверяем эти сведения… — еще один блестящий ход.
— Что же делать? — Богдан был потрясен, хотя чувствовал сердцем, что все это ложь.
А не послать ли Сташинского в Латинскую Америку для легализации? Подобрать ему в партнеры умопомрачительную красавицу, которой Инге в подметки не годится… А не еврейка ли Инге? Он раскрыл полузапрещенную «Страну негодяев» Есенина, и просмаковал: «Слушай, Чекистов! С каких это пор ты стал иностранец?… Ты же еврей, твоя фамилия Лейбман». Жаль, что почил Отец Родной и не довел до конца «дело врачей»… Нет, эта Инге — явно еврейка.
И тут перехват телефонного звонка из Берлина: «Богдан, милый, Конрад тяжело болен, у него пневмония, приезжай!» Самая гуманная в мире организация дрогнула, узнав об этой вести: не пустить отца к умирающему ребенку — это чрезвычайное происшествие, оно не вписывалось в «Моральный кодекс строителя коммунизма», решили дать зеленый свет, но взять всю семью под плотный контроль.
Судьба не щадила Сташинского: в день его прибытия ребенок умер. «За что? Почему так сурова к нему судьба?» — думал он. Неужели это плата за трупы тех двоих? И это не конец, никто не знает, какая кара уготовлена впереди… Молча возвращались из морга, через день планировались похороны. Наружка нудно тянулась сзади.
— На днях построят стену. «Так что теперь на Запад просто не убежишь…» — сказала она и посмотрела на него, изогнув бровь.
Он молча шел, засунув в карманы руки, он думал о том же и обнял ее.
— Давай уйдем сегодня, выйдем через черный ход, который они не знают, — сказала она тихо. — Мне известны здесь все закоулки, я же провела тут всю жизнь.
— А как же похороны?
— Его похоронят родители. Богдан, неужели ты не понимаешь, что нас арестуют и кокнут? Посмотри на этих бандитов сзади нас, вокруг нашего дома! Арестуют сразу же после похорон!
В тот же вечер они ловко обманули наружное наблюдение и выскользнули в Западный Берлин.
Полиция, услышав чистосердечные признания Сташинского, засуетилась в панике и тут же передала чету американской разведке. Но и там ему не поверили, решили, что либо сумасшедший, либо провокатор, отправили на военную базу близ Франкфурта, подвергли допросам на детекторе лжи и медобследованиям. Где вещественные доказательства? На слово верить нельзя, по миру бродит масса психов, утверждавших, что совершили убийство. И тут удача: полиция неожиданно наткнулась на свидетелей, которые видели, как Сташинский бежал со стройки и как бросал оружие в пруд. Вскоре водолазы обнаружили и винтовку, и баллончик — все стало на свои места.
Состоялся суд, процесс гремел на весь мир, показания боевика перепечатывали все газеты, считавшие главным подсудимым в этом деле вездесущий КГБ. Напрасно Хустов и компания пустили слух, что Бандера убит по заданию западногерманской разведки, которой надоел вышедший из-под контроля агент. Ничего из этого не вышло, и генерала с позором выгнали из любимых органов, не принимая во внимание его заслуг перед Родиной. Петровского тоже выставили и лишили пенсии, хотя он бегал по инстанциям, доказывая, что никогда не доверял Сташинскому и пал жертвой интриг.
Главный герой получил на суде восемь лет тюрьмы, отсидел в прекрасных условиях лишь один год, затем получил амнистию и вместе с Инге словно исчез с лица земли. Говорили, что оба сделали пластическую операцию и мирно поселились в Калифорнии в купленном ЦРУ особняке, прямо на берегу океана.
Председателю КГБ крепко врезали на политбюро за потерю бдительности и неспособность выращивать преданные и надежные кадры, возмущенный Хрущев прямо заявил, что от терактов нет никакого проку, ибо их исполнители — слабаки и дерьмо. И вообще «мокрые дела» за границей бросают тень на международное коммунистическое движение и компрометируют великую идею. Так что пусть органы стреляют у себя дома, где все шито-крыто, отныне на закордонный террор наложено табу. Политбюро поддержало запрет, тем более что сам Ильич не признавал террор и беспощадно ругал за это заблудших народовольцев и эсеров.
И никто не понял, что любовь победила смерть.
День пятый
Честно говоря, я слушал новеллу, и думал, почему некоторые мои коллеги считают такой рассказ поклепом на славную организацию? Дело в том, что народ в нашей службе до слез чувствителен, работа нервная, даже я, Джованни, воспевающий рыцарей плаща и кинжала в чуть-чуть ироническом, но нежном ключе, постоянно слышу упреки со стороны достойных соратников: отступник! изменник! Или хуже. Ну а сатиру принимают особо близко к сердцу. Но еще мсье Вольтер (три ха-ха) изрек: «На органы сатиры мы не пишем. Мы органами и живем, и дышим!» И это абсолютная истина!
Впрочем, мне было не до болтовни агентессы, я ожидал Розу, а она не шла и не шла! Не знаю, как тебя, Джованни, но меня ожидание изматывает больше всего на свете, и к двум ночи я уже был выжат, как лимон, словно покрыл стадо овец. Я страдал, я ненавидел ее, я проклинал ее и желал ей смерти.
И вдруг Роза явилась, высокая, медноволосая! В красном платье с обнаженной спиной, о эти худые ключицы, которые хотелось откусить! Ангелок с распростертыми крылышками, беспомощный и нежный, нанизанный на кожаный шнурочек, прилег у нее на груди, он чуть касался крылом вожделенной родинки, от которой невозможно было оторвать взгляд. Как прав великий Александр Сергеевич: «Корсетом прикрыта вся прелесть грудей, под фартуком скрыта приманка людей». Она была настолько костлявой, что на ум мне пришла бретонская фигура смерти по имени Анку. Помнишь фонтан в Плегат Герран? Если глядеть в его воду ровно в полночь 1 мая, вслушиваясь в бой часов на ратуше, то перед скорой гибелью в зеркале воды появляется скелет. Это и есть Анку. Абсурдно, конечно, сравнивать эту пленительную рыжую красавицу с высоким стариком с вращающейся головой и глазами, проглядывающими весь мир насквозь. Иногда он вооружается железным прутом и косой и путешествует ночью в карете с шестью лошадьми, с двумя подручными-скелетами по бокам. Ось кареты гнусно скрипит, это с ужасом слышат жертвы, которых Анку лишает жизни, а его подручные бросают трупы в карету.
На сей раз Роза уже не держалась снисходительно-высокомерно, как во время встречи у монумента гению революции, но и теплоты особой я не почувствовал, как писал Шекспир: «more than kin, less than kind», то бишь, немного больше, чем родственник, немного меньше, чем друг. Возможно, ее смущала компания иностранцев, возможно, она затаила обиду на меня. Но какую?
— Роза, — сказал я, приблизив губы к ее уху так близко, что мои ноздри задохнулись от дурманящих запахов, она повернула ко мне влажные губы, они дразнили и заманивали в свои пучины. — Роза, мне необходимо с вами поговорить…
Ничего умнее я не придумал, Джованни, и, бесспорно эта многозначительность означала мою полную беспомощность. И это я, любимец Юрия Владимировича, придворный интриган, способный в один день созвать съезд партии, перевернуть страну, выведя народ на стезю дикого капитализма, осуществить путч, снять с поста, выгнать к чертовой матери губернатором в Краснодар или послом в Монголию. И сейчас я, словно мальчик, умолял эту бабищу, этот мешок с костями, по сравнению с которой упомянутый Анку — изящный Аполлон. Извини, что забегаю вперед, но в тот момент, естественно, я боготворил ее, несмотря на дурные предчувствия, несмотря ни на что. Как мы легковерны, когда увлечены, мой блестящий мессер, мне ли объяснять тебе эту элементарную азбуку чувств! Но как разглядеть истину в потемках чужой души? О, если бы под рукой был кристалл, в котором проступают и картины будущего, и подноготная друзей и подруг…
— Так поговорим? (А в голове тинькало: «Щавель — есть кислое растенье, щипать за сиськи — наслажденье!»)
— Хорошо, — ответила она, введя меня в трепет.
В салоне уже стоял шум, звенела на полную катушку музыка, перекрывавшая хохот, кто-то танцевал, кое-кто играл в бридж, лишь Сова застыла в кресле, вытаращив свои круглые, обведенные чернотою глаза и дыша в усы. Роза есть роза есть роза есть роза… — и так до бесконечности, пока не заснешь навеки; роза есть роза, дивный стих, и придумала его незабвенная Гертруда Стайн, феминистка и лесбиянка, кормившая бесплатными обедами Хемингуэя с его женой Хэдли. Потом он, неблагодарный хлыщ, ее высмеял, а тогда ценил и даже прощал ей сожительство с подругой до гробовой доски Алисой Токлас. Роза есть Роза есть Роза…
Мы вошли в мою каюту. У меня уже не было сил выносить это испепеляющее искушение. Представляю, Джованни, сколько мук претерпел святой Антоний, осажденный гетерами или как, черт возьми, их еще назвать, хотя в его солидном возрасте уже приличествовало бы поутихнуть и не терзаться из-за упущенной юбки.
Я закрыл дверь на замок и бросился на раскрытые губы с доверчивостью небезызвестного Вертера, потеряв здравый смысл и приличествующую моему положению солидность. Она ответила страстно, словно все эти дни только и ожидала этого момента, я целовал ключицы, пахнувшие миндалем, я целовал соски, обрамленные рыжим пушком (стыдно сказать, но они напоминали туго торчавшие фаллосы крохотных лилипутов!), я целовал ее ноги, покрытые медными волосами, ее некрашеные желтоватые ногти, похожие на длинные когти. Казалось бы, эта увертюра обещала перерасти в слаженные аккорды со своими диминуэндо и крещендо, однако слабость налетела на меня, словно кто-то высосал из меня кровь, нервозное бессилие, мерзкая вялость — такого не случалось никогда, Джованни, никогда в жизни и, не дай бог, случиться!
Сначала я не поверил и незаметно дотронулся до жертвы недуга, не подумай, мой друг, что у нас принято нарушать приличия, как в арабских странах, где каждый мужчина при виде дамы начинает откровенно ерзать рукой по штанам, проверяя наличие. Интересно, что бы ты делал в подобной ситуации? Попытался бы возбудить себя сам? Что ж, твои монахи не были чужды онановому блуду, но не смешно ли заниматься этим при даме? Неплохо помогали в свое время желчный пузырь вороны, кунжут и муравьиная мазь, но их не было у меня под рукой, и вообще я даже предположить не мог, что со мной такое может приключиться! Вот бы сожрать кусок мандрагоры, которую прославил твой земляк Макиавелли! Но я не хранил у себя под койкой этот желтый фрукт, это яблоко любви, которым в Средние века кормили перед совокуплением слонов… прости меня. Как ни смешно, но в этой отчаянной ситуации я словно выключился и заснул. Совершенно неожиданно во сне мне явился Учитель, удивительно добрый и ласковый.
— Не волнуйтесь, дорогой Мисаил, и не думайте все время о «Голгофе», это плохо влияет на эрекцию. Вове требуется время, чтобы разгрести все авгиевы конюшни, оставленные Бориской, выгнать к черту ворюгу Касьяна и его клевретов, подрезать крылышки у олигархов, посадить Ходорковского и прочих неугодных типов. Он еще произнесет мюнхенскую речь, в которой честно предупредит Запад о смене курса, его еще отлучат от претенциозных, воистину идиотских сборищ мировых лидеров. Обязательно вернет Крым, где я обожал отдыхать, наладит патриотическую пропаганду по телевидению… А что касается вашей половой слабости, то вспомните, что бравый солдат Швейк лечил триппер термосом! Попробуйте этот рецепт. Как? Засуньте инструмент в термос!
Я пришел в себя, и увидел Розу, лежавшую рядом, заложив за голову худую веснушчатую руку. Прямо рядом со мной из-под мышек, нежных и беззащитных, вырывался ослепительно рыжий куст волос, прекрасные кущи, к которым никогда не прикасалась бритва. Сквозь окошко иллюминатора прямо на весь этот дурманящий куст падал солнечный луч, создавая иллюзию пожара, в котором каждая искра исполняла свой танец смерти, свой dance macambre. Виски сдавило от желания, и я вонзился губами в это пламя, задыхаясь от острого запаха. Без всякого термоса. Это был уже другой человек, Джованни, это был гигант, переполненный бешеной живительной влагой, это был тот, кого Председатель уважительно именовал Мисаил, это была помесь Геракла с Самсоном, которому коварная Далила еще не успела отрезать волосы.
— Не спеши, — она скосила глаза под мышку, в которой бултыхалась моя голова. — Не спеши… А ты знаешь, что у меня от тебя сын?
— ???
— Представь себе. Наша первая встреча не прошла зря…
Сын? Тут меня снова парализовало. Я не знал, радоваться мне или рыдать. Мой ли это сын? Потребует ли она от меня алименты? Во что дальше выльются наши отношения? Не будет ли она меня шантажировать? От первого неудачного брака у меня остались две дочери, которых глупая мамаша настроила против меня, и они не желали со мной встречаться. И вдруг сын…
— Не нервничай, — вдруг сказала она. — Это мой сын, и я ничего не хочу от тебя. Даже признания отцовства.
Честно говоря, я почувствовал огромное облегчение, и вновь любовь всколыхнулась в моей груди, словно возродившийся вулкан. В эту минуту в дверь каюты постучали. Черт побери!
— Кто это?
— Срочная от Батова, — отозвался голос Марфуши.
— Разве он не остался на корабле?
— Он с утра уехал на работу.
— Подержи у себя, я скоро встану…
Признаюсь, Джованни, что служба в КГБ постоянно мешала моей личной жизни: в самые пикантные моменты что-то происходило и срывало мои планы, причем, как правило, это были не только международные события вроде египетско-израильской войны, но и происшествия локального характера вроде самоубийства министра, бегства из дома любимого кота генсека или задержка автомашины для вояжа на рынок жены моего непосредственного шефа Бухгалтера. Роза уже встала и начала одеваться. Отнюдь не увянув в своих порывах, как декоративный цветок на морозе, я бросился к ней и потянул всеми силами на ложе любви.
— Нет-нет, извини, потом, сейчас я тороплюсь, потом, потом, это должно быть красиво и долго, я хочу быть с тобой (тут она своей костлявой ручкой проделала то, что так любят арабы, при этом она коснулась сначала себя, затем меня… словно обожгла, и так все горело, все полыхало!), не будем торопиться, милый, увидимся вечером, только не забудь достать масла.
— Какого масла? — удивился я.
— Амброзии, разного, только не розового, это болгарская дрянь… лучше «Цветок пустыни», он растет в оазисе Фюон.
И ушла, бесшумно закрыв дверь каюты.
Фюон? Так это Египет. Кто же не знает фюонские фрески?
Через час я уже прибыл к Батову в его купеческий особняк.
— Удалось раскопать кое-какие концы… — Паша, как обычно, нацепил на себя темные очки a la James Bond, еще бы напялил бейсболку козырьком назад и выглядел бы полным кретином. — Гусь имел контакт с неким Гремицким, находившимся в немецком плену. Этот тип владеет кабаком, где вы нахлестались самогоном… Все выглядит весьма подозрительно. Ты давно знаешь Гуся?
— Да это же наш ценный агент, ему можно верить, как самому себе…
— М-да. Это не утешает.
Оказалось, что Гуся засекли с Гремицким в автомашине «Волга». Далее следы их затерялись.
— Не нравится мне все это, — сказал Батов. — Очень пахнет шпионажем и даже диверсией. Конечно, ты занимаешься высокими материями, но представь, что вдруг взлетает на воздух Волжская ГРЭС!
Паша, как обычно, нагнетал обстановку, это было в его стиле. Запросили Центр и о Гусе, и о Гремицком. На мгновенный ответ не рассчитывали, это в народном сознании работа спецслужб носит стремительный характер, в печальной практике, увы, наросты бюрократии настолько велики, что вся машина дребезжит и скрипит, еле-еле проворачиваясь. Незаметно спустился вечер, и Батов предложил подъехать к нему и покалякать, чему я весьма обрадовался: будет шанс повидать Розу, мать моего ребенка… Боже мой, что со мной? Что за легковерие? Откуда эта сопливая буржуазная сентиментальность, которую всегда едко высмеивал Учитель?!
— А сестра дома?
— Не знаю, должна быть…
Роза, Роза, где ты? Помнишь у Петрарки, Джованни?
- Власы — как злато; брови — как эбен;
- Чело — как снег. В звездах очей угрозы
- Стрелка, чьим жалом тронутый — блажен.
- Уст нежный жемчуг и живые РОЗЫ…
Жил Батов в трехкомнатной квартире в довольно приличном доме, в столовой стояла большая стенка со слониками, мышками, кошечками и прочим животным сбродом, в его спальные была лишь железная кровать. Роза располагалась в гостиной. Широкий диван с двумя подушками, на которые была небрежно брошена ночная рубашка, причем лежала она так призывно, что хотелось зарыться в нее с головой, я даже нагнул голову и осторожно понюхал ее. Кальян у дивана (неужели курила гашиш?), стопка книг на письменном столе.
Признаюсь, Джованни, что информация о том, что человек читает, представляет для меня первостатейную важность, и я выбирал бы политиков не по их биографическим данным и обещаниям, которые еще Ильич сравнивал с коркой пирога, требующей слома ради сдобной части, — я устраивал бы им экзамен по чтению. Именно экзамен — ведь каждый может ляпнуть по ТВ, что обожает Пушкина или Тютчева, или с детства штудировал Солженицына. Книги если не раскрывают душу человека, то чуть приоткрывают ее и дают ключ для дальнейшего исследования, на чекистском языке — разработки.
Так вот: на письменном столе лежал томик Альбертуса Магнуса в переводе с латинского на немецкий, ты, конечно, читал этого доминиканского монаха и астролога, творившего в Швабии. Именно он изобрел философский камень, превращавший металл в золото, и эликсир жизни, продлевающий наше печальное существование. Он даже изобрел робота, вид которого доводил до слез великого Фому Аквинского. Не думай, мессер, что я хочу навязать тебе идею о гениальности всех выпускниц ЛГУ (кстати, его закончил наш ВВ), особенно, корпящих над проблемами твоего творчества, я просто констатирую факты. Кроме Магнуса, на столе лежали три английские книги некоего Алистера Кроули, почившего, кажется, в конце сороковых. Жил он в Соединенных Штатах, где на отцовские деньги занимался черной магией, создавал секты, в которых не последнюю роль играл прекрасный пол.
Кроули считался основателем сексуальной магии, впрочем, мне думается, что он просто прикрывал наукообразием свои бесконечные оргии. Там он до крови прокусывал дамам руки (это он называл «поцелуем гадюки»), превратил одну свою почитательницу в верблюда, довел несколько дам до такого экстаза, что они вообразили себя птицами, забрались на крышу и собирались улететь в жаркие края (к счастью, оттуда их сняли пожарные). Однако человеком Кроули был неординарным: утверждал, что он — реинкарнация папы Александра Шестого, какал на ковры в домах, где устраивал спиритические сеансы, держал у себя в шкафу скелет, которого якобы поил и кормил своей кровью, крохотными колибри и настоем из кошачьей слюны.
Интересно, что там же лежал и томик Дали, аналогичный подаренному мне в Москве, я перелистал его и обратил внимание на отчеркнутый абзац: «Рано утром я видел сон, будто произвел на свет множество белоснежных экскрементов, чистейших на вид и доставивших мне, пока я их создавал, изрядное наслаждение. Проснувшись, я сказал Гали: «Сегодня у нас будет золото». Рядом с книгами на столе лежала довольно объёмная косметичка, которую я по служебной привычке раскрыл. Каково же было мое изумление, досточтимый Джованни, когда я увидел там флакончики с маслами и эссенциями: «Гарем запахов», «Арабская ночь», «Пять секретов» и прочее. Так где же она в конце концов? С Батовым мы досидели до позднего вечера, так и не дождавшись Розы, оставили ей приглашение на ужин и удалились на корабль. Перед уходом я незаметно сунул в свой атташе-кейс косметичку с маслами, рассчитывая, что, явившись домой (не от любовника ли — сердце мое облилось слезами и кровью!), Роза воспримет это как мой тонкий намек.
У трапа на «Ленин» нас встретила непроницаемая Марфуша. В музыкальном салоне витали Орел, Тетерев и Грач, в кресле дремал уже пьяный Дятел, мирно беседовали Курица с бесстрастной Совой. В этот раз солировала вертихвостка Сорока.
Новелла о загадках русской души, достоинствах водки, остроте агентурной работы и пуле в затылок
О. Мандельштам
- Нам с музыкой-голубою
- Не страшно умереть,
- А там — вороньей шубою
- На вешалке висеть…
В Париже нужно жить и только жить. И не просто принимать пищу и вино, платить ренту, сдавать белье в прачечную и ходить на рынок — о, нет! В Париже нужно наслаждаться жизнью, словно завтра налетит чума. Любил бездумно крутить по центру, особенно в районе площади Этуаль, обожал вылететь по авеню Клебер на Елисейские поля эдаким фертом, чертовым миллионером (жаль, что у него скромный «пежо»!) или медленно проехать по бульвару Капуцинов, словно все капуцины мира, разинув рты, наблюдают, как виртуозно он водит машину. А вот по Монпарнасу лучше бродить пешком, нечего там пижонствовать на машине. Засунуть руки в карманы — и мимо высокомерных «Ротонды» и «Дома» (в сущности, и не понаслаждался ими вволю, визитировал лишь с оперативными связями, а разве это удовольствие?).
И тем более только и только на ногах по верхнему Монмартру, где дышалось совсем по-другому и у ног лежал весь невозможно прекрасный Париж. Там на Пляс-дю-Тертр завертелось, как в сказке, с одной молодой туристкой, красавицей-учительницей из родного Ельца, пудрил ей мозги, обхаживал луковым супом с твердой сырной коркой в раскаленных горшочках, петушком а-ля святой Жак и бесподобным бордо замка дю Брейль Киссак. Класс!
Давно не бывал в Ельце. Патриархально, словно в глубокой старине, словно не восторжествовала советская власть, зелень выпирает из каждого двора, какие там яблоневые сады! Какая рыбалка! Правда, долго не пробудешь — завоешь от скуки…
Париж — всегда Париж, а весной от него сходишь с ума, и в Москву совершенно не тянет. Да разве там жизнь? Работа у черта на куличках, в загородном Ясенево, квартира — в другом конце, в застроенном-перестроенном районе «Войковской». Вот если бы жить на Тверском бульваре, а работать в здании «Известий» — тогда совсем другой коленкор! — не вставать в шесть утра, не лететь, сломя голову, к служебному автобусу, который ожидает у метро в семь и уже набит сонными коллегами. О, как обрыдли их морды!
По Парижу Виктор Кузнецов мог крутить целый день без всякой устали и, когда его приятель Извеков в шутку спросил, уж не планирует ли он сменить профессию разведчика на водителя, тот ответил: «Дело в том, что за рулем в Париже я чувствую себя человеком! Человеком с большой буквы!» И не врал. Подъехал к дому в переулке у авеню генерала Леклерка, рядом был дивный супермаркет, где он и Дина любили базарить — так они и говорили: «Пойдем побазарим!» — запарковал машину и побрел по авеню. Взгляд рассеянно упал на витрину, выхватил оттуда позолоченный торшер в виде вытянутой женской статуи, державшей над головой абажур с кистями. Такое видел то ли в Венсане, то ли в Версале, почему раньше так пышно и роскошно строили и жили, а теперь всех под одну гребенку? Кавалеры в камзолах и дамы в кружевных платьях, менуэты на зеркально блестевших полах, настоящая жизнь.
В Ельце и Москве Виктор в музеи не ходил, один раз подружка затащила в домик Достоевского, там подванивало, то ли рыбу жарили по соседству, то ли клей варили, да и вся атмосфера убогая, после этого и читать его противно. Зато в Париже пристрастился, стал похаживать, можно сказать, увлекся Роденом, но больше — по дворцам, где жили высочайшие особы, бултыхались в необъятных кроватях со своими Мариями Антуанеттами. Резные комоды, изящные гостиные гарнитуры, барокко или рококо, специальные шкапчики-витрины для безделушек, мраморные камины с барельефами, рядом медные щипцы и совок со щеткой на случай, если вывалится кусочек горящего полена.
Дина ахнула, когда он приволок торшер, раза три спросила «сколько?», чуть не упала в обморок, узнав, что почти треть зарплаты, не понимала, дуреха, что живем один раз, и красивые вещи суть великолепная часть великолепной жизни. Тут дело не в дурной казацкой крови (этим она часто объясняла многие его прегрешения), и вообще поменьше о происхождении (деда-казака расстреляли, но при поступлении в КГБ он об этом умолчал), стены имеют уши, французские или советские — безразлично. Дина игнорировала его предупреждения, она столько наслушалась о конспирации на специальных курсах для жен разведчиков перед выездом из Москвы, и такие дебильные особы порою читали на них лекции, что после этого нужно было либо сойти с ума и разговаривать с мужем только на улице (и то опасаясь направленных, как растопыренные уши, микрофонов) или под одеялом, запустив пылесос, либо полагаться на здравый смысл.
— Только говори, что купил торшер по дешевке, — теперь уже Дина вошла в роль конспиратора. — Все завидуют друг другу, все сплетничают. А вообще, Витя, нам уже точно не хватит денег до зарплаты. Тут такие высокие цены за электричество… тут приходится платить даже за воду… это же ужас!
— А давай жить, как советник Галковский, — засмеялся он. — За пять лет они ни разу не были в ресторане. Говорят, они ходят в сортир по очереди: сначала дочка, потом мама, никто не спускает воду, последним идет папа, он это и проделывает. Огромная экономия.
Дина смотрела на него с восхищением, она любила его за размах, за пьянство, за мотовство и даже за то, что он иногда изменял ей с заезжими советскими актрисулями, особенно с циркачками, регулярно баловавшими парижан гастролями. Греховные следы она обычно замечала в машине (куда еще податься несчастному советскому гражданину?), удобной и просторной, находила там гребенки и тюбики помады, волосы и шпильки, а однажды обнаружила на обшивке салона дыры, явно пробитые острыми каблуками, — какие танцы исполняли в машине можно было только догадываться. Прикрытие вице-консула совершенно его не выматывало, хотя консулу, «чистому» мидовцу и балаболке, он постоянно жаловался на перегрузки. Работа детская: прием с десяти до двух, проблемы виз, наследства, гражданства, и все одно и то же, и никакого просвета, мура.
Однажды явился статный старик с розоватыми щеками, аккуратной прической и манерами, от которых веяло утонченным аристократизмом.
— Константин Щербицкий, — представился он. — Не знаю, как вы отнесетесь к моей биографии, но не привык врать: в молодости я служил у генерала Врангеля, до тех пор пока из-за предательства англичан, французов и прочей сволочи нас не выбросили из Крыма.
Заявление сие не привело Кузнецова в восторг: белые навсегда оставались врагами красных, проку от них для разведки — как от козла молока, вербовать рискованно: французы держали их на крючке, как потенциальную «третью колонну». Чего изволите? Сущий пустяк: совершить вояж в Калугу, рядом до революции было родовое имение, где ваш покорный слуга появился на свет, но такого маршрута в «Интуристе» нет. И хорошо, подумал Кузнецов, зачем показывать иностранцам затхлую провинцию, если почти каждый месяц взлетают в космос спутники, потрясает Большой театр и функционирует украшенное Золотое кольцо?
— Может, в Москву или Ленинград? — бывший враг советской власти не вызывал у Кузнецова никакого интереса.
— Никогда не выносил столиц! Петербург и Москва — губители России! Хочу перед смертью в родные места…
И вдруг Кузнецов вспомнил патриархальный Елец, наверное, похожий на Калугу, и представил себя старым, почти столетним. Ему казалось, что жить он будет долго-долго, и тосковать и по Парижу, и по Ельцу! Самоуверенный хам из «Интуриста», отказавшийся помочь старику, возмутил его, случается же такое с секретными сотрудниками!
— Хорошо, я попытаюсь что-нибудь сделать для вас, не обещаю, что выйдет, но попытаюсь.
— Спасибо! — старик встал и протянул свою визитную карточку. — Я был бы очень рад, если бы вы согласились отобедать со мной. В русском ресторане, разумеется.
И отобедали. С балалайкой, расшитыми русскими рубашками, с густым борщом и пельменями и прочей клюквой. И старик оказался интересным, читал под борщ Гавриила Державина: «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером там щука пестрая — прекрасны». Эрудированный старичок, не жмот.
— Вы когда-нибудь здесь бывали? — спросил Константин.
— Впервые. Все-таки это ресторан врагов народа, — и на юмор Кузнецов был способен, не слишком тонкий, но все же. Старик вздохнул:
— Беда в том, что вы действительно в это верите…
Ну вот, началось! Только еще не хватало копаться в прошлом, ставить под сомнение итоги Гражданской войны и вообще. Зачем лишние слова? Надо поехать, посмотреть на достижения и на жизнь рядовых граждан, на метро и троллейбусы, на новостройки, заглянуть в школы и детские сады. Это в Москве, без нее нельзя. Потом — в Калугу. Говорил заученные фразы, всматриваясь в худющую даму с красной розой на черном платье, она пела со сцены, блеск, а не дама.
- Здесь похоронены сны и молитвы,
- Слезы и доблесть,
- «Прощай!» и «Ура!».
- Штабс-капитаны и гардемарины,
- Хваты полковники и юнкера.
- Белая гвардия, белая стая,
- Белое воинство, белая кость…
- Влажные плиты травой порастают.
- Русские буквы. Французский погост.
Кузнецов славно выпил, размяк, с нежностью заговорил о Париже. О, Париж! И вдруг:
— Никогда не любил этот сутенерский город! Кем только я тут не работал! И таксистом, и рыбьим жиром для свиней торговал! И это я, гвардеец, потомок князей Щербицких! Как я ненавижу всех этих подлецов французов! Вместо того чтобы давать нам деньги и оружие, испугались своих вонючих пролетариев и позорно нас бросили на произвол судьбы. А потом? Тихо и мирно признали большевиков. Убийцу — Ленина признали!
— Но ведь Россия за вами не пошла, — возразил Виктор мягко, боясь обидеть.
— Россия поверила демагогии ублюдков… масонам вроде Керенского, Корнилова, Колчака. Кем они были до государева отречения? Дерьмом собачьим! И вообще наш народ, как воск, — он покорен, глуп и доверчив, это нация детей!
Столь безжалостное отношение к соплеменникам сначала покоробило, а потом он подумал: прав, старик, прав, чего ж обманывать самих себя? Нация разгильдяйская, хотя и добрая: крови проливали поменьше, чем на Западе, подумаете, Иван Грозный порешил тысячи четыре, да ведь гораздо больше вырезали гугенотов лишь в Варфоломеевскую ночь! И вдруг в 1917-м оборзели, залились кровью, подчинились воле большевиков.
— У нас в коммунистической партии другое отношение к русскому народу, — заметил Виктор, но Щербицкий лишь махнул рукой: мели, Емеля, твоя неделя…
По дороге домой стало стыдно: хамелеон, сволочь, а старик — молодец, рубит правду-матку! Кто знает, может, служил в Крыму вместе с дедом-атаманом, отец его частенько вспоминал, хотя о прошлом помалкивал. Вспоминал, когда напивался, облачался в черкеску с пустым серебряным патронташем на груди, брал гитару, пел: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит» и, дойдя до места — «но выстрел раздался, нет чайки прелестной», неизменно пускал скупую слезу. Какая была черкеска! Совсем недавно он купил по случаю такую же, удивил Динку, войдя в полном казацком одеянии. Тут же выпил, завел разговор о деде и о дядьке, который попал в каталажку за какие-то политические дела на Кубани, а во время войны загремел в плен и исчез… Теперь уже Дина его сдерживала и показывала пальцем на потолок, словно именно там натыканы «жучки»…
Резидент КГБ во Франции, низкорослый брюнет с уксусным выражением лица, людей не любил и считал, что все они суки, собак же, наоборот, уважал и даже имел болонку. Кузнецова не жаловал за высокий рост и красивую наружность — беда всех несчастных карликов. Выслушав доклад о встрече со Щербицким, он сморщился (словно в горшок с головой залез) и заметил, что белая гнида и старый пердун советской разведке совершенно не нужен, нечего ему устраивать сентиментальных свиданий с родиной и тратить драгоценное время. Но Виктор настаивал: старик энергичен и здоров, дай Бог всем, у него куча связей, имеются дети и внуки (в перспективе могут тоже быть агентами!), почему бы его не использовать для дела?
— Что мы теряем, Александр Александрович?
— Ну ладно! — махнул рукой резидент, совсем окислившись. — Посмотрим, что из этого выйдет. Как говорил наш великий немец Энгельс: «Для того чтобы оценить йоркширский пудинг, его надо съесть».
Санкция была получена, и вскоре Кузнецов побывал на дне рождения Константина Щербицкого вместе с Диной: стол в лучших традициях, вокруг одни эмигранты, кроме улыбчивого Жерара Камбона, мужа дочки, занудного французика с бегающими глазами мелкого воришки. Беседа шла легко и весело под водку на лимонных корочках хозяйского изготовления, Виктор сентиментально рассказывал о России, словно зазывал на родину, что может быть лучше поездки куда-нибудь в Ростов Великий с ночевкой в монастыре прямо у озера? Щербицкий принес гитару, вручил вице-консулу. «Белая гвардия, белая стая, белое воинство, белая кость…» Советский — а поет, не боится, искренний парень.
Виктор надрался, хотя Дина удерживала, но не в смысле полной бессвязности, заплетающихся ног и головы в унитазе, такого никогда не бывало. Выглядел совершенно трезвым, словно резидент Александр Александрович, который свое отпил и зашил, как трепались злые языки, в задницу ампулу, поэтому он и злющий, словно кастрат на голой девке! Поболтал с Жераром, пропустили по рюмке-другой, тот оказался чудесным человеком, проникся, готов был помочь с бытовыми проблемами, как в ответ не поделиться казацким происхождением и не прихвастнуть, что дядя, наверное, живет в Париже? А почему бы нет? Почему бы пропавшему без вести дяде не поселиться здесь? Жерар удивился: с каких это пор русских выпускают при родственниках за границей? Где работает дядя? Сколько ему лет? А фиг его знает, может, и не в Париже, а в Нью-Йорке, и вообще это — государственная тайна.
— Как говорила мадам де Сталь, в России все — тайна, но нет секретов, — съязвил Жерар и пообещал показать Виктору истинный Париж, известный только его жителям.
Виктор поцеловал дамам ручки, как на светском балу, старался не слюнявить белую кожу — уже чуть развезло. В машине обмяк, никак не мог объехать цветочную клумбу, а она оказалась упрямой и не двигалась с места. Дина молчала, только тихо ахала, знала, что в таком виде лучше его не трогать. Преодолел клумбу, чуть зацепив бампером стоявшую машину, на трассе развил предельную скорость, задремал у красного светофора. Дома достал бутылку фундадора, испанское пойло, настоянное на клопах и предназначенное для советских бедняков, переоделся в казацкую форму и долго еще летало по квартире: «Белая гвардия, белая стая…»
Он и не подозревал, что попал в активную разработку: Жерар Камбон, милый родственничек Щербицкого, работал на самом деле не в частной фирме, а в контрразведке, об этой страшной тайне даже жена не подозревала.
— У моего тестя появился знакомец из русского консульства, между прочим, приятный парень, легко сходится с людьми и глушит водку, — доложил он шефу утром, улыбнулся и поправил бордовый галстук, сочетавшийся с темно-синим костюмом, на большую игру красок чиновничье воображение не замахивалось, к тому же брюнет — во всем брюнет.
— Наверняка он работает в КГБ! — засуетился шеф. — Если глушит и свободно держится, значит шпион! О, как они умеют пить! Однажды на приеме в русском посольстве я вычислил всех и по тому, как держат рюмку, и как бегают глазами по залу в поисках контактов! — Шеф в прошлом работал психологом, отсюда все плюсы и минусы, pros & cons.
Ясно, но нужны более полные данные. Подключить чудеса техники, усилить контроль за режимом дня, покопать связи, причем интенсивно, а не от случая к случаю. Через месяц на столе лежал документ с компрами: бездумно тратит деньги, которых вечно не хватает, опять же водка и песни дома, конечно, не страшный криминал, в колонии все подраспущены, но зачем напяливать на себя казацкую форму? Зачем? И что это за дядя? Камбон запустил проверку в муниципальный архив, и к ужасу своему обнаружил, что в Париже проживало около шестидесяти Кузнецовых, по своим приблизительным параметрам походившим на дядю…
Нет ничего милее людей, оказывающих бытовые услуги чужестранцам, и радости Кузнецовых не было конца. Разве не небо ниспослало этого милейшего француза? Многие проблемы он решал легко и просто, например, покупку мебели для московской квартиры, кожаной, черт побери, с огромнейшей скидкой. Да и кто лучше Жерара был осведомлен о расписании парижских распродаж, кто лучше него знал магазины, где не бесстыдно надували наивных русских дураков, а продавали высококачественный товар, причем за сносную цену? Жерар научил пить перно, открыл кабаки, где протирали стулья великие вроде видного писателя Андре Жида. Туда, в Кафе де Флор, Кузнецов порой хаживал в гордом одиночестве ради собственного удовольствия, брал, как какой-то Андре Жид, лишь рюмку «анизет де рикар» и задумчиво смотрел через окно на монотонный поток автомобилей, погруженный в фабулу своего будущего романа. Раскрывал газету, небрежно пролистывал ее, закуривал голландскую сигару, блаженно окуная губу в рюмку.
Однажды с помощью французского друга приобрели настоящий чиппендейльский диван, восхитительно красный, от такого весь московский бомонд ахнул бы. Наметили приобретение персидских ковров, хрустальных люстр и карнизов для штор. Француз вел свою игру, русский — свою: оба затягивали в западню.
— А мог бы ты помочь мне в более серьезном деле? — спросил Кузнецов.
— Если смогу. Мы же друзья, — чуть напрягся верный друг.
— Одному русском министерству очень нужна электронно-вычислительная машина последнего поколения. Но КОКОМ, как известно, наложил эмбарго на экспорт в СССР. Эти машины почему-то считаются стратегическим товаром.
«Сволочь, — подумал Камбон, — а какой же еще это товар? Не зубная же паста!»
— Чем же я могу помочь?
— Выехать в командировку в Индию, открыть там на свое имя фирму и купить эту ЭВМ. Переправку ее в Союз мы берем на себя. Ты получишь очень хорошие комиссионные.
Для приличия Камбон помялся, поерзал на стуле, задал несколько наивных вопросов о технологии переброски ЭВМ, попросил время на раздумье и вскоре забросил ответный крючок: дядя Виктора действительно жил в Париже и умер всего лишь несколько лет назад, правда, удалось найти дружка покойного, он все это и рассказал. Печальное известие, у Кузнецова даже слезы на глаза навернулись, грустно без дяди, словно прожил с ним многие годы и вдоволь погуторил о жизни.
— Давай выпьем за упокой его души, Жерар.
Друзья подняли бокалы, хороший тост. Странная это штука — отсутствие корней, сначала этого не ощущаешь, шагаешь по жизни с партбилетом на груди. Какое кому дело до прошлого, когда все мы в будущем? Потом прорезывается интерес, перерастает в любопытство, а дальше просто жжет, не дает вздохнуть: что там было? что за предки? как жили и что во мне от них? Корни хватают за горло, отодвигают текущее в тень. Так и с дядей. Черт возьми, у него ведь родственники на Кубани! Поехать потом туда, всех разыскать, все рассказать! У них узнать побольше об отце, обо всей семье… Как он раньше до этого не додумался!
Шеф контрразведки нацелил Камбона на психологическое изучение объекта, всей подноготной вплоть до болезней его предков и перипетий детства — сказывался обожаемый Фрейд, о котором шеф написал в свое время целую монографию. Так хотелось иметь красивое дело! Доложить лично министру, поднять престиж великой Франции внутри НАТО! В конце концов, надоели ухмылки министра по поводу несовершенства службы, тому все время союзнички тыкали в нос своими успехами: то перебежчик с сенсацией, то мощная высылка дипломатов, то русский шпион, ухваченный в Лондоне у тайника, прямо на месте преступления. А Франция — будто и не великая держава! Раньше, бывало, сколько русских драпало в Париж, а в последние годы — с гулькин нос.
И самое ужасное даже не это: не удалось французам завербовать ни одного кагэбиста, ни одного, черт бы их всех подрал! Позор! Как же не появиться обиде и зависти к союзническим спецслужбам? Если к этому добавить несколько случаев, когда советские резиденты во Франции, очертя голову, уматывали в Англию, чтобы там завербоваться, то волосы встают дыбом: почему? чем обидели? чем не понравились? за что такая дискриминация? В НАТО поговаривали: побеги кагэбистов из Парижа в Лондон не случайны: французские спецслужбы пронизаны советскими агентами, просить убежище во Франции небезопасно, можно незаметно оказаться и на Лубянке.
О, если бы затянуть в сети этого русского! Открыть наконец счет, возможно, исторический! Дело решили лепить на дяде — идея, кстати сказать, психолога-шефа, считавшего, что антисоветизм имеет генетические корни, ergo: борцы с большевизмом дед и дядя передали этот настрой внуку-племяннику.
К разработке подключили русского белогвардейца, высвечивающего жизни своих соотечественников еще с довоенного времени. Бывший белогвардеец Василий Янков, давно уже архивный агент, а раньше статный красавец и танцор (один раз исполнял чечетку прямо на столе в «Максиме», где отмечали юбилей генерала Кутепова, жонглировал кинжалами с зажженными рукоятками), вкус к оперативной работе не утратил и ныне. Правда, шеф считал его полным дураком. Возможно, и дурак, а разве прославленная разведчица Марта Рише, околпачившая немцев, была Вольтером в юбке? А служивый в немецком посольстве по кличке Цицерон, кравший шифры у германского посла в Турции, вообще писать не умел и был тупым, как утюг. Если дурак, то это надолго, обобщал шеф. Все относительно, упорствовал Камбон, отца нации Клемансо в свое время тоже считали полным кретином, а потом его вознесли, как гения. Обмозговали со всех сторон и порешили сделать ставку на Янкова — на безрыбье и рак рыба.
А у Кузнецова легкие неприятности: приятель Извеков, у которого вечно дурно пахло из синегубого рта (а ведь интеллигентен на вид, по-французски шпарит, словно Бальзак!), тот самый Извеков, восхищавшийся Диниными борщами, взял да и настучал шефу: мол, приобрели супруги шикарную кожаную мебель, по средствам ли? Александр Александрович вызвал на ковер, легко позондировал, получил объяснение, что мебель куплена с огромной скидкой, с помощью Камбона, коего поручено затягивать на бытовке, чего еще? Тут Кузнецов сообщил о согласии француза уехать на подвиги в Индию — серьезный сдвиг в разработке, запахло приличной вербовкой, если, конечно, притащит образцы. Все равно резидент побурлил, поговорил о вреде пьянства, посоветовал не терять чувства меры, вести здоровый образ жизни, ходить в бассейн, пораньше ложиться спать et cetera, et cetera. Кузнецова озадачил, отправил домой, а сам долго не мог успокоиться, вспоминал боевую молодость: ведь горел огнем, ведь вербовал направо и налево, заливая успехи высококачественным спиртным. Потом пришлось завязать: вырулил на руководящую работу, маленький, черненький, с уксусной улыбкой.
Камбон готовил Василия Янкова к операции, кормил агента в ресторане. Тот дорвался, ел жадно, стыдился этого, старался замедлить темп, но не получалось. Время от времени поднимал слезящиеся глаза на Камбона. Хоть и развалина, но блеск в очах еще сохранился, морда склеротическая, хитер по-плебейски, прямо скажем, до Вольтера далеко, а что делать? Редко встретишь по-настоящему умного агента, занятие все-таки не самое почтенное, и это ужасно, и всегда угнетает любого честного сотрудника секретной службы. Но дело есть дело, Жерар со слов Кузнецова приблизительно описал внешность дяди, помнил лишь расплывчатую лысину и добрую улыбку, тут даже Ленин сошел бы. Разработали легенду знакомства с дядей, конечно же, на вечере памяти великого Ивана Бунина (не в пивной же!), где собирался весь цвет тогдашнего парижского казачества, для убедительности нужны детали: в перерыве столкнулись в буфете (где еще могут встретиться русские?), выпили, разговорились, прониклись.
— Надеюсь, что вы оправдаете наше доверие, — сказал Камбон и достал сигару. По-лакейски улыбаясь, Янков достал спички и дал прикурить, что вообще-то, по мнению джентльменов, равносильно предоставлению своего члена в руки соседа для мочеиспускания. Вскоре Жерар затащил Кузнецова на квартиру к Янкову, на деньги французской контрразведки (у шефа душа переворачивалась от скупости, но все-таки отвалил) Василий накупил черной икры и закатил настоящие блины. Во время пиршества и поведал историю своей дружбы с дядей Николаем Григорьевичем, хорошим и отзывчивым человеком (словно прямо из некролога).
— Ваш дядя был герой… большевиков, извините, за людей не считал.
Прекрасный идеологический ход, своего рода зондаж: возмутится или нет из-за славных большевиков. Виктор не обратил никакого внимания, зато огорошил:
— Где он похоронен?
Янков захлопал глазами, потер лоб. «Идиот, что ты не телишься? — думал Жерар. — Скажи что-нибудь! Конечно, промашка моя, ах, эти легенды, разве можно все предусмотреть?» Он даже вспотел и чувствовал, как из-под мышек поднимается кислая вонь, словно открыли столетней давности сундук со старыми башмаками.
— Ты же говорил, что на русском кладбище, на Сент-Женевьев-де-Буа! — вмешался, не выдержав, Жерар.
— Господи, совсем память отшибло, проклятый склероз! — запоздало нашелся Василий.
— Так поедем сейчас туда! — предложил Кузнецов, разгоряченный водкой.
Господи, какой ужас, как я влип! Любой непродуманный экспромт таит тысячи мин, дернуло же за язык с этим кладбищем — Жерар от волнения выпил целую рюмку.
— Сейчас… сейчас я не готов… — заблеял Василий.
— Тогда завтра!
Жерар сильно нажал под столом на ногу идиота, да так больно, что тот чуть не заорал, забегал глазами, но ничего не понял — как истолковать этот тайный жест ноги? Завтра или послезавтра? Или никогда?
— Завтра? Хорошо…
Сволочь, мудак, зачем ты согласился? Шеф был прав: с идиотами каши не сваришь! Что делать? Какой выход? Жерар распустил воротник рубашки и выпил еще стопку, затем еще… Сейчас бы уйти, посоветоваться, но обещал Кузнецову досидеть до конца, не каждый день такая радость. Вечер катился по всем неписаным правилам русской пьянки, звучали тост за тостом, бренчала гитара, которую принес хозяин, и Виктор орал: «Белая армия, белая стая…» В десять вечера, еле ворочая отходящим в небытие сознанием, Жерар обильно поблевал в туалете и, не простившись с русскими забулдыгами, выполз на улицу.
Шеф-психолог любил засиживаться допоздна, поразмыслить в одиночестве над бумагами (кстати, режим сей был придуман неспроста, раз в неделю после работы его принимала любовница, подруга еще с институтской скамьи, тоже по части психологии, а жена была, как Отелло, душивший Дездемону). Он уже собрался домой, когда грохнула дверь и на пороге появился растерзанный Камбон.
— Несчастье, шеф, этот дурак сказал, что дядя похоронен на русском кладбище. Кузнецов уже рвется туда…
Все-таки психология — элитарная наука, она учит уму-разуму. Шеф не чесал со скрипом голову, а нашелся сразу: повелел Жерару привести себя в порядок (тот заерзал рукой по ширинке, словно только в ней и было дело), прекратить причитания, срочно выехать с бригадой на кладбище, срочно найти достойное место, срочно сделать крест и срочно имитировать могилу.
Проникнуть на кладбище ночью — все равно, что в шифровальный центр, — задача неразрешимо трудная. Шеф прибег к помощи своего министра, тот позвонил мэру города и поднял его с постели, пришлось все объяснить происками таинственной банды шпионов, нашедшей укрытие среди могил. Последовало указание чиновнику, связанному с кладбищами, тот позвонил смотрителю в Сент-Женевьев-де-Буа и приказал допустить туда полицию.
Всю ночь по русскому кладбищу, словно мрачные призраки, затеявшие шабаш, деловито бродили контрразведчики, освещая могильные плиты фонарями, никто из них и понятия не имел, что тут покоились великие люди России: и Бунин, и Шмелев, и Зайцев, и Алданов… И вдруг неожиданная удача: среди похороненных офицеров дроздовского полка обнаружили некоего Кузнецова, инициалы имени и отчества были затерты. Пришлось решиться на кощунство и их проставить, естественно, с расчетом все восстановить в прежнем виде, не будет же этот русский псих регулярно бегать за город на могилу дяди? Разбудили гравера, взяли у него подписку о неразглашении тайны, и к утру работа была закончена.
Утро это оказалось необычным и для Виктора Кузнецова: раскрыв глаза, он с удивлением обнаружил себя на чужой кровати, рядом с храпящим, гнусного вида старцем. Вспомнил, что напился в дупель, внял призывам Дины (ей ухитрился позвонить ночью по телефону) и не сел за руль. Виктор с удовольствием ткнул старика в бок, тот проснулся и тоже обомлел от вида незнакомца, в голове еще бродил туман. Новые друзья легко опохмелились и выхлебали по тарелке кислых щей. Дабы дурак Янков опять не нарубил дров, Жерар взял операцию под свой контроль, подкатил на машине и повез обоих прямо на кладбище. Возложили розы, Виктор чуть прослезился, Янков присоединился, Жерар повздыхал…
Тем временем дело о выезде Щербицкого разрешилось положительно, и тот вскоре оказался в Москве. Столица отнюдь не очаровала его, особую ненависть вызывали коробкоподобные дома, загадившие старомосковские улицы, зато он проникся любовью к кремлевским соборам, побывал на службе в Елоховской церкви, был принят сановной церковной особой в Коломенском, где ужинал в краснокирпичном домике с дивным видом на Москва-реку. Правда, у мавзолея Ленина, оглянувшись и убедившись, что на него никто не смотрит, старик плюнул на булыжники Красной площади, напугав сидевших рядом голубей. Эскортировал Щербицкого гид — агент КГБ, пекущийся о светлом имидже социализма и одновременно, согласно плану, поднимавший авторитет Кузнецова: и влиятельная персона, и добрейший человек, такому нужно быть обязанным по гроб.
— Товарищ Кузнецов просил свезти вас в Вязки под Калугой, обычно мы это не практикуем, но для вас сделаем исключение. Помните, Пушкин писал: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»?
Пушкина Константин помнил, а вот о Вязках сохранились лишь туманные осколки воспоминаний: катание на санках с горы, когда он врезался в дерево и уже дома мама прикладывала к голове мокрое полотенце, пасхальную гонку на птице-тройке («Слышен звон бубенцов издалека» — пели самозабвенно), острые покусывания ветра, начиненного снежинками, церемонные обеды, на которых ему всегда доставалось за лишнее слово или за без спроса взятое пирожное (зато, когда разбил тарелку Веджвуда, никто даже бровью не повел). Да и не мог он помнить имения, ибо отец продал его, когда сыну исполнилось пять лет, и вся семья переехала в Харьков, а потом началась война, и совсем юный Константин добровольцем ушел в армию. Дальше две революции, Гражданская война, все вертелось и крутилось, как во сне, пока не закончилось в Париже.
За километр до Вязков машина застряла в грязи, и Щербицкому с гидом пришлось идти пешком. Кривые дома с полуразрушенными оградами, пьяный мужик в рваном ватнике, спящий в луже, коровы и козы, мирно обкладывающие дорогу своими кучашариками, буйная березовая роща, молодуха с коромыслом через плечо (словно с картины Кустодиева, откуда такая в этой дыре? кто тут остался? нормальные люди ведь давным-давно сбежали в город!), группа добрых алкашей, галдевших, словно вороны, около сельпо, они заулыбались хорошо одетым, помахали руками. Около призрачного скелета церквушки, усеянного зловещими воронами, к ним присосалась ветхая старушка.
— Вы чьи будете? — задребезжала она.
— Да жил я здесь когда-то, — ответил Щербицкий. — Тут дом был белый, большая усадьба…
Старуха не понимала, хлопала глазами, и Щербицкому стало противно — зачем он сюда приехал? Все равно уже не вернуть того мальчика в матроске, бегавшего по липовой аллее парка! Старуха вдруг напряглась и по-пролетарски озлобилась:
— Да сожгли эту буржуйскую усадьбу, туда ей и дорога! А то жирели, эксплуатировали трудящыхся! — она разразилась мелким смехом, и все вокруг стало еще противнее.
По дороге в Москву глотал водку прямо из бутылки, гид проникновенно рассказывал об очередном пленуме ЦК по сельскому хозяйству и его революционных решениях. На следующий день вылетел в Париж, там постепенно отошел от визита. Россию не переставал любить, но она превратилась в другую, в чужую, совсем ему непонятную. Плевать Западу на Россию, у него свой интерес! А страна весьма поганая, но и раньше о мерзости российской писали, вот у Блока о купчишке, обсчитавшем ближнего и потом целовавшего церковную икону… «и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!»
По приезде Константина Щербицкого ожидал сюрприз, причем, с одной стороны, неприятный, а с другой, как ни странно, очень даже радостный: дочь объявила, что разводится с Жераром (старик поворчал, но в меру, зятя он давно недолюбливал), а заодно раскрыла и величайшую семейную тайну: отвергнутый муж работал во французской охранке, сам в этом признался, когда она случайно нашла его документы, но просил помалкивать. Теперь дочка всласть рассказывала о мерзком полицае и стукаче, готовом удавиться из-за каждого франка, к тому же еще бабнике, а заодно и импотенте, к которому она быстро потеряла интерес, — тут дочь немного пофантазировала, ибо особого интереса к Жерару не имела и в начале супружества, тем более что многие годы была связана с русским любовником и считала французов мыльными пузырями, красивыми и манящими с виду, а на деле все они импы…
История с кладбищем тоже вылезла наружу. Щербицкий ахнул, тут же припомнил некоторые вопросики о вице-консуле. Как это он, честный русский офицер и дворянин, стал пешкой во французских руках и втянул друга Виктора в грязную ловушку охранки? Тут же позвонил и попросил встречи. Выпили пива в дешевом бистро, недалеко от дома Щербицкого, там он и раскрыл истинное лицо своего бывшего зятя, вылил на него столько, что даже сам удивился.
— Кто такой Янков? — спросил Виктор.
— Васька? — глаза у Щербицкого загорелись. — Знаю я эту суку… он еще в тридцатые нас закладывал…
Когда расстались, неистовый Константин заскочил домой, взял палаш — святую реликвию прошлого и на такси помчался к Янкову. Тот и ахнуть не успел, как Константин ворвался в квартиру, и огрел по голове хозяина (чуть промазал, больше перепугал), Янков завизжал и помчался от взбешенного Константина, размахивавшего оружием. Наконец настиг, бросил на кровать и стал дубасить палашом плашмя по ягодицам, комната вздымалась от стонов и мата.
Впрочем, энергия у Щербицкого не иссякла, и он тут же помчался к бывшему зятю, правда, тут события развивались несколько по другому сценарию, ибо Константин забыл палаш в такси, а потому с ходу запустил в хозяина декоративной керосиновой лампой. Жерар охнул и обхватил двумя руками пораженный череп, а Щербицкий вдруг схватился за сердце, застонал и медленно опустился на пол. Вызванная скорая помощь констатировала острый сердечный приступ и отвезла старика в больницу…
«Боже, какое счастье, что произошел развод, — думал Камбон, — ведь дети наследуют худшие качества родителей, представляю, в какое чудовище превратилась бы дочь Константина с годами! Тоже, наверное, выросли бы клыки и нос загнулся бы, как у ведьмы. И вообще русские — ужасны, и пора перейти в другой, более спокойный отдел, лучше работать с англичанами или даже с арабами».
Утром шеф контрразведки с нескрываемым любопытством рассматривал синяки Жерара — тот был растерян и подавлен. Просил совета, как избежать полной расшифровки перед Кузнецовым — ведь старик наверняка все разболтает. Шеф хмыкнул и мягко намекнул подчиненному поискать единственный выход из положения. Какой выход? Страшный намек поверг Камбона в полную растерянность, он побледнел (и курицы в своей жизни не зарезал, и даже мух убивать считал зазорным, полагая, что в любом живом существует душа, и наши несчастные души после ухода во тьму переселяются и в травинки, и в мышей, и в мелких рыбешек) и ретировался из кабинета.
Неужели шеф намекал на убийство? Боже! Не мог набожный католик Жерар Камбон отравить своего бывшего тестя. Жерар промучился всю ночь, страшные видения представали перед ним: то он душил тестя подушкой, и тот хрипел, медленно синея и разрывая зубами запекшиеся губы; то сжимал ему челюсти рукой и запихивал в рот яд, сверкали золотые коронки, он задыхался и кашлял, брызги летели изо рта; то бил его по голове бронзовой статуэткой Наполеона, взятой напрокат из кабинета шефа…
Но жизнь всегда соблюдает счастливое равновесие, несчастья балансируются счастьем, иногда даже в таких дозах, что страшно становится за будущее, которое может все сбалансировать в противоположную сторону. Вот и наутро на работе несчастного Жерара ожидала радостная весть: ночью Константин Щербицкий скончался.
На похоронах народу было негусто, соратники покойного уже давно почили в бозе, Камбон вместе с Василием Янковым несли гроб (оба испытывали чувство глубокого удовлетворения и считали, что Щербицкого покарал Господь за агрессивность), присутствовали и Кузнецов с Диной, собственно, ради беседы с ним Жерар и прибыл. Как положено, покойного отпели в русской церкви, после панихиды скромная процессия двинулась к свежевыкопанной могиле, застучали комки земли о крышку гроба — и все было кончено. Затем традиционные поминки, слезливые тосты, обсуждение достоинств покойника, вакханалия фарисейства, все быстро напились, забыли, зачем пришли, хохотали, рассказывая анекдоты.
— Константин Константинович был для меня, как отец, — говорил Кузнецов, сдерживая слезы. — Я не могу говорить о нем как о мертвом. Это был жизнерадостный человек, он любил веселье и наверняка, будь он сейчас на нашем месте, не позволил бы нам бесконечно сокрушаться и рыдать. Я хочу спеть для него нашу любимую песню.
И он запел: «Белая гвардия, белая стая, белое воинство, белая кость…»
Жерар пил осторожно, помня о печальном опыте, и временами посматривал на Кузнецова, тот держался непринужденно и улыбался французу, видимо, Щербицкий не успел раскрыть ему глаза. Выбрав удобный момент, Жерар отозвал его в укромный угол.
— Я договорился об открытии фирмы в Индии, Виктор, — сказал он многозначительно, буравя русского своими черными, как у галчонка, глазами.
Реакция оказалась совершенно непредсказуемой — о, эта загадочная русская душа!
— Щербицкий мне все рассказал, Жерар, не будем зря заниматься маскарадом. Я готов сотрудничать с вами. Мои условия: счет в парижском банке, особняк в хорошем районе, французское гражданство, естественно, тайно, оплата не как клерку, а по количеству переданных документов. Через год я возвращаюсь в Москву, потом, очевидно, снова вернусь сюда.
Жерар не поверил своим ушам, жар-птица сама шла в руки, такого разворота событий он совершенно не ожидал и даже растерялся.
— Значит, вся эта затея с Индией отпадает? — обрадовался Жерар.
— Наоборот, вы дадите мне письменное согласие на сотрудничество с КГБ, будете под расписку получать деньги и работать по моим заданиям. О вашей вербовке я доложу начальству, естественно, умолчав, что вы контрразведчик. Это поможет моей карьере.
Он уже давно все продумал: большевики растерзали Россию, убили деда, сломали жизнь его отцу и дяде, выгнали цвет нации с родины. А он, как червяк, пресмыкался перед этим режимом, так и выйдет на пенсию, и отдаст концы… Разве все это не подло? Служить французам — тоже невеликая радость, но он попытается сохранить независимость, с ними сотрудничали и такие корифеи, как атаманы Краснов и Семенов, это совсем не шпионаж, а если и шпионаж, то ради высоких целей, ради народа. Он поработает на французов, накопит деньги, поселится в Париже и уйдет с головой в деятельность антисоветских организаций, он знает дело, он оживит их работу…
Сладкий запах победы бродил по французской контрразведке, такого никогда не бывало. Шеф восседал на своем кресле не бесцветным психологом, а гордым павлином, его заместители светились от счастья, а Жерар скромно стоял посреди комнаты и докладывал о своих наметках. По случаю знаменательного события выпили бутылку «Мумм». Потупив сияющий взор в искрящееся шампанское, шеф толкнул короткий спич, отметил заслуги Жерара перед отечеством, намекнул и на свое мудрое руководство, призвал к высокому профессионализму в дальнейшей работе с русским противником. В тот же день о блистательной победе было доложено самому министру, а тот конфиденциально поведал о ней лично президенту, на всякий случай умолчав о фамилии новоиспеченного агента, ибо президент был социалист и не пользовался особым доверием в кругах патриотов-голлистов, к которым принадлежал министр.
Работа на благо французской разведки закипела, Кузнецов засыпал ее всевозможной информацией и идеями вроде создания в Париже боевой группы из эмигрантов для переброски в СССР в случае «горячей ситуации», французы только хватались за головы от таких предложений. Шпион из него вышел эффективный, но бесшабашный, иногда он прямо копировал секретные документы на ксероксе в резидентуре, порой запросто уносил их домой и передавал Жерару для фотографирования, из лени пренебрегал миниатюрным «Миноксом».
Жерар тщательно готовился к встречам с Кузнецовым, иногда это были «моменталки» в парках и на глухих улицах, впрочем, эта практика не радовала Виктора, он любил посидеть и потолковать в ресторане, ему претила роль статиста, передающего документы. Психолог-шеф уже давно пришел к выводу, что работа на чужую разведку — это болезнь ума и психики, посему на агента нужно смотреть как на феномен нестандартный и шизофренический, пьянство и капризы Кузнецова он объяснял подспудными нагрузками на его голову, они-то и выталкивали наружу энергию.
— Что у вас такой скорбный вид, Жерар? Или вы недовольны моей работой?
— Мы вас высоко ценим, Виктор, но ради бога, не говорите громко, ваш французский блестящ, но с акцентом, официанты весьма наблюдательны… вы же профессионал!
— Черт побери, можно подумать, что я — единственный русский во всем Париже. Да нас тут, как сельдей в бочке! Разве у меня на лбу написано, что я вице-консул, а не князь Оболенский?
Все это во весь голос, с громовым хохотом — о ужас!
Париж огромен, и заниматься там шпионажем — одно удовольствие. Это не Стокгольм, где половина жителей знакомы друг с другом, и не Пекин, где на каждого белокожего смотрят, как на льва в клетке, и не большая деревня Люксембург, и не Москва, где сыщики так набили себе руку, что знают каждый дырявый дом и проходной двор. В Париже — разведчик живет, как иголка в стоге сена.
Два года пролетели волшебно, как в сказке, престиж французов взлетел, и даже в разведывательном комитете НАТО на них перестали смотреть, как на бедных родственников, питавшихся крохами с чужого стола. Кузнецовские материалы вносили свежую струю в оценки советской научно-технической мощи, и по этому случаю низкорослый шеф удостоился приглашения в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли…
Любому счастью, как и жизни, приходит конец: командировка Кузнецова истекла, и супруги собрались домой. Работать ли с агентом в Москве? Все знали, как опасно работать в советской столице, насквозь пронизанной наружкой, но не лишаться же из-за этого ценного источника? Можно, конечно, сделать ставку на встречи за границей, но кто знает, будут ли баловать Кузнецова командировками? Но самое главное даже не это. Шеф контрразведки не желал передавать агента внешней разведке, имевшей свою резидентуру в Москве. Из службы, совершившей воистину подвиг, уплывал агент, и к кому? — к кому?! — к жалкой разведке, которая десятилетиями била баклуши и черпала всю информацию от истеричных русских поэтесс и прочих диссидентов, сочинявших философские эссе в котельных и мечтавших попасть в анналы истории. Шеф собрался с силами и уговорил министра не менять кураторов Кузнецова — зачем в дело втягивать лишних людей? — очень деликатно намекнул и на то, что разведка, находясь на территории противника, подвергнута проникновению «кротов».
Жерар, как ключевая фигура операции, поступил на интенсивные курсы по разведподготовке, обложился атласами и картами Москвы, в которой он был обязан плавать, как рыба в воде. С трудом нашли издателя — бывшего агента, под «крышу» которого посадили Жерара, специально установили отношения с московским «Прогрессом», наконец, дабы фанатичный КГБ привык к новому представителю издательского бизнеса, решили на начальной стадии организовать несколько бросков Жерара в Москву без всяких оперативных заданий, а лишь с целью адаптации к столице.
Никаких восторгов Москва у Жерара не вызвала, тем более что поселился он в безвкусной коробке с характерным названием «Космос» — хаос, бордель, сервис на уровне палеолита, жулье и черный рынок на каждом шагу.
Наконец определился день отбытия Кузнецовых в Москву. В посольстве был дан шумный бал для своих, виновник торжества традиционно надрался и пел сочиненную им песенку о жизни советской колонии:
- А у меня сплошные передряги:
- Крючок я на рыбалке в нос всадил,
- Вновь в туалете кончилась бумага,
- И сам посол кому-то засадил…
Скандально, конечно, резидент Александр Александрович еле сдержался (хотя про себя радовался, что обскакали посла), но все же посоветовал Кузнецову быть на людях посдержаннее.