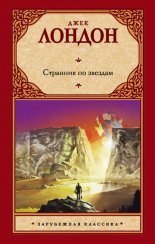Декамерон шпионов. Записки сладострастника Любимов Михаил
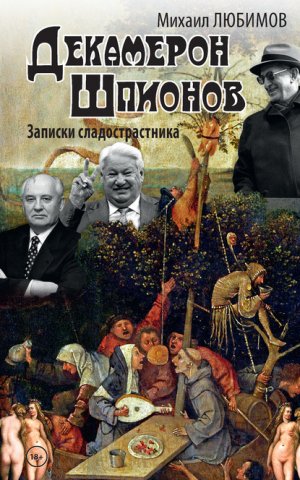
Красива до чертиков, подумал он, и пахнет лавром — запахи заслоняли у него все, с запаха он составлял свое мнение, словно собака. Шли по улице, иногда он брал ее за руку и гладил запястье, кожа была тонкой и беззащитной.
— У вас костюм, как у английского джентльмена…
О, этот клетчатый костюм, он так им гордился! Но что делать дальше? Пригласить в особняк с Гиммлером? Исключено. В отель? Невозможно. Свернули в переулок, уставленный домами из красного кирпича, остановилась у подъезда, вот и финал.
— Пока! — и шмыгнула в свою нору, оставив замешкавшегося любовника наедине со своими грезами. Он рванулся было за нею, но замок брамы щелкнул, и вдали застучали каблучки…
Петровский появился ровно в девять, огромная домна, пышущая огненным здоровьем, великолепно рыжий и намазанный тошнотворным «Кармен».
— Как провел вечер? — бросил дежурно, словно ему это было ему до фени.
— Немного проветрился в центре.
Правда, Петровский был уже прекрасно осведомлен о всех передвижениях Богдана, за которым сразу же пустили три бригады наружного наблюдения, аккуратно фиксировавшие каждый шаг. Уже в архивы восточногерманской контрразведки была запущена бумага с просьбой установить личность дамы, далее следовали приблизительные описания. Конечно, Петровский отметил про себя момент умолчания в легко брошенном «проветрился», однако, он был многоопытен, циничен и разумен: весь мир врет или чего-то недоговаривает, человек по своей природе лжив и порочен, это касается даже самых надежных сотрудников разведки, даже генералов, и важно, чтобы плюсы перевешивали минусы.
— Вот фотография Бандеры, — Богдан увидел волевое лицо и массивный лысоватый череп (опять лысый!). — Через несколько дней он будет присутствовать на годовщине смерти полковника Коновальца, основателя движения. Его мы кокнули в Роттердаме перед войной, наш парень преподнес ему коробочку конфет, которая разнесла не только полковника, но и весь квартал. Вылетишь в Мюнхен, потолкаешься там среди самостийников. Будь осторожен: у Бандеры мощная служба безопасности — безпека. Посмотри, как двигается этот подонок, как жестикулирует, как поворачивает голову, короче, изучи свою мишень, полюби ее, в конце концов! — он хохотнул. — Ты же своего рода художник, который любит свою картину… Старайся не попадаться ему на глаза, не дай бог, он тебя запомнит.
В Мюнхене на него напала тоска, совершенно черная меланхолия. Как обычно, в башку лезла разная чепуха: муравьи, ползущие по его собственному трупу, изогнутая бровь Инге, вдруг отделившаяся от лица и улетевшая в небо, надпись черным углем на подмосковном доме недалеко от стрельбища: «Весь мир — дерьмо, все бабы — шлюхи, а солнце — долбанный фонарь».
На мюнхенском кладбище, где собралось человек сто националистов, налетела нервозность, и казалось, что все знают о его намерении убить Бандеру, и смотрят, и вот-вот укажут пальцем, и сам Степан Бандера, мрачный и торжественный, казалось, только и норовит высмотреть Богдана в толпе, впериться тяжелым взглядом ему в лоб и заорать оглушительным басом: «Взять его!» Бандера говорил медленно, не дергался и не размахивал руками — это радовало: голова легко войдет и остановится в прицеле, и сядет на мушку, а потом с нее свалится. Это не дерганный, никогда не стоявший на одном месте Лев Ребет, царство ему небесное! Что смогут сделать телохранители? Заслонить? Не успеют, все будет сделано неожиданно и мгновенно. И смерть будет мгновенной. Как и жизнь.
В тот же вечер Сташинский вылетел в Берлин, прибыл поздно, неожиданно для самого себя купил букет махровых роз, хотел сменить костюм в клетку на костюм в полоску, но решил не терять времени: взял такси, добрался до дома Инге, подождал, пока кто-то открыл подъезд, и решительно поднялся по лестнице. Удивленная фрейлин (на сей раз изогнутыми оказались обе брови) в длинном махровом халате осторожно открыла дверь.
— Вы? — бровь выпрямилась, но тут же изогнулась опять. — Что-нибудь случилось? — впрочем, вопросы звучали лицемерно, ибо букет роскошных роз говорил сам за себя. — Извините, я уже собралась спать…
Попыталась захлопнуть дверь, но Богдан с неожиданной проворностью сунул ногу в щель, протиснулся в прихожую и с ходу заключил ее в объятия. Уперлась сжатыми кулачками ему в грудь, пытаясь освободиться, розы мешали ему и кололись.
— Нахал! Кто тебя сюда звал?!
Он глупо затоптался на месте, не зная, куда деть цветы, все выглядело безумно нелепо.
— А ты так умеешь?
И Сташинский начал шевелить ушами — искусство, дарованное ему природой и успешно развитое во время детских дворовых игр, — это было так неожиданно и выглядело так смешно, что Инге расхохоталась и сменила гнев на милость.
— Заходите, если уж так случилось. Садитесь, я сейчас поставлю чай…
Переоделась в красивое платье в пандан джентльменскому костюму своего кавалера, подала чай с кексом, достала бутылку мозельвейна, включила музыку. На фокстроте они совсем расслабились и били ногами по паркету, как стреноженные кони. И конечно же, Богдан потешал ее своими мобильными ушами.
Он проснулся рано утром и, как в сентиментальных романах, разбудил ее поцелуем.
— Ты что так рано? С ума сойти!
— Теперь ты будешь просыпаться в это время до конца жизни, — сказал он искренне.
— Спасибо, что осчастливил… Куда же это ты помчался, как заяц?
— Важные дела. Извини, — Он быстро оделся и отправился на виллу, управляемую женским вариантом Гиммлера.
Утро Петровский целиком посвятил беседе с Головановым, ведавшим сыском, установками и прочими техническими, но чрезвычайно важными в деле разведки сферами. Всю жизнь Голованов проработал в московской сыскной «семерке», следя за шпионами и антисоветчиками, постоянная беготня без перерывов на обед или ужин напрочь испортила ему желудок (уже два раза оперировали язву) и сделала физиономию худой и язвительно-желчной, словно у записного сатирика.
— Инге Поль, — докладывал Голованов, — работает стюардессой в авиакомпании, иногда вылетает за границу. На работе характеризуется положительно: исполнительна, аккуратна, внимательна к пассажирам. Замужем не была, ведет довольно замкнутую жизнь, ее контакты сейчас устанавливаются с помощью немецких друзей.
— А какова ее политическая физиономия? Коммунистка? Общественница?
— По нашим данным, весьма аполитична и нейтральна. Не член партии, даже не была в комсомоле. В общественных мероприятиях участвует, но, как сообщают источники, без души, — Голованов скривил такую кислую физиономию, будто у него разрывалось сердце от общественной пассивности Инге.
— Фото имеется?
Голованов молча положил перед Петровским фотографию, и тот начал ее рассматривать так внимательно, словно ему попался в руки любимый «Плейбой».
— Ничего особенного, баба как баба. И что он к ней повадился?
— Любовь — это загадочное королевство, — важно заметил Голованов, который много читал и считал себя интеллектуалом. — Любовь и голод правят миром, — добавил он и рассказал страшную историю о том, как искали одного преступника, наконец, по его, Голованова, совету додумались поставить пост у квартиры его дамы сердца. Контролировали целый месяц, не спали ночами, словно выжидая зверя, и наконец он вошел в капкан, не выдержало либидо.
— Да хрен с ней, с любовью! — махнул рукой Петровский. — Парень он молодой, пусть себе кобелит. Беда в том, что он об этом не доложил!
— Да, это плохо, — согласился Голованов. — В нашем деле биография должна быть чистой, скрывать от начальства нельзя. Сначала скрывают по мелочи, потом по-крупному, а дальше уже и преступлением может запахнуть.
— Пока что наружку не снимайте, собирайте о ней дополнительные данные, кроме того, попросите немецких друзей отстранить ее от заграничных поездок. На всякий случай. Кашу маслом не испортишь.
— Будет сделано.
Голованов встал и покинул кабинет, а Петровский поехал на стрельбище, где его уже ожидал пунктуальный Сташинский. Стреляли и по движущейся мишени, и по тарелочкам, и из разных поз, и из автомобиля. Богдан формы не потерял, наоборот, бил точно в яблочко, уверенно и весело, как и подобает настоящему боевику и спортсмену, несанкционированная ночь с немкой на точность попадания не повлияла. Отстрелявшись, набросили брезентовые куртки, надели резиновые охотничьи сапоги и с двумя овчарками двинулись погулять по лесу, деревья тревожно гудели под порывами ветра, солнце слабо пробивалось сквозь сосновые ветки, тут же уходя в сырь, резвились белки, сновали тут и там, весело помахивая пушистыми хвостиками, забирались на верхушки, прыгали и перепрыгивали, вертели мордочками, словно подглядывали и подслушивали.
— Больше всего меня беспокоит охрана, — говорил Богдан. — Заслоняют ли они его сразу же после выхода из машины? Доводят ли до двери?
— Только вчера мы получили из резидентуры описание местожительства Бандеры, по их данным, он часто приезжает домой без всякой охраны. Надо лично посмотреть, как выглядит все на месте.
Богдан улыбался, глядел на солнце, продиравшееся сквозь деревья, кивал согласно головой и думал, что неплохо было бы поймать одну такую белку и подарить Инге.
— В Берлине хорошие девочки, правда? Я вчера с одной неплохо провел вечер… — провоцировал на откровенность Петровский и блаженно улыбался, словно имел группенсекс, где все участники передавали изо рта в рот холодных и кисловатых устриц.
— И все-таки мне до конца неясно: каким образом я буду убирать Бандеру? Стрелять? — Богдан словно не слышал.
— По обстановке. Возможно, стрелять, возможно, как и Ребета.
Затошнило. Нет, он не пойдет в подъезд, он задохнется там, он потеряет сознание.
— Лучше стрелять. В подъезде бегают люди.
— Много шансов промахнуться…
Богдан вынул из кармана миниатюрный браунинг и произвел три выстрела по деревьям. Три белки камнем пали на траву и замерли, одну он поднял и положил в рюкзачок.
— В твоих способностях я не сомневаюсь.
Ничего не рассказал об Инге, думал шеф, ни слова не сказал, сукин сын, за это ведь можно в 24 часа выставить в Москву, а оттуда и еще подальше, в какой-нибудь Конотоп, в местное управление, где и в глаза не видели иностранцев, но зато усердно против них работают, захлебываясь от счастья в водке. С другой стороны, не такой уж это и великий грех, сам год назад по пьянке переспал с одной немкой, большой мастерицей по этому делу, трясся потом целый год, все боялся, что кто-нибудь стукнет, но пронесло, отделался гонореей. И все же, и все же…
— Как твои личные дела? — теперь уже прямо и серьезно.
— Да никак!
— Говорят, что ты дома не всегда ночуешь…
— Гиммлер не дремлет, — улыбнулся Богдан. — Есть одна женщина, довольно приятная…
— Как ее зовут?
— Инге Поль, — и Сташинский рассказал все без утайки.
— Черт! Была бы украинка или русская…
Богдан промолчал, его самого тяготило, что влюбился в немку, хотя… коллеги говорили об интернационализме, что же тогда плохого в немцах? Даже среди евреев попадались приличные люди, он до сих пор с теплом вспоминал своего друга-портного, уехавшего из Львова в Израиль.
— Ладно, парень ты молодой, без бабы тебе нельзя. Но напиши о ней справку, особенно об обстоятельствах знакомства.
Богдана это не шокировало, в органах было принято сообщать не только о своих родственниках и друзьях (их список он составил много лет назад), но и о новоприобретенных связях.
— Она коммунистка? — проверял Петровский, на сей раз уже информацию Голованова.
— Она политикой не интересуется…
— Это тоже политика. Не вздумай раскрываться перед нею!
— Я же не полный идиот.
Если бы она была не немка, думал Петровский, если бы только она была не немка… Впрочем, в разведке работали немцы, кое-кого он знал лично, например, Вилли Фишера — немца, сына коминтерновца, родившегося в Лондоне (не еврея ли?), во время войны обучавшего на Лубянке радиоделу партизан. Но это исключение из правил. Как бы из-за этого его кандидатуру не сняли, ищи потом другого боевика…
— Знаешь анекдот? О том, как немец подтирает задницу? Берет трамвайный билет, отрывает от него кусочек, проделывает в оставшейся части дырку, засовывает туда палец, вытирает им задницу, а потом палец. Оторванным кусочком чистит ногти.
Петровский призывно захохотал, колыхая своим мощным животом, Богдан слабо улыбнулся, ему стало обидно за немцев, которые таким причудливым способом вытирали свои задницы.
От Петровского не укрылась дымка замешательства на лице у его подопечного, и он добавил:
— Конечно, я не о всех немцах… ведь были Маркс, Энгельс… Роза Люксембург. Эти люди были совсем не жадные, а самоотверженные, преданные делу революции.
Богдан расстался с Петровским в превосходном настроении: все сошло с рук, никаких табу на встречи с Инге, а он ожидал если не скандала, то сурового порицания, и далеко не в форме того невинного анекдота, никак прямо не связанного с Инге. Все-таки его шеф — превосходный мужик, и это надо ценить. Теперь он уже не мыслил своей жизни без Инге, не существовало в мире девушек, красивее и умнее ее.
Однажды пришла дурная весть.
— Меня отстранили от заграничных полетов…
— Почему?
— Не знаю.
— Но так не бывает, должна быть причина!
— Не смеши меня, Казимир! Где ты живешь? В Англии? В этой системе увольняют, если ты даже косо посмотрел на портрет Ленина…
Богдан любил образ вождя, простого, как правда, решительного, как на картине, где он обращался к толпам с броневика, всегда чуткого к людям, особенно, к крестьянам-ходокам. Любил искренне, но промолчал и решил не дарить Инге шкурку убитой белки, из которой можно сделать шапочку.
Они прошли в кафе, унылое настроение не помешало Инге съесть огромный, утопавший в жире айсбайн. В конце концов, все в этом мире временно, включая полеты за границу. Плохое всегда уравновешивается хорошим, не исключено, что после этой неудачи она найдет на дороге бриллиантовое кольцо. Главное, что они здоровы и любят друг друга.
— Могу я задать тебе вопрос? Я об этом тебя никогда не спрашивала. Что это за «фольксваген» приезжал за тобою, когда ты прилетел в Берлин? Машина к трапу? Это привилегия больших шишек. Или Штази.
— Когда это было? — он выигрывал время, мучительно придумывая вразумительный ответ.
— Не делай вид, что забыл. У тебя все написано на физиономии. Разве ты не помнишь, когда тебя выворачивало?
— Этого я тебе не могу сказать, — Богдану не хотелось врать.
Расплатились, молча пришли к ней на квартиру.
— Тогда еще один вопрос, — Инге не унималась. — Ты знаешь, что частенько говоришь во сне?
Эта была новость, не отраженная даже в его служебных характеристиках. Неужели он говорит во сне? Сны ему снились, но там он помалкивал и больше наблюдал. Случались и сны-воспоминания: карнавальный вечер во львовском Политехническом, где у него во время танца лопнула бечевка в шароварах запорожского казака. Или сны-фантазии: совсем недавно он попал под проливной дождь, в котором каждая капля была мертвой белкой…
— Что же я говорил?
— Ты говорил по-русски, иногда по-украински… Зачем ты притворяешься поляком?
— Ты меня удивляешь, Инге! Ну какой поляк не говорит на этих языках? Мой отец воспитывался в Российской империи.
— Во сне люди говорят на своем языке.
— Ты просто сегодня в плохом настроении.
Он возмутился, оделся и вышел, хлопнув дверью так громко, что посыпалась штукатурка, успев на прощание бросить уж совершенно абсурдное:
— Ты шпионишь за мною! Шпионишь!
На улице, возмущенный и разгоряченный, он попал под ливень, пыл его постепенно остывал, на сердце стало горько, он заскочил в гастштетте, выпил рюмку, затем другую, взял целую бутылку, удивив официанта. Пить не умел и знал это, однажды во Львове еще студентом после попойки ухватил на улице Коперника толстую тетку, подбросил ее вверх и поймал. Дело закончилось в милиции. Еле выбрался из гастштетте, качало, как на корабле во время страшного шторма, шарахались прохожие, уступая дорогу, долго ловил такси, прыгая на проезжей части, наконец какой-то добряк водитель смилостивился, и вскоре он предстал перед Инге, растерзанный, с заплаканными глазами.
— Инге, меня зовут Богдан Сташинский, я вовсе не поляк, я украинец и гражданин СССР.
Хватило ума не рассказать всего.
— Где ты работаешь?
— Я не хочу тебя обманывать, Инге, это государственная тайна, но обязательно расскажу тебе об этом.
— Когда?
— Когда ты станешь моей женою…
Она промолчала, и это придало ему силы.
— Я люблю тебя, я не могу жить без тебя, — лепетал боевик, стоя на коленях и целуя ей ноги.
Она погладила его по голове, это был знак прощения. Он улыбнулся и в ответ пошевелил ушами, он любил ее, как любит пес свою госпожу.
…Тем временем дело Сташинского всерьез исследовалось в кабинете генерала Хустова на Лубянке. Петровский внимательно следил за выражением лица своего шефа, листавшего дело Инге Поль, добытое у немецких друзей.
— Неужели этот дурак хочет жениться?
— Он совсем спятил, я просто не знаю, что с ним делать. Либо отзывать и ставить на нем крест, либо заставить ее порвать с ним, вплоть до угрозы выселения ее из Берлина.
— Но это уже слишком. К тому же нет гарантии успеха, любовь ведь, как известно, зла… Как бы мы не погубили все дело, — сказал Хустов, думая о том, что, пожалуй, ему пора начать курить трубку, к черту «Беломор», купить бриаровую трубку и набивать ее табаком папирос «Герцеговина флор», разламывая папиросину за папиросиной, как покойный Иосиф Виссарионович.
— Но он раскрылся, оправдан ли такой риск? — настаивал Петровский, радуясь про себя мнению шефа, но в то же время страхуясь на случай негативного поворота всего дела.
— Вообще, должен вам сказать, боевики — люди необычные и часто непредсказуемые. Не всякому дано убить человека. Все это нужно понимать. Кстати, что вы имеете против этой немки? Она неблагонадежна?
— Этого я не говорил. Беда лишь в том, что она немка.
— Из любого правила есть исключения. Кстати, у заместителя Дзержинского Петерса жена была англичанкой.
Хустов на счет Дзержинского имел особое мнение, генерал в свое время работал в архивах, куда допускались лишь одиночки, и вычитал, что Дзержинский — наполовину еврей, наполовину поляк, любитель красивой жизни и заграничных курортов. Он раскопал меню, предписанное Железному Феликсу врачами, он был мнителен и постоянно лечился, сидел не на черном хлебе и водице, как рассказывалось в советских учебниках, а питался супами из спаржи, телячьими котлетками, стерлядкой паровой, цыплятами маренго, похлебкой боярской. Хустов не выносил евреев, заполонивших ЧК-ОГПУ, и почитал латыша Петерса.
— Но тогда были совсем другие времена, — возразил Петровский. — Тогда вообще в разведке служили одни евреи и латыши… — он осекся, вспомнив, что Хустов ведет свою родословную с Северного Кавказа, национальности его Петровский точно не знал. Ходили слухи о ратных подвигах — депортациях чеченцев и ингушей, совершенных генералом вместе с недавним шефом всей службы Иваном Серовым, возможно, и сам он был чеченцем, а может, и тайным евреем, от которых органы еще не очистились.
— Давайте будем реалистами, — продолжал рассуждать генерал. — Разве плохо нам иметь боевика-нелегала, женатого на немке? Чудная легенда, легко осесть в любой стране. Вы верите Сташинскому?
— Верю, насколько может верить чекист. Главное, что он уже закреплен на боевом деле…
— Да… Как писал поэт, «дело прочно, когда под ним струится кровь», — Хустов подивился своей памяти, вытянувшей неожиданно строчки из «Алеко», все-таки не зря работал над собой. — И в воспитательных целях им надо организовать медовый месяц в Советском Союзе. По классу «люкс».
Хустов пожал Петровскому через стол руку и, оставшись один, залез в ящик и достал блокнот. В свободное, а иногда и в не свободное от ответственных трудов время генерал писал стихи, причем проникновенно лирические, и история Сташинского живо родила в его утонченной голове идею конфликта между долгом и любовью. Набросал несколько строк, получалось плохо. Чтобы зажечься, достал «Балладу Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда, недавно взятую в служебной библиотеке, составленной из книг арестованных.
- Не в красном был Он в этот час,
- Он кровью залит был,
- Да, красной кровью и вином
- Он руки обагрил,
- Когда любимую свою
- В постели Он убил.
Здорово написано, хотя автор — педераст. Самому писать расхотелось…
…Богдан любил Мюнхен, хотя и считал, что баварцы слишком горласты и агрессивны. Он быстро установил по фотографии дом Степана Бандеры, место ему не понравилось: слишком людное, слишком бойкое, правда, в случае чего весьма просто скрыться в толпе. Много учреждений в доме напротив, сплошные фирмы и фирмы, рядом стройка, уже возведены три этажа.
Сначала боевик решил осмотреть сам дом изнутри, открыл подъезд собственным ключом (его специально изготовили для операции), доехал на лифте до третьего этажа и поднялся пешком до этажа шестого, где проживал вождь националистов, скрывшись под фамилией «Бровка», сиявшей на медной пластинке над щелью для почты.
Богдан прикинул, откуда удобнее прыснуть газом (неужели опять ждать недалеко от двери?), но вдруг ему почудились налитые ужасом глаза Ребета, и его затошнило. Проклятие! Нет, надо стрелять! Злясь на самого себя, он выскочил на улицу, вытер платком выступивший на лбу холодный пот, перебежал на противоположную сторону и занял место в кафе, откуда хорошо просматривался подъезд бандеровского дома. Заказал содовой, тошнота постепенно улетучилась, зато фантазия проделывала фортеля: то он видел, как Бандера медленно, чуть-чуть покачиваясь, шел к подъезду, выстрел — и голова взрывалась, словно бомба, и осколки летели вокруг, снова выстрел — и из тела Бандеры бил в небо кровавый фонтан…
Боевик расплатился с официантом и перешел в дом с фирмами. Обзор с третьего этажа оставлял желать лучшего, повсюду сновали люди, из двери вдруг вышел расплывчатый толстяк, улыбчиво осведомился:
— Вы кого-нибудь ищете?
— Где тут фирма «Диор»? (Между прочим, любимые духи Инге).
— «Диор»? Работаю здесь двадцать лет и никогда не слышал… — он с подозрением оглядел незнакомца.
— Значит, мне дали не тот адрес, — вздохнул Богдан и нарочито медленно (не давать же деру из-за подозрительного идиота, тогда он вообще спятит и позвонит в полицию!), пошел вниз по лестнице, уходил без всякого сожаления, ибо и обзор был плох, и людишки вокруг, судя по толстяку, достаточно гнусные.
Стройка его заинтересовала, рабочих уже не было, место же для стрельбы было просто идеальным: второй этаж, рядом с грудой кирпичей, и не надо возиться с окном, стекло, естественно, никто не вставлял, настоящая бойница, специально созданная для стрельбы. Он уже твердо решил под любым предлогом уклониться от проведения «экса» в подъезде, а провести его именно на этой стройке, прилег, мысленно взял в руки винтовку, прицелился — бах! — Бандера, маша руками, словно ангел крыльями, легко и изящно взвился в небо. Хмыкнул от удовольствия, отряхнулся и вышел на улицу, ангельский вид Бандеры настраивал на благодушный лад, и самое главное: не было проклятой мути в груди.
Наставник встретил свое детище прямо в аэропорту и угостил в баре «Редебергером». Богдан настроился на детальный отчет о командировке, но шеф только замахал руками.
— Сегодня я тебя трогать на буду, поезжай-ка, браток, к своей Инге. Кстати, когда вы собираетесь расписаться?
Сама доброта, само благоразумие, слава богу, что в системе работают трезвомыслящие люди, а не дундуки, портящие кровь!
— Мы пока еще не решили… — сердце Богдана наполнилось жаром благодарности, значит, ему дали зеленый свет.
На следующее утро Богдан докладывал все варианты «экса», вычертив мелом план улицы и дома на школьной доске, взятой в трофей и наконец нашедшей достойное применение.
— Почему тебе не нравится вариант прямо в подъезде? — допытывался Петровский.
— Там бродит народ… Да и вообще любой посторонний на площадке вызывает подозрение!
— Но в прошлый раз все прошло блестяще! — настаивал Петровский. — Струя почти в упор, стопроцентная гарантия!
— Я еле выбрался из подъезда, видимо, тоже хлебнул газа… И вообще лучше не пытаться войти в одну реку два раза, — упорствовал Сташинский.
— Такого не может быть, ты же принял специальную превентивную таблетку.
— Как будто вы не знаете этим таблеткам цену!
Яды и прочие химикалии часто подводили, хотя их готовил цвет советской оперативной науки. У каждого подопытного кролика свое психическое состояние, некоторых и банкой таблеток не собьешь, а иные и от одного запаха валятся как подкошенные. Надо стрелять.
— На стройке совершенно спокойно, нет ни души, удобная опора для стрельбы. Идеальный вариант.
— Допустим… — медленно уступал Петровский. — А отход там удобный?
Отход был прост и безупречен: иди в любую сторону, это не душный подъезд с людьми, черт побери! И у лифта могут скопиться, и у двери стоять, и по лестнице бегать…
— Значит, не баллон… Что ты предлагаешь?
— Разборную снайперскую винтовку, потом я ее выброшу, недалеко пруд.
Остановились на немецкой модели, сразу же возникла проблема транспортировки — не тащить же такую дуру, даже разобранную, через границу! Решили, что винтовку с глушителем заложит в тайник надежный агент в Мюнхене. Еще раз прошлись по режиму дня Бандеры и выбрали для «экса» пятницу: в этот день объект возвращался домой в 6–6:30, отклонения случались крайне редко.
Итак, бесшумный выстрел, объект поражен. А дальше? Богдан не мыслил всей операции без помощника, циркулировавшего в районе операции на машине. Петровского такой вариант не устраивал: зачем расширять круг участников операции? Разве не известно, что чем больше людей, тем больше риска?
— Но в прошлый раз ты работал без напарника! — гнул свою линию шеф.
— С напарником надежнее. Он ожидает с включенным мотором, и никаких проблем! (И не кружится голова за рулем, и не тошнит — но об этом промолчал).
— Может, к тебе целую резидентуру подключить? Никаких напарников! И больше эту тему не поднимаем, хватит!
Петровский побарабанил пальцами по столу, чуть выждал, пока пена спора сама собой осела, и порадовал приятной новостью: руководство решило отправить его вместе с Инге на Кавказ. Отдохнуть на лучшем курорте. По фальшивым документам. При полной конспирации со стороны Инге. Родителям и знакомым — ни слова.
— Медовый месяц! — заключил свою речь Петровский.
На следующий день Сташинский привел на конспиративную квартиру свою будущую половину и оставил наедине с Петровским для конфиденциальной беседы — мужьям присутствовать не полагалось. Инге держалась вежливо и напряженно, что не укрылось от Петровского, впрочем, все это было легко объяснимо.
— Что ж, давайте познакомимся поближе… — Петровский пустил в ход все свое обаяние, словно само солнце излучало свет из-за стола. — Я очень рад, что у вас будет семья. Однако есть один деликатный вопрос. Богдан связан с очень секретной организацией, которая борется с империалистическими силами. Мы помогаем немцам строить социализм, это не так просто. Вы меня понимаете?
— Я не такая глупая, хотя, честно говоря, очень слабо разбираюсь в политике.
— Что значит «слабо»? Вы читаете газеты?
— Иногда.
— Напрасно, там есть много интересного. А что вы вообще читаете? Анну Зегерс? Энценсбергера? Ходите ли вы в «Берлинер ансамбль»? Любите ли Брехта?
— Я предпочитаю классику… Шиллера, Гете, Томаса Манна.
Петровский, конечно, никого из упомянутых авторов и в руки не брал, однако он всегда тщательно готовился к встречам и прикидывал, каким образом поразить собеседника эрудицией. Это было нетрудно — достаточно поднять последние номера «Литературной газеты» или «Иностранной литературы». Блеснув познаниями в области культуры, Петровский в расплывчатых тонах начал вещать о необходимости строжайшей конспирации, нарушение которой могло бы привести даже к смерти Богдана.
Она возненавидела его сразу и навсегда.
Медовый месяц сначала провели под Москвой, на пышной спецдаче, побывали в Горках, где жил Ильич, не забыли посетить и Оружейную палату, вечерами — Большой, где Богдан, далекий от театра, дремал, приводя в негодование Инге. На фоне разрушенного Берлина Москва выглядела неплохо, Сташинский вообще не признавал никакого города, кроме родного Львова, по красоте уступавшего, возможно, лишь Парижу. Инге столица показалась разбросанной, неуютной и испоганенной новостройками.
— Пойдем в мавзолей? — предложил он однажды.
— Я не люблю мертвецов…
— Но это же не мертвец, это же сам Ленин! — Богдан возмутился, услышав такой отзыв о великом вожде.
— Я устала, Богдан…
Она действительно устала, правда, не понимала отчего. После Москвы — гостеприимный Кавказ, сановный коттедж недалеко от Сочи, назойливо-улыбчивая, тайно ненавидевшая прислуга, икра черная, икра паюсная, икра красная, осетрина, белуга, севрюга, семга et cetera, экскурсии по живописным местам и по достижениям советской власти.
— Лишь после Октябрьской революции трудящиеся получили право не только на труд, но и на отдых, — гордо говорил гид, простирая руку в сторону помпезных статуй и фонтанов. — Каждый год сюда выезжают сотни тысяч простых людей.
И действительно, по Сочи бегали толпы, скучивались в длинные очереди у редких закусочных и ресторанов, задевали друг друга локтями на пляжах. Инге впервые в жизни увидела море (как писал Пастернак, «приедается все, лишь тебе не дано примелькаться!») — и полюбила его. Часто брали лодку и уплывали подальше, там можно было спокойно говорить, не опасаясь подслушивания. Отдыхали беззаботно, но однажды грянул конфликт.
— Поедем сегодня на винный завод? — предложил Богдан.
— Я устала от достижений социализма, милый…
Сказано было нежно, но затронуло идейную преданность.
— Но они действительно существуют! — загорячился Богдан. — У нас нет ни помещиков, ни капиталистов, у нас все равны… Конечно, мы живем беднее, чем вы или Запад, но это временно, мы все-таки много потеряли во время войны… Не все так просто, Инге, давай говорить начистоту: кто бежит в Западный Берлин? Идеалисты? Хорошие люди? Ничего подобного! Бегут подонки и жулье, бегут потому, что хотят делать деньги. Разве они думают о других? Разве это лучшая часть нации? — он волновался и размахивал руками.
— Но все равно любая свобода лучше рабства. Хотя бы потому, что свободное общество можно критиковать и улучшать!
Удар в самое сердце. Он сам частенько об этом думал. Поругались, затем помирились.
Москва — Берлин, там тренировки на стрельбище, проработка всех вариантов операции. Наконец, час настал.
— Если что случится, Богдан, ты должен вести себя, как мужчина, — напутствовал Петровский, сдвинув брови и пронзительно глядя в глаза своему подопечному. Захват боевика с поличным не исключался: на этот случай имелся перстень с ядом, штука полезная, даже сам шеф фашистской разведки Вальтер Шелленберг перед рискованной операцией вставлял себе искусственный зуб с цианистым калием внутри.
— Все будет в порядке, мы всегда с тобой, Богдан. В случае чего мы позаботимся и об Инге, — успокоил его куратор и крепко обнял на прощание. — Ни пуха, ни пера!
— К черту! — по традиции отозвался Сташинский.
В Мюнхен прибыл в полдень, нашел машину, специально арендованную для него агентом, сразу же вынул из тайника винтовку, в 5:30 припарковался недалеко от стройки, быстро прошел к недостроенной стене, раскрыл атташе-кейс и собрал винтовку. Баллончик со смертельным газом прихватил с собой — мало ли что? Все дышало покоем, вокруг ничего не изменилось — лишь дом увеличился на два этажа и исчезли кирпичи у бойницы. Сбросил куртку, положил ее на пол и залег с винтовкой, чуть выставив ствол из окна. Мешали мухи, и особенно волосатый шмель, круживший над головой, словно над бочкой меда, шмель гудел и мешал сосредоточиться, шмель ныл и ныл, проклятое надоедливое насекомое!
Бандера все не появлялся, хотя часы уже показывали шесть десять, неужели именно в этот день он надумал пойти в кино или поразвлечься в ресторане с друзьями? Шмель ревел, как корова, Богдан попытался прибить его газетой, но тот ловко взмыл вверх и снова пошел на снижение, дразня боевика. В разгар битвы со шмелем и подъехала машина, Бандера вышел и медленно пошел к подъезду, взять его на мушку не составляло никакого труда, палец мягко нажимал на курок… и тут раздался громкий визгливый лай! Винтовка дернулась и глухо выпалила метра на три выше головы Бандеры, а он сам преспокойно скрылся в подъезде. Гнусная кривоногая такса, как она сюда попала?
— Молли! Где ты, миленькая? — послышался дребезжащий голос.
Сташинский метнулся в сторону, боясь попасться на глаза, Молли еще вяло полаяла и сбежала вниз к хозяйке. Неожиданно послышались звуки сирены, но полиция проехала мимо. Он выскочил из укрытия, добрался до автомобиля, доехал до пруда и выбросил оружие, затем оставил машину, взял такси и поехал на аэродром. Трясло, словно он только что своими руками задушил человека, боялся потерять сознание, голова горела, мутило, но, к счастью, не рвало. Что-то случилось, что-то лопнуло внутри. Самолет прибыл в Берлин поздно ночью, Инге спала, он начал тихо раздеваться, но зацепился за стул. Проснулась и зажгла свет.
— Богдан, что с тобой? Что с тобой?! — от ее крика у него сжалось сердце.
— Что такое?
— Ты белый, как полотно.
Он взглянул в зеркало и словно увидел себя в гробу: белое привидение, синеватые губы, глаза, торчавшие, как прозрачные фонари.
— Что случилось, Богдан?
— Я не могу рассказать.
Она заплакала, это доконало его, он тоже заплакал, неумело, словно тихо смеясь, заплакал и рассказал ей все: и о том, что он профессиональный убийца, и о том, как он убил Ребета и до сих пор видит его страшные глаза, и о рвоте, и о выстреле в Бандеру, и даже о таксе и ее хозяйке, из-за которых он промазал по цели.
— Богдан, это ужасно! Надо что-то делать. Ты что? Хочешь гореть вечным пламенем в аду? Ты сойдешь с ума, и я сойду с ума тоже.
— Но что я могу сделать? Уже поздно.
— Нужно уехать, разорвать с ними.
— Куда? Куда?
— Как, куда?! На Запад.
— Ты понимаешь, что говоришь? Меня там тут же посадят за решетку. А если не посадят, то наши найдут через несколько дней и прикончат, как собаку.
На следующий день Богдан связался с Петровским, ожидая страшного нагоняя, однако куратор спокойно выслушал его рассказ, сумев не показать своего недовольства, наоборот, дружески похлопал по плечу, ободрил, успокоил.
— Я же тебе говорил, что надежнее работать в подъезде… Уже есть положительный опыт, зачем мудрить?
— Не лежит у меня душа…
— Превозмоги, наступи на горло собственной песне, как учил Маяковский. И вообще душа — это понятие абстрактное, тем более в нашей профессии. Времени у нас в обрез, политбюро уже давно приняло решение об «эксе», если затянем, то с нас снимут штаны.
Снова вылетел в Мюнхен.
В тот же день начальник сыска Голованов положил перед Петровским стопку документов.